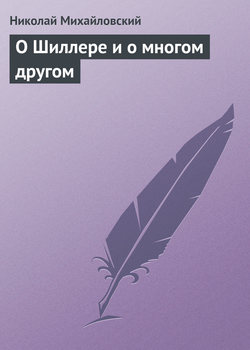Читать книгу О Шиллере и о многом другом - Николай Михайловский - Страница 1
ОглавлениеИзвестный знаток литературы и тонкий критик г. Полетика{1}, который всегда
В Шекспире признавал талант
За личность Дездемоны
И строго осуждал Жорж-Занд
За то, что носит панталоны,
предал меня однажды анафеме по поводу некоторой моей ереси о таланте и «искре божией». Как ни ужасна перспектива вновь подвергнуться сокрушительной логике и громоносному красноречию почтенного затрапезного оратора, но если Бог не выдаст, так, может быть, и г. Полетика не погубит. Так уж, впрочем, нам, профанам, на роду написано подвергаться анафеме специалистов и вообще знатоков. Им, конечно, и книги в руки. Но, с другой стороны, что же и мне-то делать, когда мне попались в руки книги, вновь поднявшие во мне ересь «искры божией»? Что делать?! Говорить, писать и опять выносить громы сокрушительной логики и красноречия затрапезных ораторов.
Недавно вышло пятым изданием «Полное собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей» (издание г. Гербеля). Кстати, почти одновременно явилась по-русски книга Шерра «Шиллер и его время» (М., 1875). Пятого издания русские книги, если не считать учебников и сказок вроде «Гуака» или «Милорда английского», вообще почти не доживают. Поэтому пятое издание Шиллера уже само по себе составляет факт, чрезвычайно занимательный. Пронял же, значит, нас, россиян, этот великий немецкий человек с рыжими волосами и голубыми глазами, этот «современник всех эпох», как он сам говорил о себе, отнюдь, впрочем, не думая пророчествовать. Принимая в соображение, что французов, англичан, не говоря уже о немцах, Шиллер пронял еще сильнее, чем нас, было бы любопытно выследить секрет этого могущества и живучести. Конечно, если свести дело к случайному щедрому дару природы, к стихийной силе таланта, гения, так оно, пожалуй, даже вовсе не любопытно: по известным нам причинам у заурядного вюртембергского офицера родился в 1759 году сын огромных умственных и поэтических способностей – вот и все. Физиологи могут биться и ломать головы над этим фактом, но нам, профанам, делать с ним нечего. Нас занимает другая сторона дела. Мы знаем в истории литературы, в истории политической немало людей с огромными умственными силами, ничуть, может быть, не меньшими, чем те, какими обладал Шиллер; и, однако, растративших эти силы либо почти совсем даром, либо оставивших по себе память позора и ненависти. Далее: «таланты от Бога», но нет ли чего-нибудь в шиллеровской мощи и «от рук человеческих»? Если бы удалось с достаточною точностию определить и выяснить эту человеческую сторону обаяния великого поэта, мы были бы в большом выигрыше. Мы не идолопоклонники, которые норовят разбить себе лоб перед величавым или грозным явлением природы (каков сам по себе талант, гений). Нам в особенности дорого то употребление, которое делается из таланта; те мотивы, которые заставляют человека обращать свои силы на такое или иное освещение тех или иных фактов; те цели, которые преследует человек, вспомоществуемый щедрым даром природы. Выясненный с этих сторон обладатель таланта перестает быть чем-то недосягаемым, чуждым, доступным только волнам фимиама и восторженным гимнам. Он перестает быть идолом и становится идеалом, образцом, маяком. Из нескольких тысяч одному удается оставить по себе яркий след и служить светочем целому ряду поколений, но это не мешает и простым смертным, изучая условия работы гениального человека, заимствовать у него что возможно, то есть то, что не связано непосредственно со стихийной силой таланта. Взять себе примером, образцом шиллеровский талант нельзя, если в собственных творческих силах недохваток, но то употребление, которое Шиллер делал из своего таланта, содержит – можно с уверенностью сказать заранее – урок поучительный и доступный.
Мы уже давно знаем фантастический образ художника, вольно, изящно и почти бессознательно порхающего в надзвездной лазури, охлаждающего наши земные боли единственно ароматным прикосновением своей легкой, из чудных невесомых материалов сотканной одежды. Мы давно его знаем, и он нам очень надоел, потому что на поверку всегда как-то так выходило, что из-под невесомой одежды выглядывал кончик уха гг. Болеслава Маркевича, Фета или Авсеенки{2}. Этот образ, когда-то (очень уж давно) привлекавший к себе столько нежных сердец, улетучился, но ныне после него осталось мокрое место. Повторяю это не совсем изящное выражение «мокрое место», потому что не могу иначе назвать критические упражнения большинства наших литературных хроникеров. Говорится что-то слякотное о том, как вредно стеснение для поэта, как всякие строго определенные нравственно-политические тенденции сковывают талант и проч. Не все, впрочем, говорят это. Приведу один пример, касающийся «Отеч. записок». Когда одновременно с появлением «Подростка» «Отеч. зап.» выразили моими устами{3} сожаление о некоторых печальных поползновениях чрезвычайно талантливого автора и заявили, что не могли бы допустить у себя появление его романа, если бы упомянутые поползновения переходили известную границу, газетные хроникеры были чрезвычайно взволнованы. Волновались между прочими хроникеры «Киевск. телеграфа» и «Спб. ведомостей»{4}. Хроникер первого напустился на нас за самое напечатание «Подростка» и в оговорке нашей увидел только лицемерие. Хроникеры же «Спб. ведомостей» (сначала сальясовский, а потом и баймаковский{5}, прочли в весьма строгом стиле противоположного свойства нотацию, что как, дескать, мы смеем стеснять талант г. Достоевского? Привожу это только как пример разноголосицы требований и спутанности понятий. От всяких комментариев воздерживаюсь и спрошу только: не своевременно ли будет обратиться к изучению задач и условий творчества признанных всем миром великих мастеров, дабы узнать, как следует вести себя нашим художникам? Шиллер для этого, мне кажется, особенно удобен. Во-первых, он – несомненная звезда первой величины, так что тут и споров никаких нет и быть не может; во-вторых, он писал сочинения по теории искусства. Значит, мы имеем здесь как бы собственные признания и эстетические desideria[1] первоклассного мастера. Выгоды – до исключительности редкие, и грешно было бы ими не воспользоваться. Не велика еще важность, если какой-нибудь г. Соловьев отстаивает ту или другую эстетическую теорию{6}. Может быть, он и совершенно прав, но его собственные поэтические произведения по крайней мере не служат гарантией пригодности теории. Шиллер – другое дело. Он создал произведения великие, создал их, соображаясь с известной эстетической теорией, а следовательно, эта теория дала плод вполне осязательный.
Чему же можно поучиться у Шиллера? Может быть, форме? Конечно, как и у всякого гениального художника. Однако только до известной степени. Возьмите, например, знаменитых «Разбойников». Карл Моор самым нелепым образом верит подложному письму якобы его отца, ни на минуту не сомневается в его подлинности, хотя признает его чудовищным и никогда ничего подобного не ожидал; мало того, это ни с чем не сообразное письмо вдруг побуждает его принять страшное решение – обратиться в разбойничьего атамана. Он разражается невероятными монологами, из которых вот один навыдержку: «Люди! люди! лживое, коварное отродье крокодилов! Вода – ваши очи, сердце – железо! На устах поцелуй, кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят своих детей, вороны носят падаль птенцам своим, а он, он… Я привык сносить злость, могу улыбаться, когда озлобленный враг будет по капле точить кровь из моего сердца… но если кровная любовь делается изменницей, если любовь отца делается Мегерой, о, тогда пылай огнем мужское терпение, превращайся в тигра кроткая овца и всякая былинка расти во вред и погибель!» Полагаю, что нынче и Дьяченко не решился бы вложить в уста герою такие напыщенные монологи и не мотивировал бы события так психологически неверно и, наконец, просто так плохо. Скажут, что «Разбойники» – юношеское произведение. Положим, что, даже оставляя в стороне «Разбойников» и однородные с ним драматические вещи: «Заговор Фиеско», «Коварство и любовь», мы увидим указанные недостатки в Шиллере: более или менее вытянутые монологи и странную внезапность, немотивированность решений и поступков действующих лиц. Таков длиннейший монолог Вильгельма Телля, когда он поджидает в ущельи Геслера, такова измена Бутлера в «Валленштейне», играющая в драме существенную роль, таково внезапное зарождение земного чувства в Иоанне д'Арк, когда она, «пораженная видом Лионеля, стоит неподвижно, и рука ее опускается», а между тем и этой внезапностью существеннейшим образом определяется дальнейшее течение драмы, и проч. Но не в этом совсем дело. Спрашивается: почему, несмотря на крайнюю незрелость и вместе с тем с теперешней точки зрения обветшалость форм «Разбойников», драма эта остается великим памятником и прочтется теперь, в 1876 году, всяким мыслящим человеком с несравненно большим наслаждением, чем бесчисленное множество современных и вполне «приличных» драм? Скажут, такова сила таланта. Но – это не ответ, это – только одно из все решающих и ничего не объясняющих таинственных выражений, как «судьба», «случай», «счастье», «несчастье» и т. д. Для современников Шиллера, в том числе и для таких, как Гёте, «Разбойники» ничуть не выделялись из целой массы этого рода произведений, вроде «Ардингелло», «Ринальдо Ринальдини» и т. п. И действительно, таланта, то есть собственно творческой способности, в них не больше. Но в них есть, кроме того, нечто, давшее Шиллеру дальнейшие толчки и оставившее вместе с тем на «Разбойниках» печать вековечности. Это нечто я называю – извините, г. Полетика, – искрой Божией. В чем она состоит, мы увидим сейчас несколько ближе.