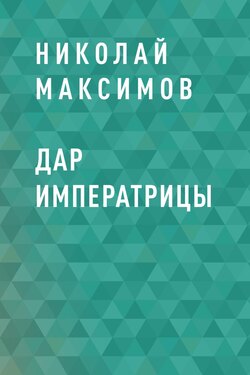Читать книгу Дар императрицы - Николай Николаевич Максимов - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеВек пройдет, а день останется.
Из чувашской народной песни.
Глава первая
Скитания по миру
1.
Девятое июня тысяча семьсот шестьдесят седьмого года. Ранним утром к Алатырю со стороны Симбирска приближался невиданный досель в этих краях кортеж. Его невозможно было охватить взглядом. Шум от сотен, а может и тысяч окованных колес, вливаясь во что-то цельное, накрывал всю округу таким грохотом, что казалось, будто это нескончаемый гром извергается одновременно и с небес, и из утробы земли. Спереди и сзади кортеж сопровождали конные отряды численностью до двух сотен, с пушками на лафетах, которые тащили пары бельгийских тяжеловесов. При этом отряды авангарда и арьергарда совершенно отличались друг от друга амунициями. Между ними тянулась бесчисленная колонна из карет одна изящнее другой. Под лучами поднявшегося уже на вершок солнца они поблескивали так, что рябило в глазах. Особенно выделялся экипаж в центре, запряженный в шестерку. Кроме колес и подножек, она вся была покрыта позолотой, а может и настоящим золотом. Бросались в глаза непривычно большие размеры кареты.
Проживающие вдоль тракта люди на своем веку видали всякое. По нему постоянно курсировали и кареты, и шарабаны, и кибитки, и повозки с большими чинами из стольных градов, генералами и именитыми сановниками, дворянами и купцами, чиновниками разного ранга и простыми крестьянами. Иногда проезжали даже губернаторы, держа путь по летам в Москву, а по зимам – аж до самого Петербурга. Но такого кортежа, такого каравана, ей-богу, доныне не было никогда. Сколько карет, сколько слепящего глаза блеска, сколько коней, а еще людей! Потому державшие путь в город двое крестьян были буквально ошарашены и, уступив дорогу кортежу, отвели свой возок в сторону, сами же, встав на обочину, наблюдали за происходящим, разинув рот. Изумленные мужики даже не заметили, что со стороны Алатыря навстречу кортежу мчалась верхом и в тарантасах солидная группа людей. Они по ходу что-то грозно выкрикивали им. Только если бы крестьяне и услышали их, все равно вряд ли что бы поняли, ибо это были не знавшие русского языка чуваши, ехавшие в город по своим надобностям.
Вот мимо них колонной по два прогарцевали всадники в голубых кафтанах, красных шароварах, черных сафьяновых сапогах, высоких папахах из овчины. Все опоясаны красными шелковыми кушаками, на которые навешаны кривые, как у турок, сабли; еще у каждого в левой руке длинная пика, за спиной – пищаль. Вслед за конниками прогрохотали не менее двух десятков лафетов с пушками. Затем пошли кареты… А чувашские мужики все стояли, забыв даже рот закрыть. Но тут одна из карет, следовавшая впереди самой большой, вдруг остановилась, и из нее вышел высокий здоровый вельможа. Он широкими шагами прямиком последовал к остолбеневшим зевакам. Вельможа совершенно отличался от только что проскакавших кавалеристов. На голове – толстый волнистый светлый парик. Одет в голубой кафтан из шелкового репса, под которым виднелся зеленый камзол с бесчисленным количеством золотых пуговиц. И штаны его совершенно иные, чем у только что проехавших всадников – лишь по колено. Ниже этих плотно прилегающих к бедрам колгот – светлые шелковые чулки с немыслимыми узорами и башмаки с пряжками. Довершала все это шпага с гнутым эфесом, которая торчала из-под левого разреза кафтана.
– Эй вы, свиньи, почему не чествуете императрицу?! – прикрикнул вельможа на мужиков.
Тут же к ним одновременно подтянулись казацкий есаул и алатырский воевода со своей свитой. Есаул на всякий случай лихо вынул саблю из ножен. А глава провинции, впопыхах споткнувшись о подножку тарантаса и еле удержавшись на ногах, спустился на землю. Вслед за ним спешились сопровождавшие его всадники. И все, поворачиваясь то к великолепной карете, то к подошедшему к чувашам вельможе, начали делать глубокие поклоны. Вельможа будто и не заметил их, начал песочить неразумных мужиков.
– Вы, черви земляные, слепые что ли?! – грозно рыкнул он на них.
Чуваши, не понимавшие по-русски, растерянно переглянулись, затем оглянулись по сторонам и продолжали стоять, не ведая, чего от них хотят и что им делать.
– Сказано вам, делайте поклоны! – заорал на них теперь уже воевода, не знавший чувашского языка. – А ну клонить пусь*!
Чуваши, поняв, что речь о голове, сняли малахаи, пятернями привели в порядок давно не чесаные волосы, растерянно поскребли затылки.
Злость вельможи, похоже, переполнилась.
– Есаул! – обратился он к казацкому офицеру. – Я обвиняю этих бестолочей в откровенном проявлении неуважения к императрице и велю казнить немедленно. Исполнять!
– Слушаюсь, Ваше Сиятельство! – выпрямившись в седле, ответил есаул и поднял давно вынутую из ножен саблю вверх.
Вообще до Екатерины Второй в России казнь путем отсечения головы не применялась более двух десятков лет. Теперь такое наказание постепенно становилось привычной. Касалось оно, правда, лишь самых отъявленных, жестоких бандитов, разбойников и государственных преступников. И все же казацкий офицер нисколько не удивился приказу сановного вельможи, развернув коня, вплотную приблизился к стоявшим на обочине чувашам.
– Не здесь же, не на виду у всех, – брезгливо предупредил его вельможа. – Отведи хотя бы вон за те березы.
В этот момент из золотой кареты вышла невысокая дама, вся сверкая невиданным в этих краях платьем и ожерельем с крупными жемчугами. По тому, как горделиво и статно себя держала, чувствовалось, что она тут самая главная. Вслед за ней из кареты, осторожно вытягивая тоненькие ножки, спустились на землю еще две дамы. Тут же из последующих карет высыпали другие вельможи, почтительно встали за главной дамой на некотором расстоянии. При появлении всех этих людей спорщики враз перестали выяснять отношения и замолкли, а когда важная дама и ее сопроводители подошли ближе, все изогнулись в глубокий поклон, да так и застыли. Воевода и его свита вообще чуть ли лбом земли не касались, казалось, подуй сейчас ветер, так они тут же опрокинутся и покатятся, как перекати-поле. Только два чуваша по-прежнему стояли навытяжку и ошалело посматривали на все это ничего не понимающим взглядом.
– Григорий Григорьевич, что тут у вас происходит? Почему мы остановились? – требовательно осведомилась важная дама у вельможи.
– Ваше Величество Екатерина Алексеевна, вот эти мужички осмелились открыто проявить неуважение к тебе. Я изволил их за это сильно отругать, однако, сама видишь, они не стали бить поклоны даже при твоем появлении здесь. Страшно упрямые канальи! Потому я приказал есаулу казнить их путем отсечения головы. Мужикам только раз дай спуску…
– Вот как, уважаемый Андрей Никитич, почитают главу государства твои подданные, – то ли шутя, то ли осуждая, произнесла оказавшаяся царицей России дама одному из стоявших возле себя вельможе – казанскому губернатору Квашнину-Самарину.
– Виноват, Ваше Величество, – молвил тот. – Втолковать что-либо инородцам – дело архи сложное. Но я осмелюсь напомнить: Алатырская провинция состоит в Нижегородской губернии.
– Яков Семенович, выходит, это твои люди не уважают главу государства? – слегка повернув голову, обратилась императрица к другому вельможе.
Нижегородский губернатор Аршеневский не нашелся, что на это ответить.
– Вот потому я и толкую вам: обращение инородцев в православие – дело первостепенной важности, – назидательно заявила императрица всем. – Лишь наша вера приучит их к беспрекословному подчинению власти. «Всякая власть от Бога», – говорит она устами апостола Павла. Эту мысль надо вдолбить всем простолюдинам так, чтобы она гвоздем торчала в их головах. По сему требуется ускорить крещение инородцев всеми возможными способами. И дело это первейшей важности не токмо для церкви, но и для вас, господа.
– Истину говоришь, матушка-государыня.
– Да мы стараемся. Но и то верно, что, видно, недостаточно, – согласились губернаторы.
Тем временем царица велела вельможе в голубом кафтане:
– Так, давайте завершите сие дело и тронемся. Сильно я устала, хочу немного отдохнуть. Ведь, окромя остановки на ужин в селе Спасское, сто шестьдесят верст отмахали безо всякого привала.
– Отдых запланирован в Алатыре, – сообщил вельможа, приказавший казнить чувашских мужиков, – это был граф Григорий Орлов. – Мы тебя, Екатерина Алексеевна, устроим в доме воеводы Воронцова.
– А достойный он человек? – поинтересовалась царица.
– Достойный, очень даже достойный, – уверил Орлов. – Коллежский советник Алексей Гаврилович Воронцов – близкий родственник скончавшегося в феврале канцлера, графа Михаила Илларионовича Воронцова. Да вот он и сам здесь изволит быть…
Орлов, подтолкнув в спину¸ выпрямил воеводу и подвел к императрице.
– О-о! – воскликнула Екатерина. – Весьма рада видеть родственника Михаила Илларионовича. А можно подробнее: кем ты ему приходишься?
– Я – сын двоюродного брата Михаила Илларионовича, – охотно сообщил воевода.
– Прекрасно, прекрасно, – удовлетворилась Екатерина, тут же снова приказала Орлову: – Григорий Григорьевич, ну, так давай, поехали уже. Спешим же, не можем останавливаться по всяким пустякам. Дорога здесь неважная, так мы до Москвы и за неделю не доберемся.
Тут есаул, слегка пошлепывая мужиков в спину плашмя саблей, повернул их и повел к придорожным березам. Поняли ли чуваши, наконец, чего от них хотят эти люди, или нет, но послушно поплелись, понурив голову. Непонятно, чем бы все это завершилось, но вдруг к месту происшествия подлетел один из казаков, легко спрыгнув с коня, бросился под ноги императрице, встал на колени.
– Ваше величество! Любимая из любимейших наша императрица Екатерина Алексеевна! Пожалуйста, останови это беспричинное убийство! – выговаривая по-русски не очень чисто, но вполне ясно, попросил казак. – Прости ты этих мужиков. Чуваши они, по-русски не понимают. Может, они не то что таких ясновельможных, сияющих как солнце людей, а простых помещиков отродясь не видали. Они не приветствовали тебя не из-за неуважения, а из-за непонимания того, кого им осчастливилось увидеть. Потому и не ведают, как себя вести в подобных торжественных случаях. Ваше Величество, будь богиней, прости ты их, несмышленых.
Не ожидавший такого поворота Орлов на какой-то момент оторопел. А есаул повернул коня в сторону казака и остановился рядом с ним.
– Каналья, ты что вытворяешь! Кто тебе разрешил приближаться к царской особе?! – грозно прикрикнул он. Сам тем временем изящно вложил саблю в ножны и из-за пояса достал нагайку, поднял ее, намереваясь ударить нарушителя порядка.
– Есаул, постой, не спеши, – слегка махнув ручкой в белой перчатке, остановила его Екатерина. Затем спросила у казака:
– Ты откуда знаешь, что они чуваши?
– Ваше Величество, да он вообще не казак. Принять его в свой отряд меня просто заставили. Сказали, что, готовясь к поездке, ты самолично приказала пополнить отряд охраны выходцами из народов Поволжья, – раньше казака начал объяснять есаул, заикаясь. Похоже, он струхнул не на шутку, полагая, что за выходку своего подчиненного в первую очередь могут наказать его самого как командира.
– Есаул, не у тебя спрашивают! – осадил казацкого офицера Орлов. – Ежели Ея Величество и повелела сделать так, как ты смеешь усомниться в ее правоте?
– Да я же… Ваше Величество, Ваше Сиятельство, простите великодушно. Я же просто это… – в совершенном смятении пробормотал есаул и, пошлепывая понимающего его с полуслова коня по загривку, потихоньку отъехал в сторонку от греха подальше.
Тем временем казак-чуваш прямо на коленях придвинулся ближе к императрице, взяв в руку краешек подола ее платья, поцеловал, затем сделал поклон, аж коснувшись лбом земли.
Ваше императорское Величество, пожалуйста, отмени казнь этих чувашей! – чуть ли не взмолился он. – Говорю же, они до сих пор наверняка не то что царицу, простого барина не видали. Известно же, чуваши – казенные крестьяне. Да и по-русски мало кто из них разумеет. Чувашу нелегко выучить ваш язык, по себе знаю. Ваше Величество, пожалуйста, не позволяй казнить провинившихся беспричинно людей!
– Стало быть, чуваш ты… – что-то размышляя про себя, промолвила царица.
– Истинно так, я – чуваш. Из Казанской губернии. Хотя родина моя отсюда совсем недалеко. По бумаге значусь Сентиером Медведевым… Ваше величество, весь народ знает о твоем великодушии. Я тоже искренне верю в это. Иначе ты не стала бы брать нас, чувашских и татарских солдат, в эту поездку. После шести лет службы я наконец-то подышал воздухом родных мест, большая благодарность вам всем за это. А теперь прошу, сделай для чувашей еще одно доброе дело – снисходись к ним и не дай погибнуть ни в чем не повинных моих земляков!
– Как это ни в чем не повинных! – вместо царицы заметил опомнившийся граф Орлов. – Они выказали полное неуважение к императорской особе.
– Ваше Сиятельство, они просто темные люди. У них в голове нет никаких дурных мыслей! – начал уговаривать Сентиер теперь уже вельможу.
– Ваше Сиятельство, этот казак…солдат… э-э, назначенный казаком солдат все верно говорит. В голове чуваша, действительно, нет мыслей. Ни дурных, ни хороших. Да и как могут быть у них какие-то мысли. Народец просто скот, – то ли намереваясь защитить овиноватившихся мужичков, то ли стремясь, чтобы его самого заметили, произнес казанский губернатор Квашнин-Самарин. – Ваше Величество, присланная нам самим Господом любимая наша царица…
Екатерина, небрежно махнув рукой, остановила губернатора, внимательно оглядела все еще стоявшего на коленях казака-чуваша, еще о чем-то поразмыслила и решительно повелела:
– Ты, казак-чуваш, иди, займи свое место в строю… Граф, а ты отмени свой приказ.
– Екатерина Алексеевна! Като! Ты что творишь? – обозлился Орлов. – Я уже велел казнить не почитающих тебя людишек. Я – граф, генерал-адъютант, не могу отменять свой приказ по просьбе какого-то казака-чуваша!
– А я – императрица всея Руси! – возвысила голос Екатерина. – Я могу отменить любой приказ, чей бы он ни был!
Граф пронзил ее недовольным взглядом, дернулся, пытаясь что-то возразить, но промолчал.
Впрочем, императрица больше не стала внимать никому, развернулась и степенно пошла к своей карете. Остановившись перед ее дверью, предусмотрительно открытой лакеем в ливрее, она, изящно повернув голову, взглянула в сторону казаков и заметила среди них того, кто только что стоял перед нею на коленях. Да и невозможно было его не заметить. Казак-чуваш не только высок ростом, да еще и широкоплеч. Кажется, он назвал себя Медведевым. А ведь и вправду медведь. Притом очень даже пригожий…
Как только Екатерина села в карету, Орлов взмахом руки велел двухкилометровому кортежу тронуться. Вскоре голова колонны оказалась у города Алатыря. Здесь опять пришлось остановиться. Как и полагается, встречать высочайших гостей вышли чуть ли не все горожане. Правда, в передних рядах находились в основном дворяне, купцы и чиновники. И не только местные. Здесь было немало цивильской и чебоксарской* знати. Они выделили немало лошадей и карет для царского кортежа, потому многие приехали не только из уважения к императрице, но и затем, чтобы последний раз увидеть своих четвероногих питомцев.
Вот, наконец, авангард кортежа въехал в город. Со всех колоколен многочисленных храмов ударил колокольный перезвон и бой курантов, который разносился на всю округу. Стоявшие по обеим сторонам улиц военные – гусары роты Грузинского полка, вытянувшись во фрунт, отдавали честь высоким гостям, их кони, как бы понимая торжественность момента, стояли, не шелохнувшись, даже не отмахиваясь хвостом от мошкары.
Через четверть часа карета Екатерины Второй остановилась у дома Воронцова. Сам воевода успел ее опередить и теперь встречал императрицу с калачом и солью на серебряном подносе. Екатерина не стала излишне церемониться, наскоро отломив кусочек хлеба, тут же отправила его в рот, даже не обмакнув в солонке, тут же спешно поднялась по ступенькам парадного крыльца, оказавшись в передней просторного дома, попросила немедленно отправить ее в выделенные покои. Она действительно сильно утомилась, и все отнеслись к ее просьбе с пониманием. Пока воевода выставил вокруг своего двора охрану, в опочивальню к Екатерине прошмыгнул граф Орлов…
В час пополудни воевода в своем доме, больше похожем на дворец, дал прием. Удостоились чести присутствовать на нем девятнадцать человек. А ровно через три часа отдохнувшая и посвежевшая Екатерина вышла на крыльцо и села в специально поставленное кресло. Тут же к государыне потянулись получившие на это разрешение люди. Они целовали ей ручку, некоторые при этом в знак всемерного уважения становились на колени. А удостоились этой чести сам воевода, местные дворяне и купцы с женами и дочерями, старшина и офицеры квартирующей в городе части «Донской армии», архимандрит Свято-Троицкого монастыря Геннадий и его монахи, архимандрит женского Киево-Николаевского монастыря Александра и его монахини, архимандрит саранского Петровского монастыря Александр и другие знатные люди. Приветствуя императрицу, архимандриты сделали императрице знатные подарки – вручили иконы разных святых. Так Екатерина Вторая оказала честь всем знатным людям Алатыря и близлежащих городов, тем самым укрепив их престиж среди горожан и прихожан.
Ровно в семь часов вечера – все-таки есть у Екатерины немецкая точность! – кортеж императрицы тронулся в путь в сторону Арзамаса. Попрощавшись при выезде из города с воеводой и архимандритами, Екатерина хотела было позвать в свою карету Орлова. Впереди длинная дорога, время уже клонилось к вечеру, а озаботиться нужно не только государственными делами… Но тут она нечаянно окинула взглядом двигавшуюся в авангарде колонну казаков. Среди них один выделялся особо и ростом, и шириной плеч. Даже с такого расстояния в нем чувствовалась дикая, мужицкая мощь. Как же его звали-то… Нет, не вспомнила Екатерина чувашское имя. А вот фамилия прямо на кончике языка: Медведев. Черт бы его подрал, ведь на самом деле настоящий медведь. Очень привлекательный медведь… Пригласить в карету Орлова ей почему-то расхотелось.
2.
Происшедшее близ Алатыря недоразумение забылось скоро. Екатерине тогда было не до подобных мелочей. Сразу по выезду из Симбирска ее мыслями овладелала одна очень важная забота. Почему она на следующий день и не впустила графа Орлова в свою шестиместную карету, да и обычно шумливым фрейлинам приказала ехать, закрыв рот.
Пять лет назад Екатерина с помощью преданных ей гвардейцев убрала с царского престола мужа Петра Третьего Федоровича – на самом деле Карла Петера Ульриха Голштейн-Готторпского, ставшего Петром в 1742 году по хотению царицы Елизаветы Алексеевны. Совершив государственный переворот, она полностью забрала бразды правления огромной страной в свои руки. При этом полагала, что, если и не весь народ, то уж военные-то окажутся на ее стороне. Ведь она и согласилась-то сместить с престола своего мужа лишь потому, что за нее стояли горой гвардейцы. Но то ли потому, что ее супруг, находившийся во дворце Ропше, вскоре скончался при странных обстоятельствах, то ли по причине того, что все не получалось улучшить условия их службы, гвардейцы на новую царицу начали роптать. Иные начали поговаривать, что если и скинули с престола Петра Федоровича, все равно на его месте должен был оказаться сын Павел, а никак не жена.
Эх, хоть бы чуток улучшить жизнь людей, хотя бы ненамного повысить гвардейцам денежное довольствие, тогда большинство недовольных быстро забыли бы свою неудовлетворенность переворотом. Только ведь всем не растолкуешь, что даже императрица может не все. Люди же не ведают, что за время правления Петра Третьего государственная казна опустела совсем, простым военным даже приходилось задерживать выдачу жалованья до трех-четырех месяцев, а хозяйственная деятельность государства, особенно торговля, из-за господства монополий оказалась на грани краха. Не зря Петра Третьего невзлюбили даже церковники, у которых царь отобрал немалые земельные угодья. Конечно, за эти пять лет Екатерина из кожи вон старалась всем предоставить какие-то послабления, успокоить недовольных. Но много ли сделаешь, коли в сундуках казны хозяйничают одни мыши. Тем временем шаткое положение императрицы на троне начали чувствовать и за рубежом. Одним словом, Екатерине Второй кровь из носу, а нужно было показать и российскому народу, и Европе свою крепость. Ведь она в выпущенном после занятия престола манифесте уверяла, что встала у руля государства по воле народа, потому, дескать, и невозможно было признать царем России сына Павла.
Вообще Екатерина сумела сделать кое-что понравившееся народу и без расходов казны. Многие, не только простолюдины, облегченно вздохнули после выхода указа о том, что цены на соль отныне устанавливала государственная власть. Еще бы, ведь после этого она с пятидесяти копеек за пуд сразу снизилась до тридцати. Многим ремесленникам помог подняться запрет на привоз из-за границы товаров, которые производились в России. Однако знать, не ведавшая нужды простолюдинов, ничего этого просто не замечала. А устойчивость власти зависела, прежде всего, от ее отношения к императрице. Стало быть, Екатерине требовалось показать всей стране и миру, что она любима народом российским и на троне сидит крепко. Иначе ее судьба могла оказаться чревата всякими неожиданностями.
Потому она в 1767 году задумала совершить большую поездку по Волге – самому густонаселенному и разношерстному краю России. Несмотря на скудость казны, для этого в Твери, откуда брало начало путешествие, спустили на воду двадцать пять кораблей. Сама императрица разместилась на тринадцатибаночной галере «Тверь». С собой она взяла братьев графов Григория и Владимира Орловых и двух фрейлин. Но не они были главными лицами в этой поездке. В свиту императрицы входили министры и послы многих зарубежных стран. Среди них испанский виконт Дегерерский, представитель знатного австрийского рода цесарь князь Лобкович, прусский граф Сольмс, датский барон Ассебург, саксонский граф Сакчен. Вместе с чинами флота, артиллерии, адмиралтейства и солдат охраны эскадра из пассажирских и транспортных судов насчитывала более двух тысяч человек.
Путешествие еще не началось, а Екатерина Вторая уже заставила заговорить о себе более чем уважительно. Головной корабль эскадры галеру «Тверь» спустили на воду второго мая. Это был день Преполовения. В честь него и одновременно по случаю спуска на воду корабля в соборной Спасо-Преображенской церкви провели литургию, после чего начался крестный ход. Тут совершенно некстати хлынул ливень. Однако Екатерина прошла вместе со всеми до самой пристани. В одной из газет по этому поводу восхищенно писали: «…и хотя погода была не очень хорошая и дождь непрестанно шел, однако Ее императорское Величество будучи всегда теплым к богу усердием преисполнена изволила от самого собора до пристани (где было сооружено место для освящения воды)… пешествовать за духовенством». В дальнейшем, останавливаясь чуть ли не в каждом мало-мальски значимом поволжском городе, Екатерина Вторая набирала авторитет, стараясь, чтобы не только местная знать, но и вся Европа видела, насколько любит и почитает свою императрицу российский народ. В этом ей сильно способствовали губернаторы, главы городов и уездов. Чего скрывать, это императрице понравилось больше всего. И очень жаль, в Симбирске ее нагнал посланный канцлером Паниным кабинет-курьер. Он сообщил, что цесаревич Павел Петрович внезапно сильно занемог. К слову сказать, Никита Иванович Панин – он не только канцлер, он еще и наставник, воспитатель цесаревича. Если бы Павел болел не так сильно, он вряд ли стал беспокоить императрицу… Так, через три дня пребывания в Симбирске, в течение которых был снаряжен конный кортеж, восьмого июня Екатерине пришлось прервать поездку по Волге и отправиться в Москву по суше.
Впрочем, из-за этого императрица переживала не очень. Езда есть езда, какие бы удобства прислуга не создавала, а все одно устаешь до чертиков. К тому же российские города совсем не похожи на города в ее родной Пруссии, обычных бытовых удобств в них гораздо меньше. Даже в Симбирске – центре самой крупной провинции Казанской губернии! – для нее еле нашли один-единственный подходящий дом. Да и того хозяином оказался не дворянин, а купец. Хотя самым неприятным в поездке оказалось вовсе не это. Все эти дни она вела себя так, как не подобает императрице великой державы, стараясь через не могу угодить сопровождающим ее напыщенным иностранцам. А еще – церковным деятелям. Чтобы им понравиться, она отдельно посетила Ипатовский, Макарьевский монастыри, множество соборов и простых храмов. А ведь просто так в них не войдешь, везде приходилось оставлять весьма ощутимые подарки.
Хотя, конечно, и в России город городу рознь. К примеру, Екатерина осталась разочарованной знаменитым, казалось бы, Нижним Новгородом. А вот соседние Чебоксары произвели более приятное впечатление. Туда она перебралась с галеры на большой шлюпке. На берегу ее встретила солидная делегация: казанский губернатор Квашнин-Самарин, воевода Чебоксар, дворяне округи, купцы. Императрица посетила Троицкий монастырь (как же без этого!), в доме купца Соловцова попила чаю. Затем пожелала съездить в рощу адмиралтейства, своими глазами увидеть знаменитые чувашские корабельные дубы. Везде ей нравилась обстановка, поведение людей, чистота и опрятность. И вечером, будучи уже на пути в Казань, она записала в дневнике после слов о Нижнем Новгороде: «Сей город ситуациею прекрасен, а строением мерзок. Чебоксары для меня во всем лучше Нижнего Новгорода».
Больше всех Екатерине приглянулась Казань. «Город, бесспорно, первый в России после Москвы… во всем видно, что Казань столица большого царства», – записала она о своих впечатлениях. Вполне удовлетворил и выделенный ей для временного проживания особняк. Им владел сам глава города Иван Дряблов. Похоже, дом был выстроен недавно и выглядел по сравнению с другими особняками как настоящий дворец. Екатерину особняк впечатлил настолько, что она в дневнике выделила ему значительное место: «Я живу здесь в купеческом доме, девять покоев анфиладою, все шелком обитые, креслы и канапеи вызолоченныя, везде трюмо и мраморные столы под ними…» Еще больше пришелся по душе сам хозяин особняка, тридцативосьмилетний купец Иван Федорович Дряблов. Мужчина в самом соку, высокий, статный. Главой города его избрали совсем недавно, в конце 1766 года. Причем оказалось, что он человек не местный, а из Чебоксар. Переехал в Казань из-за того, что стал наследником здешних ткацких фабрик, принадлежавших тестю. Тем не менее, Дряблов город свой знал лучше любого старожила. «У нас девять главных улиц, десять площадей, сто семьдесят простых улиц и переулков, восемь слобод, церквей сто две, монастырей – четыре мужских и три женских, всего в городе три тысячи девятьсот шестьдесят четыре здания, из них двадцать пять – каменные, школ и богаделен три», – без запинки доложил он императрице.
В Казани Екатерина Вторая дотошнее всего интересовалась образованием. Не только из-за понимания того, что без него Россию вперед не сдвинуть. В отличие от других городов, Казань была городом неоднородным. Эту особенность Екатерина позже подчеркнула в письме Вольтеру: «Я угрожала вам письмом из какого-нибудь азиатского селения, теперь исполняю свое слово, теперь я в Азии. В здешнем городе находится двадцать различных народов, которые совершенно несходны между собою». А новокрещенская школа Екатерину просто поразила. Здесь обучались не только русские дети, но и татарские, чувашские, черемисские, эрзянские. И обучались весьма успешно, настолько, что сумели приветствовать Ее императорское величество стихами на своих языках. «Да, надо ускорить крещение этих народов, – думала про себя Екатерина Вторая, с улыбкой слушая эти приветствия. – Подчинить их дворянской власти при помощи православия значительно проще». Приученная в Пруссии к жесткому порядку, Екатерина Вторая с молодых лет свято верила в легисломанию, верила, что народу можно принести счастье путем принятия правильных законов. Раз так, надо было дать ему кое-какое образование, чтобы он мог хотя бы знакомиться с этими законами.
…Впереди дорога сделала поворот, и казачий отряд, вытянувшись налево, показался весь. Среди весьма нехилых всадников один выделялся особо. То ли потому, что в седле сидел не так, как обычные казаки, то ли на самом деле намного выше товарищей по оружию. А в плечах точно шире. Да, это точно тот чуваш, который просил не казнить своих сородичей. Если подумать, он тогда показал настоящую храбрость. Ведь кто такой солдат? Самый обычный человек с низов. И далеко не каждый простой человек осмелится просить у самодержца пощады для совершенно незнакомых людей.
Екатерина на мгновение закрыла глаза. Ей представилось, как казак-чуваш легко спрыгнул с седла, встал перед ней на колени. Бывают же среди народа такие молодцы! Он ведь, этот казак-чуваш, не просто высокий, стройный, сильный мужчина. От других он еще отличается неповторимой красотой, каковой нет у европейцев. Особенно выделялись на его продолговатом сухощавом лице зеленые глаза. Они словно искрятся манящим волшебным светом и необъяснимым образом притягивают к себе взгляд человека, после чего поневоле начинаешь внимательно всматриваться и в самого обладателя этих глаз. А когда приглядишься, замечаешь, как красив этот казак. Особо выделяется широкий лоб, который не скрывается даже под казацкой папахой. Когда Екатерина еще была Софией Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской, губернатор Штеттина, позже фельдмаршал Пруссии Хрисьтиан Август Ангальт Цербстский говорил: «Доченька, если задумаешь подружиться с юношей, прежде всего, смотри на его лоб. Коли он узколобый, значит, у него узок и ум. Умные люди все широколобые». Если это так, то этот чуваш из всех казаков отряда самый умный. А еще у него заметно отличаются скулы. Как они играли, когда он упрашивал Екатерину. Стало быть, человек сильно волновался, может, и боялся, а все равно решился заступиться за своих единородных земляков. Да еще его прямой нос с небольшой горбинкой, тонковатые для мужика губы говорили о том, что человек этот одновременно и силен характером, и весьма чувствителен душой. Самое же волнительное – от этого казака отдавало какой-то необъяснимой, но вполне осязаемой мощью. Мужской ли силой ее называть или как-то иначе – не в том суть, только Екатерина почувствовала, что пока она невольно размышляла о казаке-чуваше, у нее в одном месте возникла истома, которая стала неудержимо распространяться по всему телу. Да, такая вот она, София-Екатерина. Видно, господь одарил ее женской чувствительностью слишком щедро. Впрочем, тьфу! Она же все-таки царица, императрица, разве позволительно ей томиться из-за какого то мужика, к тому же инородца… Нет, это несерьезное чувство, а так, блажь, которая возникла потому, что тело ее в последние дни не получала в достатке того, к чему привыкло. Невозможно удовлетвориться на ходу в карете мимолетными встречами с мужчиной. Впрочем, ей даже в Симбирске не получилось полностью удовлетвориться. Там Орлов слишком уж увлекся медовухой и растерял всю свою мужскую силу. А ведь совсем незадолго до этого, когда они остановились в селе Головкино, что на левобережье Волги, Григорий был очень даже хорош.
Головкино – одно из многочисленных владений братьев Орловых. По словам Григория и Владимира, путешествующих вместе с Екатериной, в нем полторы тысячи душ. В селе расположена волостная контора, есть церковь, почтовая станция, дом приезжих. Еще, что важно, через Головкино проходит тракт, соединяющий с городами Кузнецк, Карсун, Сызрань. Так что по значимости село это вполне может поспорить с уездным городом. Знают Орловы, где что ухватить.
А ведь пятеро братьев Орловых – Иван, Григорий, Алексей, Федор и Владимир еще в недавнем прошлом были так себе дворяне и богатством не выделялись. Обогатила их Екатерина. За то, что они помогли ей занять царский трон. Самый большой куш – десять тысяч крестьян и миллион рублей – достался Григорию, который стал ее фаворитом. И вот, глядите-ка, как братья раздобрели после этого.
Отдохнуть с дороги Екатерину поместили в большой спальне на втором этаже барского дома. Вскоре туда поднялся Григорий. Владимир сделал вид, что куда-то ушел по делу. Еще Григорий приказал и членам свиты, и своим слугам вообще не подниматься на второй этаж, чтобы не беспокоить императрицу. Оставшись одни на всем этаже, наконец-то они дали волю страстям, занялись любовью аж в чем Господь создал Адама и Еву. Истосковавшаяся за время путешествия по мужской ласке, Екатерина так увлеклась, что даже могучий Орлов под конец совершенно обессилел…
После небольшого передыха Григорий пригласил императрицу посмотреть, как живут крестьяне Орловых. Владимир к тому времени, похоже, уже справился со своими делами, поджидал их на парадном крыльце, перед которым уже стояли несколько запряженных карет. Впрочем, от барской усадьбы до села недалеко, расположено оно в живописном месте – в устье небольшой речушки, впадающей в Сызранку. И Екатерина пожелала пройтись немного пешком. Братья с удовольствием согласились. На окраине села Екатерина увидела большую группу мужиков и подошла к ним. Те, словно по команде, глубоко поклонились разом и выпрямились лишь когда Орлов-младший еле заметно махнул рукой.
– Ну, господа мужики, как поживаем? – не зная, о чем с ними говорить, спросила царица.
– Хорошо живем!
– Благодарствуйте, Ваше императорское Величество!
– Наш барин сильно печется о нашем благе! – нестройным хором, но бодро отозвались мужики.
Затем Орловы завели Екатерину в несколько крестьянских владений. Хозяйства их, по правде, выглядели уныло: избы небольшие, неказистые, некоторые даже курные, постройки почти у всех крыты соломой. А вот с едой у людей, оказывается, все в порядке. Видимо, потому, что наступило обеденное время, в домах, куда заходили императрица и Орловы, семьи как раз трапезничали. На столах были мясной или куриный суп, пшенная или полбяная каша, обильно политая топленым маслом. Хлеба было вдоволь и черного, и белого. Мало того, у многих имелись сохранившиеся еще с прошлогоднего урожая соленые огурцы, квашеная капуста.
– И правда неплохо живут ваши крепостные, – похвалила императрица братьев. – Только одного никак не пойму. Коли они такие справные, отчего же избы не построят подобающие? Не скоты же, чтобы жить в таких халупах.
– Като, в России народ такой. Главное для человека – чтобы он был сыт. А что до остального… У нас в этих краях зимой стоят жуткие морозы, потому избы строят небольшие. Чтобы в них было тепло да при этом дрова сберечь, – пояснил царице Григорий Григорьевич. – А летом у людей простор. Многие спят на улице, под навесом, еду готовят в летних кухнях. Правда, последнее – не русская традиция, ее здешний люд перенял у соседей-чувашей. Но это очень удобно.
– Значит, вам следует приучать своих крепостных к жизненным удобствам. Пусть научатся грамоте, читают зарубежные журналы, узнают, как живут другие народы. Тогда они потихоньку сами станут перенимать все хорошее, – посоветовала императрица.
– Екатерина Алексеевна, прости нас великодушно, по-моему, мужику грамота ни к чему, – вмешался в разговор Владимир Григорьевич. – Пахать, сено косить, жать, за скотиной ухаживать она нисколечко не поможет. Потому учеба для селянина – это потраченное впустую время. Крестьянским детям сызмальства нужно впрягаться в работу. А так получится, что они станут полдня без толку штаны протирать за партой.
– К тому же грамотей, – Като, ты сама сказала, – начнет почитывать журналы и книжки всякие. Только кто ведает, к чему его больше потянет. Ладно, окажется по-твоему, и он станет интересоваться лишь жизнью всяких аглицких народов. А ну как начнет штудировать любимых тобой каких-нибудь Вольтеров иДидро? Так он, чего доброго, захочет из-под опеки помещика выскользнуть. Нужно это нашему государству?
– Вольтера не трожь! Его уважает весь мир, – жестко заметила Екатерина. – И заруби себе на носу: мое желание дать простолюдину образование не означает поднятия его до уровня понимания Вольтера и Дидро. Крестьянину хватит того, что он прочтет законы и приучится их соблюдать. Вообще надобно, чтобы они жили подольше, размножались погуще. Вам же от этого польза, и державе подмога. Думаете, я зря столько корпела над своим «Наказом»? А глубокие знания – они нужны, прежде всего, дворянам. По сравнению с европейцами, наши слишком уж ленивы. Даже среди генералов есть такие, кто расписывается как курица лапой. Как мы с такими людьми можем мечтать о европейском уровне? А ведь в руках наших дворян столько народу! Токмо из-за нехватки знаний они не способны толком воспользоваться такой силой. Потому и государство наше не может знатно двигаться вперед. Понятно я изъяснила? Чтобы приучить русских к плодотворному труду и порядку, я уже переселила под Саратов из Пруссии тысячи немецких семей. Съездите как-нибудь в те края. Вы увидите, что на таких же землях, как здесь, там появляются замечательные фермы. И постройки у них больше похожи на городские, уж точно не с соломенными крышами, как у вас.
– Сравнивать ферму с имением – это… – хотел было что-то возразить Владимир Григорьевич, но тут его одернул за рукав камзола старший брат.
Вечером Екатерина с Григорием опять закрылись в большой комнате второго этажа барского дома и уснули лишь когда петухи пропели второй раз.
Хотя город Симбирск был так себе, в целом он Екатерине понравился. И встретили здесь ее как-то по-особенному. От пристани, где бросила якорь ее галера, до Троицкого собора она прошла по красной дорожке. Мало того, такая же дорожка была выстлана от собора до дома купца Мясникова. Такой почести ее не удостаивали ни в Твери, ни в Ярославле, ни в Нижнем Новгороде, ни в Чебоксарах, ни в Казани. Хотя и в тех городах местные власти из кожи вон лезли, чтобы выказать свою любовь и почитание к императрице, угодить ей, показывая, как хорошо живется местному населению. Потому и писала Екатерина в одном из писем к друзьям, отправленных прямо с дороги: «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены здесь высокия, но все хлеб едят, и никто не жалуется и нужду не терпит… Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали. По лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа. Земля такая черная, как в других местах и в садах на грядах не видят. Одним словом, сии люди Богом избалованы. Я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, и я не знаю, в чем бы они имели нужду. Все есть и все дешево».
…Долго ли императрица предавалась бы размышлениям, но тут карету сильно тряхнуло и в голове совершенно неожиданно мелькнуло совсем иное: «Ах, и шельма этот Григорий! Ах, каков плут, а! Надо же, в избушке с баню мужики лакомятся калачами. А я, дура, ведь почти поверила ему». Нет, она не рассердилась на своего друга. Совсем наоборот. Ей вдруг захотелось впасть в объятия Григория. Прямо сейчас, немедленно! Захотелось забыть даже про болеющего цесаревича и насладиться привычной истомой от мужской ласки. Тут же на какой-то миг перед глазами возник образ казака-чуваша. Да уж, и обычной силой, и мужскими способностями он наверняка мощнее Орлова… Екатерина, подтянувшись, взглянула в боковое окошко кареты. Но дорога выпрямилась, отряда казаков уже не было видно. «А что, если…– что-то подумав про себя, многозначительно улыбнулась царица. – Ну не-ет, все же так не годится. Он всего-навсего простой мужик, к тому же инородец…. И что? Орловы тоже когда-то были самыми простыми мужиками. Дед их – стрелец, участник бунта против царя… Ладно Петр Первый простил его за проявленное в боях геройство и оженил на дочери дворянина Зиновьева. Иначе Орловы так и остались бы мужиками. Это теперь они такие знатные и богатые графы. Григорий даже генерал-адъютант, а вскоре я его, пожалуй, произведу в генерал-фельдцехмейстеры. Слово давала, придется сдержать. А казак-чуваш… М-да, как жаль все-таки…» Екатерина, связав ладошки, вывернула их, вытянув вперед, сладко потянулась и рассмеялась вслух. Ничего не понявшие фрейлины недоуменно переглянулись, но промолчали.
Вскоре въехали в довольно-таки крупное село. На зеленой площади перед волостной конторой на забитых в землю столбцах был устроен длинный стол. Он был накрыт белой льняной скатертью, на которой уже стояли чашки и тарелки с разнообразной снедью. Да и воздух здесь был чист и свеж, не то что в городе, где всюду отдает нужником. По периметру площади плотной шеренгой выстроилась охрана из казаков. Да, молодец граф Чернышев, умудрился-таки определить самое приятное место для приема пищи. Права была Екатерина, поручив ему руководить свитой вопреки возражениям Панина.
После ужина Екатерина Вторая совершила небольшую прогулку по сельской площади, утопая по щиколотки в зеленой траве, по ходу краешком глаз наблюдала за охранявшими ее казаками. Да уж, молодцы как на подбор, все высокие, стройные, сильные. Не зря зовутся казаками. А один из них уж очень выделяется даже на фоне этих бравых мужичков…
Императрица пальчиком поманила к себе Григория Орлова.
– Послушай, граф, по приезде в Москву я хочу обновить свою охрану, – предупредила она его.
– Ваше величество, может, этим лучше заняться уже в Петербурге, – предложил Григорий Григорьевич.
– Сказано тебе – в Москве! Охрану надо менять постоянно. Иначе иные начинают относиться к своим обязанностям, спустя рукава, а иные могут просто продаться. Да, еще вот что. Ты в обновленную охрану включи-ка во-он того казака, – махнула слегка рукой императрица в сторону Медведева.
Орлов краешком глаза посмотрел на здоровяка, быстро оценил его.
– Ваше Величество, государыня-императрица! – сказал затем. Так он обращался к Екатерине лишь в самые возбужденные моменты. – Тебе же вестимо, в твою охрану мы берем только людей из лейб-гвардии. А этот инородец – он даже не казак. Мы его включили-то в отряд лишь на время твоего путешествия по Волге. И вообще…
– Так переведи его в лейб-гвардию! – слегка зевнув, равнодушно предложила Екатерина.
– Как же так… – попытался возразить граф. – Като, мне это совсем не нравится.
Но императрица вдруг резко прервала его:
– Сказано – значит, сказано! Смелый он человек, вспомни, как защищал своих сородичей. Совсем незнакомых, кстати. Теперь поди, поторопи Чернышева, чтобы обслугу быстрее покормил, и тронемся в путь. Сам… пересядешь в мою карету. А фрейлины пусть в твоей поедут. Истосковалась я…
Вскоре удивительный караван выехал из села и взял курс на Москву. Вслед ему долго еще лаяли ошалевшие собаки да кудахтали испуганные куры, в клубах густой пыли едва сумевшие увернуться от наезда колес.
3
Екатерина Вторая торопилась в Москву не столько из-за болезни сына, сколько по совершенно иной причине. Пока путешествовала по Волге, она убедилась, что послы разных стран, наконец, вроде бы поверили в любовь русского народа к своей императрице, и это ее полностью удовлетворило. И еще в пути голову начали сверлить мысли по поводу другого не менее важного дела. Екатерина намеревалась этим же летом принять «Наказ» – как полагала, документ огромной важности для государства и его будущего. Она внесла туда все задуманные положения, и теперь «Наказ» должна была принять Уложенная комиссия, депутаты которой тоже вносили свои предложения, полученные в ходе выборов. Депутатов было ни много, ни мало 652 человека, так что прийти к общему мнению им будет весьма непросто. А кое-какие предложения от народа в «Наказ» придется включить, без этого никак. Вот над таким важным документом работала сейчас императрица. Он ведь тоже нужен не только ее империи, он еще должен убедить просвещенную Европу, что Россия входит в число самых передовых стран.
К прибытию императрицы в Москву депутаты Уложенной комиссии начали уже собираться. От других сановных людей они отличались нагрудной золотой медалью с портретом Екатерины II и надписью «Блаженство всех и каждого».
Накануне открытия собрания Уложенной комиссии Екатерина трудилась всю ночь, даже не выходя из опочивальни. Утром она пригласила к себе старшего пристава при комиссии Григория Потемкина и приняла его прямо в своих покоях.
Депутаты – люди разные, часто непредсказуемые. В спорах они сгоряча могут перейти и на кулачные доказательства. Уж таковы нравы у этих русских. Потому императрица приказала старшему приставу для поддержания порядка в зале подобрать самых здоровых гренадеров.
– Видишь, как приходится трудиться, – как бы пожаловалась она Потемкину. – Люди думают, что вокруг царицы – одни пьянки да гулянки. Если бы женщины знали, каково мне приходится, вряд ли кто из них согласилась бы оказаться на моем месте. Вот и нынче я всю ночь не сомкнула глаз. Однако выпью сейчас крепкого кофе и снова примусь за работу… Тебе не предлагаю. Однажды я подала кофе Петру Панину, так его через полчаса лейб-медики еле откачали. Может, тогда он подумал, что я хотела его отравить…
Пока рассказывала, Екатерина сама налила в турку немного воды, насыпала туда сразу фунт кофе, вскипятила и налила в чашечку, даже не дав немного остыть, начала отхлебывать крепкий напиток.
– Тебе я, дружок, хочу поручить еще и особое задание, – отставив пустую чашщечку, сказала она, с интересом разглядывая молодого человека. – В лейб-гвардии Преображенский полк недавно перевели одного инородца. Чувашенина, кажется. Он еще участвовал в моей поездке по Волге. Как звать – не помню, ну так найдешь, такого человека там более, полагаю, нет. Так вот, зачисли его в число своих приставов. Показалось мне, что чуваш этот – недюжинной силы человек. И никого не боится. Тебе как раз такие молодцы нужны. Иначе другой, хоть и силен будет, а не посмеет попридержать барина в нужный момент.
– Понял, Ваше Величество, – согласно кивнул головой Потемкин.
– И помни, если на собрании депутаты вдруг схватятся, немедленно разнимите их, чтобы не допустить драки, – уже более строго напомнила Екатерина. – Им дай только послабление, они тут же начнут доказывать свое не силой закона, а мощью кулаков.
– Понял, Ваше Величество, – опять наклонил голову Потемкин.
– Ну, раз так, иди, – указала императрица ладошкой старшему приставу в сторону двери. – Постой, – остановила тут же, – ты Григорию Григорьевичу о моем приказе не докладывай. Показалось мне, он не очень-то предрасположен к инородцам.
– Не должно быть такого, – усомнился Потемкин. – Я никогда не слышал, что Орловы недолюбливают чувашей. Говорят, в окрестностях их симбирских имений немало деревень этих инородцев, многие подрабатывают у них.
– Так или не так – ты молчи, – прервала его Екатерина, и тут же начала отхлебывать еще не остывший кофе из второй чашечки.
Потемкин глубоко поклонился и, пятясь задом, скрылся за дверью.
«А ведь гренадер этот ничего себе, – почему-то подумалось Екатерине. – Но слишком уж молод. К тому же если Гришка узнает, что им интересуется царица, парню несдобровать. Уж слишком по-мужицки ревнив граф…»
Почему-то вспомнились начальные годы в России. Петр к привезенной из Пруссии молодой жене Софии с первых дней относился с прохладцей, открыто сожительствовал с какой-то Лизанькой Воронцовой. Только София-Екатерина не стала этого долго терпеть, тоже понаставила мужу рогов, перепробовав нескольких мужчин, и остановилась на Григории Орлове. К тому же Орловы, как она узнала, – род весьма многочисленный и сильный. Когда умерла государыня Елизавета, ее сын Петр просидел на троне немного, и убрали его именно стараниями Орловых, с помощью которых и стала Екатерина императрицей. Потому приходилось их слушаться. Пока.
А этот Потемкин, пожалуй, ничем не уступает Гришке Орлову. Притом, он моложе. Да еще этот чувашский медведь… Нет, нет, сейчас не над этим надо думать, есть дела поважнее …
* * *
Екатерина и сама не осознавала, почему начала приближать к себе молодого Потемкина. Впрочем, она об этом и не задумывалась, все получалось как бы само собой. Еще до занятия ею царского престола к ней однажды в Ораниенбаум привели группу студентов Московского университета. Как бы показать ей будущее государства российского. Среди них оказался и бедный дворянин Григорий Потемкин. После той встречи он почему-то бросил учебу и остался в Петербурге. Видно, как многим молодым людям, ему не терпелось сделать в столице карьеру. Однако у юноши с этим не ладилось, и он от отчаяния поступил на военную службу. Екатерина увидела его в военной форме на похоронах свекрови Елизаветы Петровны. Бравый юноша тогда стоял около гроба в карауле. Поскольку дворец охранялся лейб-гвардии Преображенским полком, Екатерина знала, что Орловы подбирали туда самых надежных людей. Потому она попросила мужа Петра Третьего повысить ефрейт-капрала Потемкина, как дворянина, в звании, присвоив ему чин виц-вахмистра. Тогда Петр только-только занял царский трон и находился в благодушном расположении… Так Потемкин начал свою военную карьеру. Малый он был сообразительный и сразу скумекал, кому обязан своим успехом. А Екатерине этот юноша почему-то приглянулся. Правда, Потемкин тогда был слишком юн, и она никаких фривольных мыслей в отношении него не имела. И все же… Следующий раз Екатерина его увидела, когда выводила собачку гулять на Мойку. Чтобы ее не заметили придворные, она вышла из дворца через кухню. А там как раз сидел новоявленный виц-вахмистр, за обе щеки уплетал остатки еды от обеда дворцовых вельмож. Тогда Екатерина поняла, насколько беден этот юноша. И нашла-таки еще одну возможность, чтобы помочь ему. По ее просьбе Потемкина назначили адъютантом дяди императора принца Голштинского. Позже, когда Петра свергли с престола, Григорий Орлов подал Екатерине список особо отличившихся в этом деле гвардейцев. Среди них значился и Потемкин с пометкой, что за проявленную доблесть сей гвардеец достоин звания корнета.
– Гришенька, этого человека я знаю как достойного и преданного служаку, потому присвою ему сразу чин подпоручика, – сказала она, освобождаясь от объятия Орлова.
– Твоя воля, – зевнул Орлов. – Пошли-ка спать.
– Я еще хочу наградить подпоручика тремя тысячами рублей. Пусть станет похож на дворянина.
– Три тысячи-и? – удивился Орлов. – Нет, он, конечно, парень не промах, и все же… Постой, а не заводишь ты с ним шашни-машни, а? Смотри у меня! И так про тебя ходят слухи, что ты продолжаешь связи с Понятовским.
Понятовский и в самом деле любимый мужчина Екатерины, ее первый любовник после замужества. Но по настоянию Орловых его пришлось бросить и отправить в ссылку королем Польши. И пока приходится довольствоваться лишь редкой перепиской с ним…. Екатерина приподнялась на локоть, искоса посмотрела на Орлова, пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно. Нет, вроде бы не шутил…
– Ах, Гриша! – вздохнула она. – И почему ты так глупишь? Станислав – он ведь король Польши…
– По твоему велению, – напомнил Орлов.
– Да, по моему велению, – согласилась Екатерина. – А зачем я это сделала? По чьему желанию рассталась с ним навсегда? И вообще, он для меня был лишь утехой от измены мужа. – Тут она вернулась к начатой теме: – Ну, хорошо, Потемкину я дам две тысячи. Деньги ему все же нужны, как-никак дворянских кровей.
Так Григорий Потемкин стал офицером. И после этого Екатерина при каждом удобном случае старалась держать его поблизости.
В середине лета 1763 года уже императрица отправила молодого офицера Потемкина в Швецию с секретным письмом послу России графу Остерману. В нем она наставляла, как наладить дальнейшие отношения с соседним государством. Сразу по возвращении из Швеции Потемкин был произведен в камер-юнкеры, что у Орловых вызвало откровенное недовольство.
– Като, почему ты привечаешь этого нищеброда ко двору? – упрекнул ее Григорий.
– А вы, Орловы, забыли, кем сами были в недалеком прошлом, еще при Петре Первом? – резко оборвала его Екатерина.
Потемкин же к тому времени окончательно втюрился в императрицу и, по-своему воспринимая свой карьерный рост, начал считать, что и она отвечает ему взаимностью. Потому, изрядно осмелев, начал оказывать ей всяческие знаки внимания. Нельзя сказать, что Екатерине это не нравилось. Как-никак, юноше уже исполнилось двадцать четыре, самый сочный возраст для любовных утех. Да и на вид он весьма и весьма…
Кто знает, чем бы завершилась эта игра, но однажды Потемкин неожиданно пропал, и надолго. Его не могли отыскать ни на службе, ни дома в слободе конной гвардии. И лишь через пару месяцев он вдруг нашелся сам, вернулся в царский двор с повязкой на одном глазу. Оказалось, что он его где-то потерял. По двору поползли слухи, что парень подрался сразу с тремя братьями Орловыми, в ходе чего ему и выбили глаз. Потемкин эти слухи и не подтверждал, и не опровергал. А Екатерина почувствовала, что одноглазый «циклоп» не вызывает у нее прежних теплых чувств.
И все же она не отринула его от себя. Ведь преданные смелые люди могут ей пригодиться в любой момент.
* * *
Наконец-то в Грановитой палате собрались все депутаты. Императрица Екатерина Вторая расположилась в передней части зала на специально устроенной возвышенности. В руках она держала золотую державу с крестом и царский скипетр. Одета Екатерина была необычно – в мантию из меха горностая. К похожему на трон креслу был приставлен стол с изогнутыми ножками, а на нем лежала весьма объемная книга «Наказа». Рядом с императрицей, на две ступеньки ниже, стоял князь Голицын. Так и не дождавшись, пока утихомирятся долго рассаживающиеся депутаты, он начал говорить:
– Уважаемые господа! С божьей помощью приступим к доверенной нам важнейшей работе во благо нашего великого Отечества. Если все завершится успешно, вы все, претворив в жизнь нашу благословенную мечту, сможете заработать благодарность будущих потомков. Не токмо граждане России, все народы, проживающие под животворящим солнцем и опекаемые Ярилом, ждут от вас добрый пример…
Тут красноречивого Голицына прервала Екатерина, вставила свое слово:
– Россия – великая, единая, неделимая держава! – воскликнула она, от волнения сильно сжав в руках символы царской власти. – Россия – европейское государство, граждане России – европейцы. Самые знатные и выдающиеся дела нашего народа всегда имели огромное значение для Европы. А наши связи с Азией – это суть случайные дела. В то же время Российская империя на Востоке имеет обширнейшие территории, потому и в Азии нет державы сильнее России… Однако ж как бы ни была велика, богата страна наша, она может стать по-настоящему мощной, богатой, лишь живя по законам. Уважаемые господа, вы – цвет народа российского. Если вы примете «Наказ», впредь мы станем жить именно таким образом. Когда этот свод законов, – тут она положила изящную ладошку на обложку толстенной книги, – войдет в силу, русский народ станет самым счастливым народом на земле. И пусть обережет нас Господь от иного!
Тут с хоров грянул духовой оркестр, по залу разнеслась торжественная музыка, вызывая мурашки в душе и теле. Могучая мелодия заставила депутатов безо всякого приказа встать на ноги и вытянуться во фрунт… Так началось собрание Уложенной комиссии, которому должно было стать великим и определяющим всю дальнейшую судьбу России. Станет ли?
В самом начале депутаты избирали маршала, которому предстояло вести собрание. Братья Орловы набрали голосов больше всех. Однако это пришлось не по нраву боярам. Они чуть не схватились с братьями за грудки, ладно приставы одноглазого Потемкина вовремя разняли разъяренных депутатов. Впрочем, братья не стали настаивать на маршальстве, его жезл добровольно передали одному генералу, которого не было даже в списке для голосования.
Помолившись Господу, начали чтение «Наказа». Продлилось это занятие ни много, ни мало четыре дня. И с каждым днем усиливалась хвала Екатерине Второй за ее замечательный труд. Некоторые депутаты даже предложили в честь умнейшей из умнейших, величайшей из величайших императрицы установить в Москве или Санкт-Петербурге Триумфальную арку или золотой памятник.
– Господа, не сходите с ума! – остудила их Екатерина. – Памятники ставят после смерти человека. И то не сразу, а по прошествии тридцати – сорока лет, не менее. Лишь к тому времени не станет тех, кто лично знал этого человека, а последующие поколения оценят его по трудам его, а не по хвалебным высказываниям друзей и приближенных.
Находились и те, кому «Наказ» был явно не по душе. И так уже на земле русской исчезают наши исконные традиции, ворчали они промеж собой. Если бы наши деды и прадеды с того света вдруг узрели, в какой распущенности живет нынешняя власть, они бы в гробу перевернулись. Разве могли они представить, как становятся фаворитами и куртизанками вчерашние нищие, шарившие в поисках пропитания по помойным ямам. Наши предки не тратили времени на всякие поездки по европам, не пьянствовали всякими виноградными винами, потому и достигали почтенного возраста, многие жили сто и более лет… Подобные ворчанья, конечно же, доходили и до ушей Екатерины. Потому она лучше других понимала, что великое собрание вряд ли пройдет без сучка и задоринки.
Конфликт разгорелся на пятый день, когда депутаты начали выдвигать для включения в свод законов свои предложения. А предложения эти зачастую оказывались совершенно противоречащими «Наказу» императрицы. К тому времени сама Екатерина Вторая уже не участвовала в работе собрания, но, не жалея времени, пристально следила за происходящим в зале из соседней комнаты через потайной глазок в стене. А с уходом императрицы некоторые депутаты, похоже, вообще стали забывать о предложенных ею европеизированных законах. Вместо них чуть ли не каждый силился включить в «Наказ» что-то свое. Споры разгорались в основном между представителями разных сословий. Каждый из них откровенно завидовал другим, видя у них одни лишь преимущества. Дворяне не хотели мириться с доходами промышленников, потому хотели бы прибрать рукам фабрики и заводы. Фабриканты и заводчики требовали для себя права и льготы дворян, иначе, дескать, невозможно развивать промышленность. А барыши купцов не давали покоя и дворянам, и промышленникам. Сходились все в одном: и тем, и этим, и другим требовалось больше бесправных работников, которых можно было бы заставить трудиться по своему усмотрению… Отстаивая в перебранках свои законопроекты, казалось бы, вполне респектабельные депутаты распалялись так, что матерились похлеще иного уличного сапожника. Поначалу маршал даже пытался штрафовать их за непотребные ругательства, да куда там, что для богатых какие-то десятки рублей…
Видя, как накаляется обстановка, Екатерина срочно вызвала к себе Потемкина и еще раз строго напомнила, что его людям следует быть начеку. «И пусть не церемонятся, глядя на чины и сословия, – особо напутствовала она. – Вы все делаете от моего имени». Потемкин в свою очередь во время обеденного перерыва собрал своих приставов и пересказал приказ императрицы даже в более решительной форме. Предупреждение оказалось ко времени.
Обычно после обеда депутаты становились мягче. Понятное дело, тушеная ножка индюка или жареная телятина да принятые на грудь до отрыжки медовуха или же осуждаемые многими виноградные вина как бы отгоняли злых духов. Но на этот раз вышло по-иному. Видно, сказалось вовлечение в государственные дела личных интересов. Почему-то самым спорным оказался крестьянский вопрос. При его обсуждении страсти накалились до небывалой в этих стенах степени. Один из сторонников «Наказа» императрицы ситуацию объяснил так:
– Послушайте, уважаемые народные представители! Матушка Екатерина старается возвысить нас до европейского уровня. Однако ж и нам самим, дворянам в особенности, надобно соответствовать ея требованиям. Ибо наши имения суть отражение всего состояния государства. Так давайте содержать крепостных как родители своих чад, давайте создавать для них подобающие условия для лучшей жизни и размножения.
Такому подходу сильнее всех воспротивился – удивительное дело! – фаворит императрицы граф Григорий Орлов.
– Ты, друг мой, запамятовал одну важную вещь! – перекрывая шум загомонившего зала, громко заговорил он. – Эти самые любимые тобой чада в подходящий момент не прочь взять да сжечь твое имение, будь оно хоть европейским, хоть азиатским, при этом тебя со всей семьей бросить в огонь.
– Граф, ежели мы с крестьянами будем обращаться по-скотски, как в твоем имении, то такое точно может быть! – смело отпарировал депутат. – Однако ты вспомни, кем были твои родители. Ну да, теперь, когда Екатерина возвысила тебя непонятно почему, ты и твои братья вдруг стали такими важными и состоятельными. И что? Уже забыли, что явились на свет божий из той же дыры, откуда являются все? На мой взгляд, – высказал он только что пришедшую в голову мысль, – дворянский титул вообще нужно присваивать лишь по наследству. Народ, правильно я глаголю?
– Ах ты, щенок недобитой сучки! – вдруг рассвирепел Григорий Орлов. – Чего ты мелешь, сраный мужичок? Вот сейчас я покажу тебе, что к чему! Вырву твой недоделанный кочедык, чтобы некому было передать твое дворянство по наследству.
Тут граф метнулся к спорящему депутату, намереваясь схватить его за грудки. Но между ними смело встал другой депутат – Коробьин, приехавший из какой-то Козловки.
– Граф, ты большой человек. Тебе не пристало доказывать свою правоту по-мужицки, – спокойно и твердо заметил он.
Сбитый с толку обращением к нему совершенно незнакомого человека, Орлов опешил.
– Ты кто? – грубо спросил он, глядя ему в глаза.
– Я гражданин села Козловка, что близ Казани, купец третьей гильдии депутат Григорий Коробьин, – отрекомендовался тот.
– А-а, купе-ец. Тебя с какого боку касается спор о дворянских титулах? – насмешливо спросил у него Орлов.
– Дворянские титулы меня ни с какого боку не касаются, – спокойно ответил Коробьин. – Пока… Я о другом. Я о крестьянах. Этот господин депутат говорит сущую правду. Дворяне-крепостники их просто измордовали. В таких условиях разговоры о быстром развитии – пустое дело, потому как Россия – крестьянская страна. Мы же вообще не вовлекаем их в жизнь общества, будто их и нет на свете. Не годится так.
К спорщикам начали подтягиваться другие депутаты.
Если бы не публика, Орлов, не стал бы церемониться с купцом, да еще третьей гильдии, дал бы ему кулаком по харе – и спору конец. Но тут… Орлов все же понимал, что здесь надо вести себя аккуратно и от греха подальше отошел в сторону. Его место неожиданно занял другой депутат, тоже прибывший из Казанской губернии. Он с яростью начал отчитывать Коробьина:
– Григорий, ты настоящий свинья! Дворяне губернии тебя сюда послали не для защиты крестьян. Нам следует радеть за свои интересы.
– Мой интерес – сделать народ богаче и свободнее. Тогда расцветет торговля. Без сильной торговли России не стать великой, – отпарировал Коробьин.
– Ах ты, паскуда, вон как заговорил! – взорвался казанский депутат и, недолго думая, попытался с размаху ударить Коробьина кулаком по лицу. Хорошо тот успел увернуться, перехватив руку земляка, развернул его и оттолкнул в сторону. Тут в их спор вмешался другой депутат.
– Не попал… А надо было вот так! – ударил он Коробьина в грудь кулаком размером чуть ли не с кувшин. Видавший виды купец в долгу не остался, тут же ответил незнакомцу пинком ногой в живот. И пошло-о! В потасовку ввязались другие посланцы народа, и стало не разобрать, кто тут за и против кого, лупили увесистыми кулаками все и всех подряд.
– Медведев, немедленно раскидай этих петушков! – приказал Потемкин Сентиеру, который находился неподалеку.
Сентиер не стал мешкать, тут же тараном втиснулся в кучу дерущихся и в момент разбросал в разные стороны крепких, в общем-то, мужиков. Не тронул лишь Коробьина, его усадил в кресло и рукой легонько надавил на плечо, дав понять, чтобы не вставал. Это, похоже, задело депутата из Казанской губернии, который и затеял эту бучу.
– Ах ты, мокрая задница, со мной решил побороться?! – крикнул он Сентиеру. – Небось, и сам отпрыск дохлого крестьянина, а смеешь руку на дворянина поднять?
И он вдруг, забыв всех своих противников, ринулся к рейтару. Сентиер успел краешком глаза посмотреть и оценить, как на это реагирует Потемкин. Поняв, что начальник на стороне своего солдата, не стал дожидаться нападения барина, схватив его поднятую уже для удара правую руку, резко скрутил ее за спину и повел человека к выходу, а там просто-напросто вытолкнул его в спину из зала.
«Какой же он силач, этот инородец! – восхитилась императрица, безотрывно наблюдавшая все это время за тем, что происходит в зале Грановитой палаты. – Да уж, хоро-ош, настоящий богатырь».
Между тем споры депутатов не прекратились, только теперь приняли вполне цивильную форму словесных перепалок.
– По-моему, крестьянам не то, что волю кое-какую давать, их следует еще жестче держать в руках, – горячо убеждал один из депутатов. – Иначе они почувствуют, что вожжи отпущены и, чего доброго, еще восстанут противу нас, как Стенька Разин когда-то.
– Верно! – согласились с ним сразу несколько человек.
– А кормить их все же надо лучше, – заметил кто-то. – Наши крепостные в трудоспособном состоянии живут весьма недолго, начинают вымирать уже после тридцати. Потому даже в крупных имениях не хватает работников.
Тут кто-то поменял тему:
– Вы все о крестьянах да о крестьянах. А самая большая угроза нам не от них. Я не помню случая, чтобы кто-то из крепостных крестьян сумел удостоиться дворянского звания. А вот люди других сословий так и норовят втиснуться в наши ряды… – указав кивком головы в сторону беседовавшего с кем-то Григория Орлова, бросил депутат из Симбирска. – У него теперь, вишь ты, даже свой герб, имений несколько, каретам несть числа. А ведь он из стрельцов, мало чем от крестьян отличался. Нам не позволительно разбавлять свои чистые ряды такими прохвостами. Так ведь мы совсем загубим дворянскую кровь.
Тут к ним вновь подошел несколько успокоившийся Коробьин.
– Так вы, может, не признаете ровней и таких, как я, купцов? – вставил он свое слово в спор. – А ведь мы, в отличие от вас, трудимся на благо державы нашей, не зная ни дня, ни ночи.
– Можно и так считать, – сказал депутат, только что охаявший Орлова, не смея выказать свое отношение к купцам Коробьину прямо в глаза. – А что касается державы, она сильна благодаря нам, дворянам. Из кого состоят офицеры армии? А кто поставляет хлеб, мясо, молоко, яйца, шерсть? Мы же кормим не только Россию, а пол-Европы, вот так-с.
– Уважаемые господа, армия она, прежде всего, сильна оружием. А кто его создает? Люди науки и мастеровые. А они не дворяне. Да и насчет хлеба… Я ежегодно с козловской пристани отправляю десятки барж с зерном и яйцами. Если бы не было таких, как я, купцов, вы бы сгноили все, что произвели. Или вот, оглянитесь вокруг. Какой прекрасный зал, какой прекрасный дворец. Его ведь тоже не вы построили, господа дворяне. Если вы на самом деле печетесь о величии державы, вам надобно больше поддерживать умных людей, дать им образование, а наиболее успешных принять в свое сословие, тем самым поощряя и вдохновляя людей низших сословий…
«А ведь прав человек, – подумала Екатерина, внимательно прислушивающаяся к спорам в зале. – Если мы не дадим человеку надежду на рост, мы державу не поднимем. – Тут же она подумала и о тех, кто был созван для принятия «Наказа», и пришла к неожиданному выводу. – Нет, этим людям нельзя доверять принятие свода законов. Если каждый начнет включать в него свои прожекты, от моего «Наказа» останется одна обложка. Расхлебывай потом».
4
Из Москвы в Петербург Сентиер возвращался уже не в составе казацкого отряда, идущего в авангарде царского кортежа, а в арьергарде, в составе конных гвардейцев. Новый мундир ему не нравился. Со стороны он в нем, наверное, смотрелся красиво и браво, но при этом чувствовал себя скованно. С непривычки к плотно облегающему в талии мундиру со стоячим воротом Сентиер сидел в седле выпрямившись и выделялся среди других гвардейцев, будучи выше них на полголовы. Теперь на поворотах Екатерина Вторая почему-то посматривала не вперед, а оглядывалась назад. При этом нет-нет, да и замечала возвышавшегося над другими гвардейца. Да, бывают же такие богатыри! Ростом, правда, гвардеец-чуваш, пожалуй, не намного выше Григория Орлова, но в плечах шире на целую пядь. Да и рукава его мундира полностью наполнены мышцами и смотрятся внушительно. Как же зовут-то его? Императрица, наморщив лоб, попыталась вспомнить, но чужеязычное имя в голову никак не приходило. А фамилия его осталась в памяти с первого раза: Медведев. Ну, тут ни прибавить, ни убавить. Причем зверь на вид совсем не страшный, а очень даже симпатичный. Это Екатерина заметила уже на первом привале. Переведенный в гвардейцы Медведев теперь был одет не в казацкие мешковатые штаны, а в рейтузы, и его мужские достоинства так и бросались в глаза. Как все это привлекало! Увидев такого Медведева, Екатерина тут же почувствовала, как ею овладевала истома. И когда тронулись в путь, она пригласила в карету Григория Орлова и до следующего привала не выпускала его из своих объятий. Но здоровый Орлов на этот раз так и не смог полностью удовлетворить ее.
…После поездки в Поволжье Екатерина Вторая все свободное время отдавала государственным делам. В дороге она успела поразмыслить над многими вещами, и в ее голове народилось немало свежих идей. Главное – в России требовалось поменять и обновить многое. Начиная от государственного устройства, экономики и заканчивая человеческой душой. Как решить эти задачи? Ответы на это буквально роились в голове, не давая возможности останавливаться на чем-то определенном. Лишь в одном Екатерина не сомневалась ни на йоту: самое важное во всех будущих изменениях – поставить Россию на путь просвещенного абсолютизма. Когда большинство населения страны крестьяне, при этом из них восемьдесят процентов – крепостные и полностью принадлежат помещикам, иного пути просто быть не может. Потому требовалось просветить дворян на европейском уровне, чтобы они могли успешнее использовать эту огромную рабочую силу, заставить ее трудиться более производительно. Только так российская экономика сможет подравняться с экономикой передовых стран. И в этом Екатерину никто не сможет переубедить.
Одновременно требовалось ускорить и другое дело. Пытливая Sophie Auguste Frederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg еще до занятия царского трона хорошо изучила русскую историю. И она поняла главное: если довести до отчаяния, крепостная чернь может устроить дворянам сущий ад. Чего стоит бунт Степана Разина… Чтобы избежать подобных катаклизмов, следовало усилить роль православия. Темным человеком проще управлять через веру, ибо она вбивает в головы людей главную мысль – что любая власть от бога, значит, неприкосновенна. А с религиозной знатью общий язык можно найти всегда. Она, обещая простолюдинам благодать на том свете, сама уже на этом желает жить, как в раю. Только Россия разношерстная страна. В этом Екатерина Вторая воочию убедилась в ходе путешествия по Волге. Татары, чуваши, черемисы, эрзя, вотяки… Разных народов с разными верами в России полно и за пределами Поволжья. При этом если татары, башкорты мусульмане, у многих других народов – у каждого своя вера. Но все они одинаково вредны в одном: их вера учит человека поклоняться не власти от бога, а природным силам. Почему и надо ускорить христианизацию этих народов. А другие конфессиональные веры – ислам, буддизм пусть существуют. Пока. Ведь они тоже утверждают, что всякая власть от бога, неважно, кто он: Христос, Аллах, Будда… Только вопрос: справится ли русское духовенство с архиважной задачей христианизации инородцев? После путешествия по Волге императрица стала в этом сомневаться.
Поневоле вспомнились встречи со служителями православия. Особенно участие в освящении церкви в Федоровском монастыре. Игумен оказался древним стариком, передвигался кое-как. Он не смог даже молитву путем прочесть. Похоже, не все ладно было у старца и с памятью. Он то и дело пропускал слова молитвы, ладно монахини, открыто ругая его, все подправляли и подсказывали. Императрице показалось, что епископ Нижнего Новгорода Феофан Чарнуцкий и сам был слаб. Неспроста же он собрал вокруг себя таких немощных священнослужителей наподобие того игумена. Как говорится, молодец среди овец, а среди молодцов сам был бы овцой. Потому Екатерина сразу же по возвращению в Москву отписала письмо новгородскому митрополиту Дмитрию Сеченову с указанием на то, что Нижнему Новгороду требуется более сильный епископ. При случае освободившейся вакансии на место главы Нижегородской епархии, писала она, надобно «осторожно приступить к выборе кандидатуры, поскольку один человек своей небрежностью может испортить то, что насилу и в 20 лет исправить невозможно». Только в Казани императрица несколько успокоилась. Ей показалось, что здесь епархию возглавляет вполне достойная личность. Но в Казанской губернии, кроме православия, сильные корни имел ислам. Императрица, конечно, ведала об этом раньше и сделала немало, чтобы здесь служителей православия стало больше. Еще она очень почтительно отнеслась к иконе Казанской Божьей Матери. Не только из-за того, что была наслышана о чудотворной силе образа. Ей объяснили, что эту икону называют путеводительницей, способствующей верующим встать на путь истинный. Вот пусть она и поможет новоявленным православным христианам утвердиться в вере. Попросив Божью Матерь об этом, Екатерина Вторая в Богородицком монастыре положила перед нею уменьшенную копию царской бриллиантовой короны. Затем бриллиантовую же корону, но еще поменьше, положила перед иконой Спасителя. Совсем отлегло у нее в душе в Казанской духовной семинарии. Екатерина Вторая здесь воочию узрела, как вместе обучались дети разных народов. Когда же один из семинаристов в честь встречи с императрицей прочитал стихи на чувашском языке, она даже почувствовала некое облегчение. Если бы святые отцы везде служили во имя Господа и на благо России так же усердно!
Пока ехала из Москвы в Петербург, Екатерина не только разобрала текущие дела, но и наметила кое-какие планы. «В первую очередь, – решила она, – надобно обеспечить страну наличными деньгами. Иначе торговлю не развить, даже следуя пожеланиям того купца из-под Казани»». Только это сказать просто – обеспечить. Если продолжать чеканить деньги в металле, на это потребуются десятилетия. И вдруг ее осенило: а что, если отпечатать бумажные ассигнации? Заменят они монеты? Попытка не пытка, нужно попробовать. Иного выхода ведь нет. «Надобно будет поручить это дело вице-канцлеру Голицину. Пусть съездит в Красное село, встретится с владельцем типографии Ричардом Козинсом и лично проверит, способен ли англичанин печатать денежные знаки. Еще очень важное: следует немедленно начать внедрение требований, изложенных в «Наказе». Без этого о просвещенном абсолютизме не стоит и говорить».
Да уж, императрица действительно вся погрузилась в государственные дела. Но и о личном не забывала. Удовлетворяя свою естественную потребность, она по ночам заставляла графа Григория Орлова трудиться по мужской части до седьмого пота. Когда он отсутствовал, приглашала графа Панина, если же и того не оказывалось поблизости, не гнушалась воспользоваться услугами первых попавшихся на глаза сильных мужчин. Впрочем, Орлова это не беспокоило. Главное, чтобы Екатерина не нашла ему постоянную замену. Что вполне могло случиться. Орлов даже предполагал, кто может там прописаться в его отсутствие. И хотя этому человеку ни при каких условиях не суждено стать фаворитом из-за своего сословного положения, он все же мог сильно ослабить влияние Орлова на императрицу. Человек этот – новоявленный гвардеец-инородец. Не просто же так Екатерина старается держать его поблизости. Понимая ситуацию, граф Орлов требовал от командования Преображенского полка в карауле ставить Медведева на самые дальние посты, чтобы, – не дай бог! – он не попадался на глаза императрице. Григорий Григорьевич еще в Москве смекнул, почему Екатерина определила инородца в свою охрану. Эх, Като! Ненасытная ты баба! Нет, еще раз, Орлов нисколько не ревновал ее. По правде, для утех у него у самого в одном укромном месте есть целый гарем. Он просто не хотел приблизить к Екатерине тех мужчин, после которых ей стало бы не интересно проводить с ним ночи. Чего-чего, а этого никак нельзя было допустить. Во время переворота Орлов взял с будущей императрицы слово выйти впоследствии за него замуж. С тех пор прошел не один год, но как только Орлов пытается напомнить об уговоре, Екатерина тут же отводит разговор в сторону. Между тем желающих добиться благосклонности императрицы людей мужеского пола не сосчитать. Вон, молодой Потемкин рвет и мечет, и ведь чуть было не добился своего. А что, видный молодец, Орлову, пожалуй, ни в чем не уступит. Хорошо Григорию помог младший брат Алексей. Однажды совсем беспричинно придрался к Потемкину, и они сцепились. Тут другие братья Григория подоспели… И остался красавец Потемкин без одного глаза. А «Циклоп» Екатерине, похоже, уже не по душе. И слава богу. Конечно, инородец Медведев не из ряда подобных молодцов, императрица, при всей ее смелости, открыто приблизить его никак не сможет. И все же, как только гвардеец покажет свою силу, весьма вероятно, она перестанет уважать в Григории Орлове мужчину. Тогда пиши пропало с мечтой о женитьбе на нее.
Сам Сентиер, конечно, и помыслить не мог, что сказочно богатый и влиятельный граф, один из властителей страны считал его своим соперником и строил в отношении него коварные планы. В карауле он больше вспоминал свою родную деревню Эбесь. Впрочем, там он, случается, бывает даже во сне. То, поднявшись на опоясывающую ее с северо-востока возвышенность, с любовью обозревает простирающуюся внизу в форме серпа деревню, то выкорчевывает деревья, пытаясь расширить свое поле. Еще часто спускается к роднику, что прямо в центре Главной улицы, чтобы напоить коня, а после и сам наклоняется к желобу и глотками пьет живительную влагу, от которой ломит зубы. А однажды Сентиер вспомнил игрище. Помнится, это случилось в Питрав, говоря по-русски – Петров день. Игрище традиционно происходит на лужайке между Эбесем и соседней деревней Хумри Ишек. И участвует в нем молодежь обоих селений. В тот раз на игрище он приметил несказанную красавицу из этой соседней деревни. И потерял душевный покой. Только, оказалось, напрасно. Прошло совсем немного времени, и осенью, после уборки урожая, в Хумри Ишеке прогремела свадьба. Приглянувшуюся Сентиеру красавицу родители выдали замуж за сына состоятельного и уважаемого человека из другого соседнего села Хурамал… И когда годом позже наступил черед выделить из Эбеся одного рекрута, Сентиер сам напросился в армию. Его, сироту, провожала вся деревня. Все желали ему добра, здоровья, счастливого возвращения через двадцать пять лет. И благодарили. Ведь ежегодно из каждых трехсот мужчин надо было отправить одного парня в армию. И неизвестно, кому бы на этот раз выпала тяжелая солдатская доля. А так ни одному родителю не пришлось переживать за своего отпрыска…
Жизнь солдата от него не зависит нисколечко, вся его судьба – в руках командиров. Еще недавно Сентиер служил в пехоте, и вдруг стал казаком. А теперь он рейтар лейб-гвардии. В основном охраняет задние ворота царского дворца. Остальное время почти полностью проходит в муштре.
Лейб-гвардии Преображенский полк располагался на окраине Санкт-Петербурга. Единственно приятное для глаз здесь – Охтинская слобода на противоположном берегу Невы. Но и там глинобитные дома стояли, словно прибитые к земле. Их невозможно даже сравнивать с улицей офицерских домов в гарнизоне. Она здесь просторная, по ночам освещается фонарями. А рейтарские казармы, окруженные гауптвахтой, церковью и госпиталем, кажутся такими же пришибленными, как и избы Охтинской слободы. В самом центре гарнизона – штабная палата и цейхгауз, ближе к Неве – полковые кузницы и мастерские. Оттуда целыми днями слышен перезвон молотков, иногда кажется, будто они в чем-то соревнуются между собой. Недалеко от кузниц и мастерских есть излюбленное место рейтаров. Там, рядом с прачечной, понастроено несколько помостов для полоскания белья. По воскресеньям свободные от наряда рейтары любили посидеть здесь с удочкой. А рыбы в реке – лови, не хочу! Иногда на крючки попадались даже довольно-таки крупные и жирные лососи. В такие дни скудную солдатскую пищу разнообразила замечательная уха.
Сентиер не большой охотник до рыбалки, потому, когда разрешает виц-вахмистр, выходит в город. Его особенно удивляет проспект, который тянется вдоль Невы. Кого только там не увидишь! И во что только не одеты люди! Не то, что жители чувашских городов, даже москвичи его столько не поражали.
Иногда, сопровождая в составе эскадрона кортеж императрицы, Сентиер попадает в такие дивные места, о каковых не мог бы мечтать даже во сне. Екатерина Вторая особенно часто выезжает в Ориенбаум. Там у нее есть свой сад, и она самолично до дотошности проверяет его содержание. Там же, в Китайском дворце, перед императрицей и ее свитой часто выступают лицедеи. Вельможи называют эти выступления спектаклями, а лицедеев – артистами. Однажды, находясь на посту у заднего входа в зал, Сентиер тоже краешком глаза посмотрел один такой спектакль. И в какой-то момент даже забыл, где и зачем он находится. Удивительно же, эти артисты ведут себя так естественно, будто и не играют вовсе, а живут на сцене… Опомнился Сентиер лишь тогда, когда подошедший сзади вахмистр довольно-таки чувствительно дал ему по шее ребром увесистой ладони.
А поездку с царицей в Зимний дворец Сентиер никогда не забудет. На этот раз ему пришлось постоянно быть рядом с ее шлафвагеном. Говоря проще, с самой большой каретой в кортеже, в которой ехала императрица. Хотя впереди колонны скакал всадник, зычным голосом предупреждающий прохожих быть осторожнее, иные зеваки настолько наглеют, что так и норовят подойти поближе к шлафвагену и заглянуть в окошко. Понять их любопытство можно. Только вдруг среди них окажеся злоумышленник. Потому Сентиер бестолковым прохожим не давал даже приблизиться к карете царицы, поворачивая коня туда-сюда, преграждал им путь, а особо непонятливых, нагнувшись, хватал за шиворот и просто отбрасывал в сторону. Работая таким образом в поте лица, он все же краешком глаза и сам посматривал в окошко кареты и заметил, что императрица тоже следит за ним. И Сентиер стал отгонять зевак еще жестче.
Такого удивительного, сказочного строения, как Зимний дворец, Сентиер больше нигде не видел, наверное, и не увидит. Еще когда проезжаешь под аркой на дворцовую площадь, душу охватывает какое-то непонятное чувство – то ли мощи, то ли красоты, а может, и то и другое разом. И оно долго не покидает тебя даже после того, как вновь окажешься за пределами дворца.
Когда кавалькада остановилась на площади, Екатерина подозвала «Циклопа» – так теперь звали Потемкина все – и велела отобрать для внутренней охраны десять самых сильных рейтаров. Особо напомнила, что среди них должен быть и Медведев.
Оказывается, дворец только снаружи казался тихим. На самом деле там жизнь кипела вовсю. Между тем воздвигнутый при Елизавете Петровне дворец внутри еще не был доделан, и Екатерина хотела быстрее завершить все работы. При этом она заставляла многое переделать на свой вкус, для чего пригласила известного французского архитектора Жана Деламота. Сейчас тут трудились не покладая рук многочисленные позолотчики, зеркальщики, паркетчики, штукатуры. Десятки работников обклеивали стены шпалерами, специально доставленными из Европы. Рядом корпели архангельские мастера резьбы по дереву. Екатерина особенно пристально следила за тем, как обустраивается зал под названием аудиенц-камера. Прямо рядом с ним располагалась ее большая опочивальня, в стыке с нею – «Светлый кабинет». Причем акустика в аудиенц-камере была так искусно устроена, что в «Светлом кабинете» было слышно все, что там говорилось, если бы даже люди беседовали шепотом. Для Екатерины это было очень важно, ведь она в этом аудиенц-зале частенько собирала дипломатов.
Главная забота Сентиера – безопасность императрицы. Потому он во дворце не мог рассматривать все подряд. Но по ходу заметил, что здесь весьма высокие окна, потому в аудиенц-зале было очень светло. Этот свет усиливался отражением от натертого до блеска дорогого паркета, так что прямо-таки слепил глаза. Бывает же такое: в помещении светло так же, как и на улице, а может, и ярче.
После поездки в Зимний дворец Сентиера в карауле начали ставить на внутренние посты. Это случилось в самое подходящее время. Наступила осень, а в Петербурге она не такая, как в чувашском крае. Вроде бы и не холодно, но промозгло, часто моросит дождь, постоянно дует пронизывающий ветер. Он нагоняет со стороны Невы влажного воздуха, который, попадая за шиворот, холодной змейкой обволакивает все тело. В такую погоду, постояв на посту у ворот с часок, начинаешь дрожать так, будто на улице рождественские морозы. Теперь же Сентиер в карауле внутри здания, в тепле. Тут он познакомился с истопником Лобановым, который приступает к работе в полночь. Человек он высокий, худощавый, но жилистый и, по всему, весьма сильный. Своими длинными ручищами он прихватывает такую охапку, что обычным людям втроем не унести. Когда поленница уложит в топки печей, Лобанов начинает разжигать их одну за другой. И вскоре во всех коридорах стоит глухая воркотня, доносящаяся из утроб голландок. Как раз к утру весь дворец наполняется приятным теплом. Сентиер и в этом простом, казалось бы, деле познал нечто новое для себя. Оказывается, каждая печь обогревает сразу несколько комнат. Как объяснил Лобанов, от топок туда тянутся воздухопроводы, которые и нагревают кирпичные стены, следовательно, и помещения. Когда все печки затоплены, Лобанов устраивается у зева одной из них, что ближе к входным дверям, и начинает караульному рассказывать всякие новости. Сентиеру на посту разговаривать не положено, но слушать-то можно. Так что он, хоть и плохо знает город, а с помощью Лобановского всегда в курсе событий, происходящих в нем.
Еще Сентиер понял, что в стенах этого огромного дворца жизнь кипит и по ночам. Правда, гости императрицы редко бывают в хозяйственном блоке, который он охраняет, но все же случается, что по какой-то нужде заглядывают и сюда. В один из таких моментов Сентиер увидел и того самого генерал-фельдцехмейстера, то есть графа Орлова, который близ Алатыря приказал было казнить двоих чувашских мужиков. Сразу бросилось в глаза, что граф вел себя здесь как главный хозяин, что удивило. По мнению Сентиера, в доме, где находится государыня-императрица, все должны были быть тише воды, ниже травы. А этот граф Орлов словно нарочно всегда говорил громко и дерзко, ни к кому особо не прислушивался и приказывал слугам делать все, что ему вздумается. Однажды, видно, услышав поднятый им шум, вслед за графом заглянула в хозблок и сама императрица, а Орлов бесцеремонно схватил ее за локоть и прямо-таки уволок обратно. Граф – императрицу! Вот это да-а!
Лобанов обычно говорит о чем угодно, только не о том, что происходит во дворце. Но однажды он пришел на работу с полуштофом шнапса, купленным по пути в немецкой лавке, и, отмечая одному ему известный праздник, изрядно набрался. И тогда с большой даже охотой объяснил, почему происходят подобные казусы.
– Рейтар, ты знаешь, ноне главный хозяин Руси – Их сиятельство Григорий Григорьевич, – стараясь говорить тише, сказал истопник, наложив на губы заскорузлый указательный палец.
– Как так? – удивился Сентиер.
– А вот так, – мотнул головой Лобанов и многозначительно улыбнулся. – Наша матушка – она, конечно, дама умная. И характером крепка. Только у нее, как у многих баб, есть один простой недостаток.
– Интересно, что же это? – еще ничего не понял Сентиер.
Лобанов тихо похихикал, из-за пазухи достал бутылку с остатками шнапса, сделал очередной большой глоток и, приблизив пахнущий перегаром рот к уху рейтара, объяснил:
– Она слишком часто опрокидывается на спину.
– Хворая, что ли? – пуще удивился Сентиер.
Тут Лобанов не выдержал, захохотал во все горло. Тут же, опомнившись, прикрыл рот широкой ладонью и тихо прошептал:
– Понимаешь, рейтар, матушка наша – как та кобыла, которая любит жеребцов. Причем жеребцы должны быть самые, самые… Понимаешь? Про того же Григория Григорьевича говорят, что он не уступит иному жеребцу. Вот, друг мой, потому наша матушка вся в его власти.
От услышанного Сентиер долго не смог прийти в себя, ходил, словно ошарашенный чем-то по голове. А сумевший удивить друга Лобанов распалялся все больше:
– Хочешь знать, по мужской части даже граф, похоже, ее удовлетворяет не ахти как. Потому наша матушка иногда с охотой оказывается и под другими петухами. Дворянин ли он или простолюдин – не брезгует никем. Я знаю, что говорю. Я и сам пару раз побывал в ее будуаре…
_ Не может быть! – изумился Сентиер. – Прости, но кто ты и кто она…
До Лобанова, похоже, дошло, что он наговорил лишку.
– Ну, ладно, мне надо работать, – сказал он, поднимаясь не без труда. – Да и тебе нечего стоять на одном месте. На посту как-никак.
Утром, слегка протрезвев, истопник сам подошел к Сентиеру и начал умолять:
– Рейтар, будь человеком, забудь, что я тут вчера спьяну наболтал, Христом Богом прошу. Ежели хоть одно слово из сказанной мною глупости дойдет до господских ушей, не сносить мне головы. Да и не было ничего такого, и не могло быть. Разве ж можно… Ах, этот шнапс! Язык развяжет да башку под плаху положит.
Сентиер еле успокоил Лобанова, дав слово, что будет молчать, как могила. Да он и без этого не стал бы пересказывать услышанное от пьяного истопника кому бы то ни было. Не базарная же баба… Только сам после этого, когда была возможность, стал пристальнее присматриваться к императрице. Не как солдат к высокому начальству, а как мужчина к женщине.
Сентиер давно заметил, что русские бабы сильно отличаются от чувашских. Не только заметил, однажды даже попробовал одну из них на вкус. Когда попал в лейб-гвардии полк, с ним по какой-то причине подружился сержант Алексей Трегубов. Сам он из дворян, однако держал себя с Сентиером как ровня. Когда случались свободные от службы дни, он частенько брал его с собой в город и знакомил с такими его уголками, о которых Сентиер даже не подозревал. Однажды Трегубов нанял лодочника и повез его на какой-то остров.
– Медведев, ты мужчина в самом соку, тебе хоть изредка требуется женская ласка. Иначе вполне может статься, что когда вернешься со службы домой и женишься, окажешься неспособным обрюхатить женушку. Останешься без наследника, – сказал он по пути. – Это было бы большой несправедливостью, особливо для такого богатыря. Потому я сейчас везу тебя к женщинам. В твоем распоряжении будет вся ночь. Занимайся любовью, сколь сможешь.
– Ваше благородие, как же так? – растерялся Сентиер. – Чужая женщина… В первую ночь…
– Не ломай зря голову. Это их работа, так они на хлеб зарабатывают. А тебе, повторяю, хоть изредка требуется удовлетворить телесные желания. Иначе, я уже сказал, что может случиться… Ты о деньгах не думай, за утехи твои я заплачу. Я ведь и сам там останусь на ночь. Только одному как-то стремно, черт знает что за публика там…
Ну и дал тогда себе волю Сентиер. Избранная им довольно-таки дородная женщина после полуночи не выдержала, вся обессилев, позвала на помощь подругу. И они вдвоем еле-еле удовлетворили истосковавшегося по женщине солдата.
После того случая и стал Сентиер внимательнее присматриваться к русским женщинам – и к женам офицеров гарнизона, и к майрам*, которые, как говорил сержант Трегубов, дефилируют по Невскому прошпекту. Оказалось, что они отличаются от чувашек не только по виду и одежде. Они и держали себя совершенно иначе, стало быть, и нрав у них иной, соответственно и чувства, и поведение. На первый взгляд казалось, что русские бабы ведут себя гораздо вольготнее чувашек. Они легко заговаривают с незнакомыми мужчинами, пробуют пьянящие напитки не только краешком губ, иные, употребив их сверх разумной меры, отпускают «передние тормоза». И все же в обыденной жизни они особо не влияли на поведение мужей и вообще мужчин, ибо те к ним не особо прислушиваются. Иное дело у чувашей. У них женщина держит себя весьма скоромно, прилюдно даже не смеет говорить громко. Только в действительностит она заметно влияет и на семейную жизнь, и на деловые решения мужа. Хоть она при встречах мужчин за столом почти не выглядывает из своего предпечья, готовя для них еду и закуски, а к их разговору прислушивается чутко и в нужный момент обронит как бы невзначай пару слов, направляя течение мыслей супружника в нужное русло. И все дальше идет ладно. Что касается напитков, чувашка позволяет себе лишь несколько глотков пива или медовухи. А общение с чужим мужиком на виду у всех – это вообще ни-ни, ибо такую женщину, если заметят за подобными разговорами, тут же ославят на всю деревню, и от этой «славы» не отмоешься за всю оставшуюся жизнь. А мнение односельчан для чувашей – самый сильный закон. Впрочем, кто знает, живи чувашки в городе, может, и они стали бы такими же, как русские майрушки. Город – это совсем иной мир. А еще… Еще жизнь в царских дворцах… Ее не сравнить даже с городской, ни с чем не сравнить. Бывая в наряде, Сентиер поневоле видел, как живут уже не просто горожанки, а дамы самого высшего света. Особенно его поражало то, что, даже находясь как бы в обществе своих мужей, они нет, нет, да и умудрялись уединиться с какими-то более молодыми кавалерами хотя бы на полчаса, благо свободных помещений во дворце более чем достаточно. Да и мужья их были не промах, они тоже уединялись с чужими дамами в такой же манере. И как эти люди живут семьями – этого Сентиеру, наверное, не постичь никогда.
И все же Екатерина Вторая – она ведь не какая-то майрушка и даже не просто дама высшего света. Она же… как бы это выразить… Она же царица всея Руси, государыня-матушка-императрица!
Однажды, – кажется, это было в субботу, – к Екатерине вошел одноглазый камергер Григорий Потемкин.
– Рейтар, сюда никого не пускать! – строго приказал он Сентиеру перед тем как скрыться за широкой дверью.
Прошло, наверное, около часа. За это время к этой двери приблизились лишь две фрейлины, но, узнав, что вход воспрещен, тут же удалились, что-то шепча друг другу на ухо и тихонько похихикивая. И тут вдруг, откуда ни возьмись, в зал ожидания вошел граф Орлов и прямиком направился к будуару императрицы. Сентиер поспешно встал перед дверью, преградив ему путь. Но крепкий граф будто и не заметил караульного, небрежно прикрикнув: «Пшол!», левой рукой отодвинул его и вихрем ворвался в таинственную дверь. Не прошло и минуты, как за нею поднялся невообразимый шум. Двое мужчин и одна женщина общались так неистово громко, что, казалось, дрожали даже стены огромного дворца. Прошло еще несколько минут и из будуара таким же вихрем, как только что вошедший граф Орлов, выскочил весь покрасневший камергер Потемкин. А за дверью теперь продолжали ругаться граф Орлов с императрицей Екатериной. Это препирательство тоже длилось недолго, царица выгнала и графа. Даже дверь сама растворила. Затворяя ее, она мельком взглянула на Сентиера. Наверняка просто так, попутно, но от этого взгляда парень почувствовал себя так, будто ему на голову вылили ушат студеной воды. Царица, хоть и женщина, все же царица и есть.
– Дура¸ я тебе этого никогда не прощу! – послышался тем временем из вестибюля голос Орлова.
Тут же звякнул звонок внутренних дверей, затем с грохотом захлопнулись наружные. Видно, граф был обозлен не на шутку.
После этого прошло несколько часов. Сентиер успел смениться и вновь заступить на пост. Пришел Лобанов, взялся за свое привычное дело. Дворец начинали отапливать при первых же признаках наступающих холодов. Да и осень тут весьма капризная: сыро, туман такой, что с десяти шагов не видно, и так несколько дней подряд. В затопленных Лобановым голландках, обнимая друг друга, привычным бормотанием заговорили языки пламени. Вскоре истопник остановился перед одной из них, чуть приоткрыв дверцу топки, устроил себе теплое местечко, и, расстелив прямо на пол скатерку, выложил на нее свою нехитрую снедь.
– Рейтар, подь сюды, подзакуси со мной, – пригласил он Сентиера. Видно, из-за сложного произношения он его по имени называл редко.
– Нельзя мне. Я на посту, – напомнил Сентиер.
– Да ладно, здесь не на улице, никто и не заметит…
Может, Лобанов и уговорил бы Сентиера потрапезничать вместе, да тут неожиданно дверь будуара императрицы широко распахнулась и вышла сама Екатерина, остановившись, метнула взгляд в сторону мужчин.
– Рейтар, поди-ка ко мне, – коротко приказала она и тут же скрылась за все еще открытой дверью. Сентиер растерянно посмотрел на Лобанова. Тот тут же молча собрал свой поздний ужин и тихо смылся куда-то. Что делать Сентиеру – государыню ослушаться нельзя. Он несмело шагнул внутрь, тихо притворив за собою дверь, и оказался в большой комнате. Там никого не было. В глаза бросался, прежде всего, огромный письменный стол. На нем лежала стопка пергаментной бумаги, стояли надраенная до блеска золотая посудинка с емкостью для чернил и кубок, тоже золотой, из которого торчали наточенные гусиные перья. К столу приставлен большой мягкий стул из красного дерева с разукрашенной замысловатой резьбой спинкой, а перед столом, вдоль стены, стоял диван из такого же красного дерева и с такой же резьбой. Рядом значительную ее часть занимали полки. На них Сентиер не заметил ни одного пустого места, все сплошь были заставлены самыми разнообразными книгами.
– Эй, рейтар! Ты где? – послышался вскоре откуда-то из глубины требовательный голос государыни.
Похоже, она находилась в следующей комнате, дверь которой оставалась приоткрытой. И все же Сентиер сначала постучался, затем, не смея полностью растворить дверь, протиснулся в комнату бочком. Так оказался, наконец, в будуаре императрицы и встал, как вкопанный, обомлев от увиденного. Оказывается, государыня, похоже, уже собиралась почивать и лежала на широченной постели. Она была в одном халате, который был почти распахнут, а из-под атласа выпукло выделялись довольно-таки массивные груди, верхняя часть которых открыта так, что, даже увидев их лишь краешком глаз и тут же отведя взгляд, Сентиер все равно почувствовал, как к щекам приливает кровь.
– Рейтар, быстренько разденься и иди ко мне, – нетерпеливо приказала Екатерина. Видя нерешительность Сентиера, прикрикнула: – Ну!
Дальше все происходило, как во сне. Сначала Сентиер чуть не опозорился. И то сказать, какой-то темный чуваш в этом дворце, среди сказочного блеска и сама государыня-императрица… Но Екатерина, похоже, поняла его состояние и сама чисто по-бабьи помогла ему прийти в себя. Сентиер и после этого, хоть и смог приступить к мужским обязанностям, а возился долго, может, полчаса, а может и более, потому ждал, что Екатерина обругает его и, не дай бог, еще и накажет. Но та не то что возмутиться, даже похвалила рейтара. Постепенно Сентиер осмелел и с каждым подходом к государыне вел себя все решительнее. Чего уж теперь, или пан, или пропал! Под конец он так разошелся, что заставил императрицу охать и ахать вплоть до самого утра. Перед рассветом Екатерина даже поговорила с ним, расспросила о чувашах, поинтересовалась, все ли чувашские мужчины такие могучие.
– Ты, рейтар, не переживай и не думай чего плохого, – сказала она перед расставанием. – Я женщина вдовая. А близость с мужчиной мне нужна по необходимости. Ежели этого не происходит, я начинаю плохо соображать. Уж такой меня уродил Господь. А в эти дни мне приходится особенно напрягать мозги и принимать важнейшие государственные решения. Ты хоть ведаешь, что на юге на Россию опять напала Османская империя? И повод-то нашли смехотворный. Оказывается, отряд дружественных нам украинцев, преследуя гайдамаков, неожиданно для самого себя оказался у турецкого города Балта. Ну, заметив оплошность, тут же повернул обратно. Однако султан Османской империи Мустафа Третий раздул этот случай, как муху до размеров слона, и объявил нам войну, о чем мне сообщили буквально вчера. Сам понимаешь, в такой ситуации моя голова должна работать особенно четко. Потому и нужна мне мужская сила… – Императрица какое-то мгновение что-то подумала про себя и добавила: – А он, глупый, все чем-то недоволен. Ему бы размышлять, как положено государственному мужу, а он дает волю своей мужицкой ревности.
Сентиер, конечно, не мог знать, что эти слова относились вовсе не к графу Орлову, а к камергеру Потемкину. Не только какой-то рейтар из караула, даже приближенные императрицы все еще продолжали считать, что ее фаворитом является граф Орлов. Даже то, что государыня недавно одарила одноглазого Потемкина новым чином, позволяющим ему появляться в царском дворце в любое время, посчитали лишь ее временной блажью. Впрочем, Сентиер не мог в рассуждениях заходить столь далеко. Не его, рейтара, это дело. Потому он ничего не стал уточнять у императрицы, быстренько облачился в свой мундир и, стараясь быть незаметным, тихо вернулся на свой пост. И то, поди пойми, как надо держать себя в подобных случаях. Она же царица, самодержец всея Руси! Коль захочет, может извиваться под тобой, как змея, а коль вдруг окажется не в настроении, может тут же приказать отрубить тебе голову.
5
Несмотря на бессонную бурную ночь, Екатерина встала, как обычно, с утра пораньше. Удивительно, удовлетворение истомной сладостью, которую она получила от случайной близости с рейтаром, придала ей столько вдохновения, что она чувствовала себя свежо, словно беспробудно проспала целые сутки. Да уж, есть в этом рейтаре какая-то необъяснимая особенность мужской силы. И вообще он даже с виду необычный человек. На русских не похож, однако и азиатом его не назовешь. К мужскому делу приступает медленно. Видно, все же стесняется царицы. А потом постепенно возбуждается-возбуждается и начинает действовать так, что, кажется, из женского нежного тела вот-вот полетят искорки. А когда выстрелит, наконец, всю накопившуюся в нем энергию, резко обессиливает и становится, как и в начале, совершенно скромным мужиком. Может, это оттого, что он совершенно чист душой, а может, просто из-за страха кары за своеволие. Ах, знал бы он: сильному мужчине, вытворяющему с ней такое, вовсе не следует бояться Екатерины. До сих пор она не обидела ни одного любовника, с кем имела близость, расставалась с ними лишь с благодарностью. Простых офицеров произвела в дворян и подарила им имения, а дворянам доставались разные чины и почетные должности, да и вознаграждения тоже.
Постой, этого рейтара тоже надо бы поощрить, подумала Екатерина в какой-то момент. Негоже царице иметь отношения с рядовым солдатом. Сегодня же этого… Вот еще, Екатерина не смогла даже вспомнить имя рейтара… А фамилия его – Медведев. Ее невозможно забыть. Особенно после этой ночи. Ну да ладно, имя узнают. Главное, рейтару Медведеву следует немедленно присвоить чин сержанта. Пусть радуется человек. Да и жалованье у него вырастет, станет хоть лучше питаться.
Решив этот пустяковый, в общем-то, вопрос, Екатерина взглянула на стоявшие в углу большие часы творения известного немецкого мастера. Они как бы напоминали ей, откуда она родом. А показывали часы уже шесть. Пора умыться, привести себя в порядок и приступить к работе.
Екатерина вошла в туалетную комнату, на минуту остановилась перед висевшим на стене овальным зеркалом. Оттуда на нее всматривалась надменная женщина с чистым светлым лицом, иссиня-черными волосами без единого намека на седину. Только в уголках глаз уже проявились первые морщинки, пока совсем коротенькие и малозаметные. Да и подбородок стал рыхловат. Екатерина знает: на ее животе уже начал накапливаться подкожный жир. Она особенно четко поняла это нынешней ночью, когда, желая полюбоваться мужской мощью рейтара, не раз поднимала голову. Да уж! Как ни крути, ей тридцать девять, не за горами сорокалетний юбилей. А женский век короток, ох, как короток…
Но вот Екатерина выпила две чашки крепкого кофе кряду и, отбросив всякие ненужные мысли, приступила к решению государственных задач.
А время для России наступило архисложное. Самое тревожное, конечно, то, что Османская империя пошла войной на Россию. До Петербурга весть об этом дошла через несколько дней после ее объявления. К тому времени на юге уже начались бои. Не ожидавшие ничего такого русские войска оказались в весьма затруднительном положении. Тем временем турки, обосновывая свою вероломность, предъявляли России все новые и новые обвинения. Будто бы Россия сильно обидела турецкого вассала – крымского хана, разгромив в городе Галта его сказочный дворец. На самом деле Галта хоть и называлась городом, была лишь скромненьким аулом, там не то, что дворцов, вообще больших строений отродясь не было. Разве что сараи для хранения сена. Ну, ладно, пусть бы врали турки, в политике обман дело привычное. А вот новый визирь турок Махир Хамза-паша, близкий человек султана, начал раздувать противостояние совсем уж мерзким образом. Еще до объявления войны он в Истамбуле пригласил на аудиенцию российского посла Обрескова, а вместо беседы подверг его аресту и вместе с советниками поместил в тюрьму Эди-Куль. Алексей Михайлович Обресков для Екатерины Второй был не просто послом, он являлся одним из лучших организаторов дипломатической разведки, которой императрица, как в целом дипломатической работой, руководила сама. Оставшиеся в Стамбуле тайные агенты доносили, что в тюрьме посла держали отдельно в яме, откуда был виден лишь небольшой кусочек неба. Еще они доносили, что до объявления войны России визирь встречался с послами Франции, Австрии, Англии, Швеции. Те, оказывается, от имени своих государств пожелали Хамза-паше и его Дивану – так называли в Османской империи правительство – победу в будущей войне.
А тут еще украинские гайдамаки начали мутить воду. Видно, решили воспользоваться моментом. Они распространяли некий манифест от имени императрицы Екатерины Второй, о котором сама она не ведала ни сном, ни духом. Доставленный в Петербург экземпляр манифеста был отпечатан золотыми буквами на пергаментной бумаге. Как тут не поверишь в его подлинность… Гайдамаки призывали украинцев – ни много, ни мало – восстать против польских панов, разгромить их и создать свое государство. Вот не было печали… С гайдамаками ли сейчас возиться императрице. Что, если бунт правобережной Украины против польской власти перекинется и на левобережье? Тогда Польше будет нанесен непоправимый урон. Стране, которая находится под протекторатом России. Хорошо Екатерина каким-то внутренним чутьем предвидела возможность подобных событий и заранее послала туда с небольшим войском Суворова, присвоив ему чин бригадира. Из его депеш императрица знала, что гайдамаки представляют довольно-таки большую силу, а возглавляет их некий Железняк. Бунтовщики легко заняли города Жаботин и Лисянку… Одним словом, несть числа поводам, по поводу которых императрице приходилось ломать голову.
Разобравшись с кое-какими делами, Екатерина приказала созвать Военную коллегию. Сама прибыла в Царское село минута в минуту к назначенному времени, потому поднялась на второй этаж, на ходу сбрасывая с себя платок и шубу. Следовавший за ней неотступно страж сержант лейб-гвардии Медведев легко подхватил их и передал идущим чуть сзади людям свиты.
…Сентиера оставили на посту у входа в зал, где проходило совещание Военной коллегии, и ему было слышно почти все, что там говорилось.
– Турки и французы растревожили мирно спавую кошку. Никого не трогавшую. Никому не угрожавшую. Растревожили нагло, бесцеремонно. Эта кошка – Россия. Токмо ежели сильно раззадорить и разозлить, даже мирная кошка любого исцарапает так, что следы от ран останутся на всю жизнь. А ведь Россия – не простая кошка, она – тигр! Мы так и поступим и совершим таковые действия, чтобы недруги наши запомнили их на все гисторическое будущее! – твердо произнесла Екатерина Вторая. – Видит Бог, я нисколько не виновата в том, что вынуждена пойти на это. Чего мы только не делали, на что только не шли, чтобы не раздражать турок, вплоть до заключения с ними невыгодных нашей державе соглашений. И все же война пришла на нашу землю. Что ж, такова, видимо, воля божья, она подвергает нас суровым испытаниям, и мы выдержим их достойно…
И тут же императрица строго приказала канцлеру Панину:
– Никита Иванович, немедля организуй Государственный Совет из самых достойных людей. Мне, женщине, не пристало руководить военными операциями в одиночку, да и не шибко сильна я в сем деле.
Панин первым делом предложил включить в Государственный Совет фаворита императрицы Григория Орлова. В душе тайный советник граф Панин не симпатизирует ни одному из братьев Орловых, при первой возможности старается ставить их на место. «Но ежели Гришку не предложить в Совет, Екатерина обозлится на меня на всю жизнь. И так она уже не только со мной, но и с братом моим Петром держит себя холодно. Хорошо, брат генерал, а в государстве то и дело вспыхивают бунты. Петр стал настоящим мастаком по их подавлению, так что Екатерина пока без него никак не сможет обойтись», – подумал Панин про себя.
Для Государственного Совета освободили небольшой каминный зал прямо рядом с будуаром императрицы. Екатерина решила не транжирить драгоценное время на поездки в город и обратно, решила большей частью находиться в Царском селе. И вот уже четвертого октября Госсовет собрался в этом зале на свое первое заседание. На посту возле входа в него вновь оказался Сентиер. В сверкающем от новизны мундире сержанта лейб-гвардии Преображенского полка. И все же… Если бы он хоть кому-то проболтался, что однажды побывал в будуаре императрицы, его точно сочли бы за отъявленного лгуна.
Открывая заседание Государственного Совета, Екатерина произнесла непривычно короткую речь.
– Уважаемые господа, лучшие сыны Отечества! Нам, русским, придется воевать с Отоманской Портой. Меня беспокоят три момента. Первый – как нам воевать, как вести эту войну? Второй – где готовить главные баталии? Третий – пока мы воюем с турками, как нам охранять другие рубежи?
Удивительно, обычно любящие подолгу рассуждать по всякому поводу вельможи на этот раз все вопросы решили быстро. Посчитали, что воевать следует только наступательно, оборона к победе не приведет. Наметили начать сражение от Днестра, предотвратив вступление турок в Подолию. И еще одно важное решение – окружить Крым со стороны моря. Но тут была загвоздка: для осады полуострова требовался весьма солидный флот. Потому решили вновь запустить на полную мощность верфи на Дону и в Воронеже. Затем военные мужи наметили, где расположить войска. В ходе этого обсуждения Екатерина сидела молча, пытаясь понять логику генералов. И вдруг услышала громкий выкрик Григория Орлова:
– Все это хорошо. Но, я полагаю, мы сейчас должны наметить главную цель военной кампании. Воевать без главной цели – это попусту лить кровь и терпеть расходы.
Генералы мгновенно замолкли, все обернулись к Панину. Видно, посчитали, что реагировать на замечание графа должен именно он. Между тем действительный тайный советник с ответом не торопился, попытался сначала все пораскинуть в уме. «Орлов вряд ли высказался от своего имени, – подумал он. – Могло статься, что он это же самое изложил сначала императрице и получил от нее добро задать вопрос мне. Вот бестия. Впрочем, в его словах есть смысл».
– А цель войны, я полагаю, в завершении ее как можно скорее, – высказал, наконец, Панин.
– Завершить викторией, – добавил вице-канцлер Голицын.
Орлов криво усмехнулся. По всему, сейчас едко уколет всех. Похоже, он готовился к этому заседанию основательно. И не мудрено. В последнее время при дворе заметили, что императрица стала относиться к графу весьма прохладно. Понятное дело, ему надобно показать себя незаменимым деятелем в решении важных государственных задач.
– Виктория – это просто виктория, – произнес Орлов с некоторой надменностью. – А я спрашивал о цели войны. Сие означает, что нам надобно уже сейчас продумать, какую выгоду мы заимеем после виктории над турками и их союзниками и какую внешнюю политику станем вести в дальнейшем.
Генерал-аншеф Петр Иванович Панин понял, что в этой заранее продуманной Орловым перепалке его брату Никите не победить, и поспешил перевести разговор на более знакомые, сугубо военные дела. В них-то уж графу никак не блеснуть. Завели речь о конкретных делах, связанных с ведением войны. Войска разделили на три армии: Первую действующую, которая непосредственно должна была сражаться с турками, Вторую оборонительную, призванную охранять остальные рубежи страны, и Третью передвижную. Екатерина попросила назначить командующих этими войсками, но заранее предупредила:
– Назначить командующим действующей армией я рекомендую Голицына. Понимаю, что вы в большинстве за Салтыкова. Разумеется, Петр Семенович опытный генерал, не раз блиставший своими умелыми действиями. Но он уже довольно в возрасте, пусть останется в Москве и следит там за порядком.
Что оставалось делать Совету, пришлось согласиться с мнением женщины, которая «не шибко сильна» в военном деле. Оборонительные войска доверили генерал-аншефу Румянцеву. Петр Панин хотел было возразить против такого назначения, но передумал, ограничился недовольным вздохом. Что поделаешь, против воли императрицы не попрешь. Нет, он нисколько не против Румянцева, скорее наоборот. Только ведь большой наступательный опыт генерала в оборонительных войсках не применишь.
Затем перешли к обсуждению окружения Крыма. Мысль, конечно, была отменная, только вот у России в Черном море пока кораблей раз, два и обчелся.
– Вот ежели бы турок ужалить сзади, со стороны Средиземного моря, – мечтательно произнес Орлов. – Что бы стал делать султан, почувствовав огонь под задом?
– Да уж… Жаль, что этой мечте пока не сбыться, – вздохнул князь Вяземский.
Внимательно прислушивающаяся к разговору мужчин Екатерина наивно спросила:
– Почему не сбыться, князь?
– Потому как у нас нет флота, способного ходить в такую даль. Туда же надобно пробираться, огибая всю Гейропу.
Некоторые члены Государственного Совета с Вяземским не согласились. Они напомнили, что русские купцы давно проторили дорогу в Средиземное море. Они в одну только Грецию поставляли мастерам скорняжных дел десятки тысяч собольих шкур и прочей ценной пушнины. И все по воде. Как бы ни было, мысль неожиданно ударить турок сзади понравилась всем. Все горячо стали обсуждать, есть ли возможности осуществить такой замысел.
– Господа вельможи, все же давайте не забывать о главном, – остудила их Екатерина. – Граф Григорий Орлов начал разговор о цели войны. Итак, к какому заключению мы пришли? До каких пор нам продолжать ее? И какую пользу нам должна принести ее завершение?
Еще немного обсудив, Совет решил, что если война завершится в пользу России, султана следует обязать, чтобы он далее не препятствовал хождению по Черному морю российских кораблей. Еще раз и навсегда определить и закрепить границу между Турцией и Польшей, чтобы дружественной России стране с юга больше никто не угрожал.
Объявив о своем решении, члены Совета замолкли, и все повернулись в сторону императрицы, ожидая, что она скажет. А Екатерина не торопилась с резюме, раскрыла табакерку, достала из нее щепотку табака, понюхала, чихнула с большим удовольствием.
– Очень верная мысль, – заговорила она, наконец. – Сие будет исполнением мечты Великого Петра Первого. На Балтике мы давно уже ходим свободно. Пусть в ближайшее время станет так же и на Черном море. Российские корабли должны бороздить его воды, не остерегаясь никого и ничего. А на морских берегах должны быть наши порты и пристани. Пусть русские купцы через них наладят торговлю со всем миром.
Членам Совета слова императрицы явно пришлись по душе. Лишь братья Панины остудили их напоминанием:
– Ежели дела обернутся таким образом, Турции сие зело не понравится, – сказал Никита Иванович.
– Да и их европейские друзья постараются вставить нам палки в колеса, – добавил Петр Иванович.
Генералы промолчали. Да и чем тут возразишь. Только бывший гетман Разумовский, воспользовавшись моментом, напомнил о своей давней мечте:
– Турки, разумеется, не согласятся с этим. Но на Черном море пока хозяева не токмо они. Есть еще Крымское ханство. Нам следует оторвать его от Стамбула, пусть крымские татары создадут свое, независимое от турок государство. Тогда нам на первое время хватит и крымского побережья, чтобы обосноваться на Черном море.
Екатерина понюхала еще щепотку табака, громко чихнула дважды, обвела взглядом каждого члена Государственного Совета.
– Ну, разошлись все. Пора приступить к работе, – сказала затем, закрывая заседание. То ли согласилась она с последним предложением, то ли пропустила мимо ушей – никто ничего так и не понял.
В последнее время Сентиер, будучи в карауле, на пост по охране покоев императрицы все попадал в ночное время. Но через день после совещания Государственного Совета, когда он попал в очередной наряд, его поставили в дневную смену. Как раз в момент смены часовых во дворец неожиданно и, как всегда, вихрем ворвался одноглазый Потемкин. Разводящий приказал немедленно пропустить его к императрице. А Сентиеру что… Между тем «Циклоп» так торопился, что не успел затворить за собой дверь как следует, и Сентиер, нисколько не желая подсматривать, в течение какого-то времени успел увидеть и услышать, что происходило внутри. Императрица вышла навстречу камергеру прямо в переднюю и приблизилась к нему лицом к лицу.
– Матушка, я прибыл к тебе по очень и очень важному для себя вопросу, – дрожащим от волнения голосом произнес Потемкин. – Отправь меня, пожалуйста, воевать с турками.
Екатерина постояла молча, глядя ему в глаза. Затем произнесла торжественно-нежно:
– Хорошо, я благословляю тебя на это ратное дело.
И, встав на цыпочки, обняла Потемкина, своими беленькими ручками погладила его по щекам и смачно, как показалось Сентиеру, даже с вожделением поцеловала прямо в губы.
Сентиер, стараясь все сделать тихо, прикрыл дверь.
Позже Лобанов рассказал, что камергер ушел из дворца лишь ближе к утру. Екатерина проводила его до самого выхода.
6
Медведев в сержантах походил недолго. Однажды командир полка сообщил ему очередную неожиданную новость: оказывается, по хотению самой императрицы Сентиеру присвоен чин фельдфебеля. Через несколько дней, после получения мундира унтер-офицера, его снова включили в охраняющий царский дворец караул на прежний пост. На этот раз он недолго простоял у входа в будуары императрицы, вскоре она пригласила его к себе и не отпустила до самого рассвета…
– Медведь, я бы тебе присвоила и чин обер-офицера, – сказала она на прощание. – Но ты не дворянин. Все же помни: чин военнослужащего лейб-гвардии на две ступени выше, чем в обычных войсках.
А Медведеву не до чинов. Рядовой ли он или фельдфебель – он знает свое место. Вернее, знает как вести себя с солдатами. А как в будуаре царицы? Тут он все еще проявляет робость.
– Ты совсем не такой, как другие мужики, – заметила однажды Екатерина. – Со мной обращаешься весьма осторожно. Однако ж свое мужское дело делаешь отменно. Это мне сильно нравится.
Само собой, среди придворных ходили весьма подробные разговоры о странных отношениях императрицы с мужчинами. Кое-что доходило и до ушей фельдфебеля Медведева. Поговаривали, к примеру, что граф Григорий Орлов в минуты сильного озлобления мог даже поднять руку на Екатерину. Потому, дескать, она стала остывать к нему, решила приблизить к себе «Циклопа». Неужто и Потемкин со временем обнаглеет и станет вести себя по-Орловски? Правда, «Циклопа» во дворце что-то давно не видно. Поговаривали, что он готовится к отъезду на турецкую войну… Самому Сентиеру в последнее время приходилось ходить в караул через день, и каждый раз стоять на посту в ночные смены. Но он не жаловался, ни разу не просил командиров, чтобы дали ему хотя бы лишний день отдыха.
Потемкин появился во дворце в субботу. Незадолго до этого здесь случилось неприятное происшествие, потому он не осмелился даже приблизиться к будуару императрицы.
Екатерина с первых месяцев пребывания в России полюбила русскую баню. Полюбила так, что не пропускала ни одной субботы, чтобы не попариться вволю. Причем, парилась она так неистово, что не выдержали бы самые заядлые мужики-парильщики, будь они, как в Германии, вместе с нею. На этот раз тоже Лобанов, как обычно, натопил баньку так, что обычному человеку в парильне просто нечего было делать. Екатерина, по обыкновению, пошла в баню с графиней Парашкой Брюс. Из женщин она только ей доверяла полностью, делилась с ней самыми сокровенными женскими секретами. Обычно они проводили в баньке чуть ли не треть дня. А в этот раз не прошло, наверное, и часа, как резко растворилась дверь предбанника, и оттуда в одном нижнем белье выбежала банщица, обслуживающая дам.
– Эй, кто тут поблизости! Немедленно вызовите лекаря! – крикнула она во весь голос. – Немедленно! Там государыня потеряла сознание!
Через несколько минут прибежали сразу трое медиков: личный лейб-медик императрицы Роджерсон, лейб-хирург Кельхин и дежурный гоф-медик. Они скопос буквально ворвались в баню. Парашка с банщицей уже уложили Екатерину на диван в комнате отдыха, прикрыв ее простыней с цветами. Растерянная графиня, обернувшая себя полотенцем лишь до пупка, находилась рядом, но не знала, что делать, и металась в бессмысленных движениях. Когда прибежали лейб-медики, она с облегчением уступила им место и отошла в сторону. Так же поступила и банщица, которая из-за прилипшего к мокрому телу нижнего белья казалась совершенно голой.
Старший лейб-медик шотландец Роджерсон первым делом прослушал сердце императрицы. Оказалось, оно билось еле-еле. Да и дыхания почти не было заметно. Какое там дыхание, императрица не могла даже глаза открыть. Лейб-медики принялись делать ей искусственное дыхание, но никаких изменений не ощущалось.
– Пропали! – растерялся Роджерсон и начал теребить бакенбарды, раздумывая, что предпринять дальше. – Кажется, Ея Величество отходит.
– Что-о?! Как это – отходит?! – послышался в этот момент могучий голос Екатерины. – Иван Самойлович, ты что, захотел меня на тот свет отправить?
Лейб-медика будто паралич схватил. Он какое-то время стоял ни живой, ни мертвый, судорожно открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Наконец, пришел в себя и облегченно воскликнул:
– О майн гот! Наша любимая из любимейших мутер жива! – И суетливо начала обхаживать Екатерину, приговаривая: – Разве можно так париться, до сумасшествия! И вообще, говорил же я, и не раз, что русская баня – она не для истинных европейцев.
– Роджерсон, что ты лопочешь? – рассердилась Екатерина. – Я разве не настоящая русская царица? А ты сам не настоящий русский лекарь? Или тебя называть, как раньше, Иоганном Джоном? Лучше подай-ка мне руку, помоги подняться.
Сбросив мешавую передвигаться свободно простыню, она вся голая приподнялась, присела на диван, затем вдохнула полную грудь воздуха и встала.
– Ну-ка, вылейте на меня шайку воды, – не обращаясь ни к кому конкретно, приказала она.
Все поспешили выполнить ее приказ, потому на голову императрицы вылили сразу несколько шаек студеной воды.
– Ы-у-фррр! – довольно воскликнула Екатерина, стряхивая с себя воду, как гусыня. Тут же обратилась к графине: – Парашка, пошли, еще разок попаримся.
Женщины опять нырнули в жар парильни. Роджерсон осуждающе помотал головой, но промолчал, подталкивая коллег в спину, вместе с ними тихо вышел во двор.
Уже через час, еще не успев как следует высушить волосы, Екатерина начала собираться на Дворцовую площадь. Там выстраивались полки, которые отправлялись на турецкую войну.
– Ваше Величество, я вам не советую выходить на улицу! – предупредил Роджерсон, на всякий случай сопровождавший царицу. – После такой бани вам надобно бязательно отдохнуть, прийти в себя. Да и волосы у вас еще мокрые, так недолго и простуду схватить.
– Ничего! – безмятежно махнула рукой Екатерина, напяливая поверх волос белый парик. – Мои воины идут на защиту чести своей родины и ее царицы. Ужель я даже попрощаться с ними не могу? Еще, Роджерсон, ты одно запомни: я сейчас никакая не женщина. Я для солдат – императрица. К слову сказать, и для тебя, Роджерсон.
Через четверть часа она накинула на плечи соболиную шубу, руки сунула в муфту из песца и прямо с открытой головой поспешила к уже выстроившимся полкам.
– Мои славные солдаты! Отправляя вас на ратные дела во имя государства нашего, я, прежде всего, желаю вам всем вернуться живыми и здоровыми! – громко сказала она. – И все же помните одно: вам надлежит воевать за Отечество, не жалея живота своего. А страна наша весьма велика и богата, потому в мире несть числа нашим завистникам. Так что, мы станем разбазаривать все то, что завоевали наши предки? Нет, родные мои, не то, что отдать кому-то хоть малюсенький клочок земли, мы обязаны и дальше расширять наши территории. И на севере, и на юге нам надобно выйти к морским берегам. Россия – держава первого ранга, потому нам нужны морские пути для связей со всем миром. Эту войну начали не мы, но в ней мы должны не просто победить, а передвинуть границы державы до Черного моря. Солдаты, замечательные сыны России! Возвращайтесь с викториею. Ваши подвиги Россия не забудет!
Екатерина хотела еще что-то сказать, но почувствовала, что голова начала мерзнуть, да и все ее тело уже начало дрожать от холода, и прекратила речь. Оркестр грянул походный марш. Екатерина не стала дожидаться, пока пройдут полки, поспешила во дворец, в тепло лобановских печей. Там она подошла к окну, прислонилась широким лбом к стеклу и так простояла, пока последняя шеренга замыкающего полка не покинула дворцовую площадь. В какой-то момент она почувствовала, что сзади к ней кто-то подошел, снял с ее плеч шубу. Оказывается, это Потемкин.
– Матушка, по твоему изволению наступил черед и моей отправки на войну, – сказал он.
– Это правда, – вздохнула Екатерина. – Но… ты отправишься в путь завтра. А сегодня… я попрощаюсь с тобой.
Прощались они всю ночь. Утром, когда оба, изможденные и опустошенные, откинулись друг от друга и лежали на спине, через какое-то время Потемкин тихо, но жестко попросил:
– Матушка, у тебя на страже всегда стоит азиат-фельдфебель. Я хочу забрать его с собой. Иначе я не буду чувствовать себя спокойно.
Екатерина его беспокойство поняла правильно. То, что фельдфебеля Медведева не будет рядом, для нее, конечно, значительная потеря. Но он, азиат или не азиат, нужен лишь для одного дела. Потемкин же, – это Екатерина уже поняла, – человек, способный работать на государственном уровне. Императрице такие люди сейчас ой как нужны.
– Что ж, забирай своего азиата, – спокойно согласилась Екатерина. – Пусть он оградит тебя от опасностей. Мне кажется, фельдфебель – человек не только сильный, а и храбрый. Но…
– Что, Ваше величество?
– Ты его всегда держи при себе. Договорились?
Потемкин внимательно взглянул Екатерине в лицо. Искрящиеся голубые глаза женщины, казалось, не выражали ничего. Вот ведь шельма! Умеет скрывать свои чувства… Тут Екатерина тоже взглянула молодому человеку в глаза и слегка улыбнулась:
– Гришенька, ты ничего такого не думай. Я беспокоюсь лишь за тебя. Война она есть война, на ней может случиться всякое. А этот медведь – человек богатырской силы и не боится ничего. В нужный момент он постарается надежно защитить тебя.
Да, действительно, царица – настоящая шельма. Видно, считает Потемкина этаким зеленым мальцом, который еще ничего не смыслит в отношениях между мужчинами и женщинами. Ну, уж нет. Сумевший выбраться из нищеты и подняться до такого положения Потемкин давно не мальчик.
– Хорошо, матушка, я его от себя не отлучу ни на минуту, – пообещал Потемкин, прижимая Екатерину к себе.
Так решилась дальнейшая судьба фельдфебеля Медведева.
…Потемкин обещать-то Екатерине обещал, что не станет инородца фельдфебеля отлучать от себя, только про себя решил, что в первый же удобный момент сплавит его в самое горячее пекло. Сам пока не вкусивший ратную жизнь, он все одно полагал, что таких ситуаций на войне должно быть предостаточно. И пусть фельдфебель героически сложит голову в бою за Отечество. Как бы ни было, это благороднее, чем коварно уничтожить его из-за ревности. Так или этак, а Потемкину надо было этого человечка не просто убрать подальше от императрицы, а добиться, чтобы она вообще забыла о его существовании.
Пока же фельдфебель, похоже, ему действительно полезен. Оказалось, юг России буквально кишит разбойными людьми. Чем южнее, тем они наглее, потому как в тех краях с приближением к государственным границам сила власти ослабевает все заметнее. Потемкин это понял, еще оказавшись южнее Орла.
Приглядывался ко всему и Сентиер. Он заметил, что народ в здешних краях жил иначе, нежели в центральной России, в основном хуторами. Причем хутора располагались в значительной отдаленности друг от друга. Крупные деревни и села встречались совсем редко. Люди, казалось, жили крестьянским трудом, но вели себя не как вековые землепашцы. Многие занимались совершенно иными промыслами. Камергер Потемкин объяснил ему это тем, что многие здешние жители совсем не коренные, а потомки подавленных царем Петром Первым стрельцов-бунтовщиков. Здешний чернозем их, конечно, кормит хорошо, к тому же у людей даже нет границ своих владений, земли можно брать столько, сколько семья в силах ее обрабатывать. Только, видно, этого потомкам стрельцов явно не хватает… Вот на одном из таких хуторов и пришлось заночевать Потемкину с Медведевым. Желая быстрее попасть в штаб Голицына, камергер решил ехать напрямки, потому взял с собой только богатыря-фельдфебеля. «Если поеду с конной охраной, разбойники меня, наоборот, могут принять за важного, богатого вельможу и напасть. А так примут за простого проезжего, небось, и пронесет», – думал сам при этом.
В тот день погода резко поменялась. С утра с северо-запада подул сильный ветер, который уже к полудню превратился в настоящую бурю. Одновременно повалил густой снег. В этих местах погода значительно теплее, чем в чувашских или даже в московских краях. Видно, потому снег бил в лицо ошметками так, что невозможно открывать глаза. Короче, за какой-то час кругом закружило-завьюжило, и вскоре стало не видно ни зги. Да еще дороги совсем занесло липким снегом, и лошади встали, а ямщик уже не ведал, куда же их направить. Хорошо Потемкин с Медведевым находились в кибитке, но и в ней в такую бурю долго не усидишь… И тут в какой-то момент откуда-то спереди-справа послышался лай собаки. Потемкин встрепенулся и приказал ямщику направить лошадей туда. Понукая и погоняя кнутом, тот все же заставил их тронуться и через какое-то время, обогнув небольшую рощу, они уткнулись в чье-то хозяйство. Время клонилось к вечеру, и о том, заночевать здесь или ехать дальше, даже помыслить не приходилось.
Хозяин хутора, видимо, услышал звон поддужного колокольчика и встретил нежданных гостей у ворот. Потемкин быстро договорился с ним насчет ночлежки. Похоже, путники здесь не редкость, потому хозяин быстро вник в ситуацию. Как только вошли в избу, Потемкин первым делом вынул из кармана камзола мешочек с деньгами и выложил его на стол.
– Сколько возьмешь за наш ночлег, ужин и завтрак на троих? – спросил он у заросшего рыжей бородой хозяина.
Тот маленькими, как чечевица, глазками внимательно оглядел гостей, несколько задержал взгляд на соболиной шубе Потемкина, махнул рукой.
– Что об этом сейчас говорить. Сочтемся. Вы пока поешьте с дороги-то. Наверняка проголодались, да и замерзли, чай, в такую-то погоду, будь она неладна. Жена моя как раз сварганила сегодня отменный борщ. Да еще с утра испекла кулебяки. А сало у нас есть завсегда. Самовар вот поставлю… Не барская еда, конечно, но что есть – все будет на столе, – гостеприимно, но как-то слишком суетливо предложил он.
Вскоре хозяйка накрыла стол. Получился он, по меркам Сентиера, весьма богатым. Не обидели и ямщика, в задней половине его тоже накормили и борщом, и салом. Видя гостеприимство хозяев, расщедрился и Потемкин. Он достал из баула сушеную лосятину, курдюк с красным вином. Тут рыжеголовый мужик совсем растаял, велел жене принести из погреба разносолы, начал предлагать и то, и другое, чуть ли не упрашивал отведать всего, что у него есть. Только Сентиеру его такое поведение насторажило. Почему – он и сам не понимал, потому не проронил ни слова, лишь внимательно присматривался ко всему да разглядывал убранство избы.
Хозяин хутора, похоже, был весьма состоятельным человеком. Его саманная изба состояла из нескольких пристроев. Из комнаты слева слышались детские голоса, но к взрослым никто не выходил. Многое из здешней мебели и всякой утвари можно видеть далеко не в каждом доме. Самовар на столе стоял медный, а посуда была даже серебряная. В левом углу передней к стене прислонено большое зеркало, в правом выделялась икона в серебряной рамке, при этом лампадка перед образами нисколько не чадила, как бывает обычно. Не оказалось здесь, в отличие от чувашских изб, нар. Правда, за печью виднелись полати, но они ничем не были застелены. Видно, спальных мест хватало и без них. Еще Сентиера удивили занавески. В деревенских избах они обычно оставляют открытыми верхнюю треть окон, а здесь прикрывали их полностью. К тому же они не из белого полотна, а из не просвечивающего зеленого атласа.
Попотчевав обильным ужином, хозяин устроил гостей на ночлег. Ямщику постелил солому в овчарне, в теплом отсеке для молодых ягнят. Потемкину предложил деревянную кровать в соседней комнате, а Сентиер, по своему и Потемкина желанию, прилег здесь же на полу, на расстеленном овчинном тулупе. Изрядно принявший на грудь камергер тут же уснул мертвецким сном. Время от времени он издавал такой храп, что дрожали стекла, потому Сентиер никак не мог уснуть. Сначала он вспоминал родную деревню Эбесь, поля и леса вокруг нее, поневоле сравнивал чувашские земли с просторами, на которых оказался волею судьбы. Чуть погодя, правда, сон начал-таки брать свое, веки нет, нет, да и закрывались, но раздавался очередной храп камергера, и все проходило… Так, судя по петушиному пению во дворе, время перевалило уже за полночь, как вдруг Сентиер услышал, что в овчарне почему-то переполошились животные. Шум был негромкий, но в ночной тиши топот многочисленных овечьих ног выделялся отчетливо. Сентиер не знал, как обустроен двор хутора, лишь заметил при въезде в него, что он не обнесен высоким забором, как у чувашей, даже от ворот в обе стороны тянулась простая изгородь из жердей. Уж не волк ли забрался в овчарню? Сентиер, так и так бодрствовавший, решил сходить туда, глянуть, что там творится. Стараясь не шуметь, он взял приставленную к стене саблю и вышел в сени. Не найдя в темноте дверь сразу, остановился, заодно прислушиваясь к наступившей тишине. И тут услышал, что со стороны овчарни кто-то идет. Это был никак не волк, а двуногий зверь. Почему-то человек шел крадучись, словно в разведке, если бы на небольшом морозце снег слегка не поскрипывал, его вряд ли кто услышал. Кто же это мог быть? Да уж, наверное, в этой бескрайней степи кто только не носится. И этот человечек наверняка шастает здесь посреди ночи не с добрыми намерениями. Был бы он обыкновенный заплутавший путник, постучался бы в ворота или в окно. Так что же делать? Пойти разбудить хозяина и Потемкина – можно запоздать с пресечением…
Тем временем человек явно подошел к избе. Вот открылась сенная дверь и в проеме показалась его тень. В руке он держал нечто, смахивающее на топор или даже на секиру. Но человек вошел слишком быстро и тут же прикрыл дверь, и Сентиер окончательно так и не сообразил, что же это было. Между тем нежданный гость прямиком приблизился к комнате, где спал камердинер. Нет, больше ждать-гадать нельзя! Сентиер поднял меч и в темноте наугад махнул им в сторону доносящихся шагов. Меч попал в тело человека и застрял. Сентиер быстренько вынул его и махнул еще раз. Вор даже ахнуть не успел, его туша свалилась на пол, издав звук упавшего полного мешка. По ходу тело, видно, за что-то зацепилось, и на пол с грохотом повалились какие-то вещи. На шум выбежала хозяйка дома с зажженной свечой в руке. Увидев тело упавшего человека, она дико завыла, тут же присела перед ним на колени, приложила ухо к его груди, послушала.
– Убили! – хрипло закричала она, обратив лицо и протянув руки к небесам. Тут же резво вскочила и подбежала к Сентиеру: – Негодяй! Сволочь! Басурман проклятый! Почему зарубил моего мужа? Что он тебе сделал? – неистово кричала она, с каждым словом подпрыгивая, чтобы сказать все это фельдфебелю в лицо.
Наконец проснулся и Потемкин, накинув халат, вышел в сени.
– Медведев, что тут происходит? – недовольно пробурчал он. – Зачем подняли трам-тарарам посреди ночи?
– Господин, твой человек убил моего мужа. Душегубец он! И как мне теперь жить? Как поднять детей на ноги? У-ы-ы! – завыла женщина
Потемкин взглянул сначала на лежавшее на полу мертвое тело, затем на Сентиера, бросил:
– Ну, фельдфебель, рассказывай.
Тот рассказал все, как есть.
– Меня особенно смутило, что в руке он держал то ли топор, то ли секиру, – завершил он объяснение.
Выбежали в сени и проснувшиеся ребятишки – трое или четверо, и, ничего не понимая, тупо уставились в лежавшего в луже крови отца.
Потемкин подошел к мертвецу поближе, перехватив из рук все еще причитающей женщины свечу, нагнулся и сдвинул тело чуть в сторону. Оказалось, что под ним действительно лежала секира с короткой рукоятью. Находилась она не в луже хозяйской крови, а поодаль, и все же была окровавлена. Увидев это, хозяйка вмиг смолкла, испуганно задергала головой, тут же толчками препроводила всех четверых ребятишек обратно в свою комнату.
– Занимательно, очень занимательно, – про себя проговорил Потемкин, затем, выпрямившись, обратился к Сентиеру: – Фельдфебель, ты сказал, что из овчарни был слышен переполох овец?
– Так точно, Ваше Сиятельство, – подтвердил Сентиер.
– Что ж, пошли, посмотрим, что там, – коротко приказал Потемкин, вручая свечу Сентиеру. – Ты иди впереди. И ты с нами… – это он уже повелел хозяйке дома.
В отсеке для ягнят, конечно, было не так тепло, как в избе, но терпимо. Печь, которую хозяева топили через день, еще не совсем остыла. Лежавший на полу, на соломе, ямщик не шелохнулся даже тогда, когда все подошли к нему. Сентиер нагнулся и откинул одеяло, тут же резко выпрямился и остолбенел. Ямщик оказался без головы. Точнее, голова была, но она лежала рядом отдельно.
– Вот, оказывается, что замыслил этот человек! – злобно выкрикнул Потемкин. – Зарубив его, ты, фельдфебель, поступил совершенно верно. Похоже, за свою жизнь он немало людей оставил без головы. Фельдфебель, ты заметил, какая у них домашняя утварь? Простой мужик, как ни напряжется, на все это денег не накопит. Правильно ты сделал, зарубив его! – еще раз подтвердил камергер. – Не только хозяина, а всю его семью надо вырезать. От волка рождаются только волчата.
Тут у хозяйки, оставшейся у двери, ослабли ноги, и она медленно опустилась к полу, встала на колени.
– Господин барин, пожалуйста, детей не тронь. Они же несмышленыши ишшо, ничего не смыслят. Да и супружник мой раньше не был таким. Только кругом бесчинствуют воры и разбойники, вот и он поменялся. Иначе в наших краях не выжить. Прошу тебя, мил человек, пожалей детишек. И меня оставь в живых, Иначе как они без меня, родной матери? – начала она умолять Потемкина, елозя за ним на коленях.
– Ну, как, оставить в живых выродков? – то ли размышляя про себя, то ли спрашивая у фельдфебеля, промолвил камергер.
Сентиер промолчал. Не тот он человек, чтобы давать советы приближенному к императрице вельможе.
– Ладно, пусть живут, – смилостивился Потемкин, махнув рукой в сторону хозяйки дома. – Эй, ты, волчица, не забудь приготовить нам завтрак. Мы скоро тронемся в путь. Дальше пребывать здесь у меня нет никакой охоты. Мертвецов захороните сами. Смотри, на обратном пути я все проверю.
Обессилевшая женщина еле встала на ноги, поплелась в избу.
– Фельдфебель, ты проследи за нею. Муж и жена – одна сатана. Неровен час, пустит в еду какую-нибудь отраву, – приказал Потемкин Сентиеру. – А я все-таки подремлю еще полчасика. Что-то голова у меня еще не свежая.
Через час они вяло позавтракали и выехали в путь. Погода несколько смягчилась, да и кони успели отдохнуть, так что все было нормально. Только Сентиеру пришлось занять ямщицкие козлы, на которых было не так уютно, как в кибитке.
7
В штаб генерал-фельдмаршала Александра Михайловича Голицына Потемкин прибыл во второй половине дня. Военачальник принял его весьма прохладно, на предписывающую грамоту императрицы даже не взглянул.
– Хорошо. Пока обустройся, отдохни с дороги. Там видно будет, – лишь сказал он и отошел по своим делам.
Квартирмейстер поселил «человека из Петербурга» в передней небольшой саманной хаты, приказав хозяевам переместиться в заднюю половину, напомнил, когда и где обедают офицеры, после чего пожелал спокойного отдыха с дороги и тут же ушел.
Так началась у Григория Александровича Потемкина армейская жизнь.
Он, конечно, сразу почувствовал неприязненное к нему отношение со стороны армейских офицеров и генералов. Но понимал, что за это на них не следует обижаться. Кто он такой для истинных военных? Человек из окружения императрицы, камергер в чине поручика. Правда, по табелю о рангах камергер приравнен к генерал-майору. Только это вовсе не означает, что офицеры воспринимают его как генерала. Военные уважают своего командира не по чину, а по его заслугам. А какие заслуги в ратном деле у камергера? Потому Потемкину пока пришлось довольствоваться местом волонтера при ставке князя Голицына. И все же, как человек императрицы Екатерины Второй, он участвовал во всех обсуждениях в ставке и был в курсе всех принимаемых решений. Потому со временем начал понимать опасность войны с Османской империей все отчетливее и тоньше. Еще он усиленно анализировал сведения, поступающие от разведки. Не как военные, – методов и способов ведения войны на уровне генералов ему все равно не постичь, – а шире, соразмеряя с нуждами и целями всего государства. Все ли он воспринимал отчетливо и верно или далеко не все, но одно понял совершенно точно: неизвестно, как будет дальше, а пока в этой войне главную опасность представляют вовсе не турки, а армия крымского хана. Что касается османской армии, на море она, возможно, действительно сильна, а на суше так себе. Тогда не понятно, как решился султан Мустафа Третий пойти против России? Впрочем, ответ Потемкину вроде бы был более или менее ясен еще в Петербурге. Там отлично ведают, что турок подталкивали на этот акт некоторые европейские государства, особенно Австрия и Франция. Однако, как понял Потемкин, Екатерина и ее советники не заметили один важный момент: при всем при этом Мустафа Третий сильно надеялся на крымского хана Крым-Гирея, которого усадил на трон по сути сам.
Хан этот был одним из образованнейших людей того времени. Он хорошо знал историю и географию, интересовался философией Руссо, знал французский и греческий языки, читал Вольтера, в своих высказываниях часто употреблял цитаты из его трудов. И военные дела он вел по уму. В 1769 году, к примеру, в этих краях зимой стоял небывалый доселе жуткий холод. Крым-Гирей не стал дожидаться его последствий, своих арабских скакунов, не привыкших к холодам, тут же поменял у черкесов и ногайцев на местных лошадей, пусть менее знаменитых, но выносливых в зиму. Когда собирался на кого-то напасть, он призывал в армию троих конников из каждых восьми кибиток. Так он мог собрать под военные знамена до двухсот тысяч человек и трехсот сорока тысяч лошадей, которых было достаточно и для воинов, и для перевозки армейского имущества и провианта.
По правде, Крым-Гирей не особо жаловал османов. Особенно не любил великого визиря Магомед-Эмина. Мустафа Третий посадил его на место Хамза-паши, считая, что тот начал выживать из ума. Только с этим Крым-Гирей никак не мог согласиться. Все знали, что Эмин ранее был лишь кондитером, правда, отличным. Затем его назначили делопроизводителем в конторе по сбору налогов. Как мог такой человек в одночасье стать великим визирем и управлять государством?
Потемкин делился своими мыслями с Екатериной Второй в посылаемых ей лично депешах. Он предлагал ей воспользоваться этой некоторой отчужденностью между Крым-Гиреем и Магомед-Эмином, постараться подвести крымского хана к мысли об освобождении от османского протектората, а затем помочь добиться и полной свободы от турок. Камергер полагал¸ что после этого Россия сможет легко завоевать и подчинить эту полуостровную страну. И тогда ситуация на Черном море примет совсем другой оборот.
Однако Крым-Гирей пока не подавал ни единого намека на то, что замысел Потемкина можно осуществить. Да и в войне с русскими он проявлял себя отнюдь не просвещенным командующим. Его люди зачастую вели себя хуже, чем сердюки, как называли янычаров-добровольцев. Особенно сильно это проявилось, когда хан завладел городом запорожцев Аджамаком. В нем люди Крым-Гирея полностью сожгли все строения, какие только можно было, у жителей отобрали все, что попадало под руку. В крепости Елизаветград они взяли в плен всех, кто не успел бежать. Так у каждого крымского татарина оказалось по пять-шесть рабов, шестьдесят овец и два десятка волов. Кто не зауважает хана, который разрешает своим людям обогащаться таким образом?
Рассуждать в письмах о проводимых Голицыным сражениях Потемкин пока избегал, ибо понимал, что в этом деле он никто. Но и по этой части однажды не стерпел, послал-таки императрице депешу со своим мнением.
Случилось это так. Голицын почему-то не очень стремился обострять схватки с турками. По этому поводу его однажды в своем послании упрекнула даже Екатерина Вторая, конкретно требуя взятия Хотина. Но в поведении фельдмаршала ничего не изменилось.
– К сожалению, наша матушка-императрица в военном деле слабовата, видно, вовсе не знакома с наукой тактики, – объяснял князь своим офицерам. – Пусть сначала визирь Магомед Эмин-паша перейдет Днестр и окажется на нашей стороне. Вот тогда и возьмем его за жабры.
В результате армия Голицина целых два месяца протопталась на месте без толку. Хорошо в это время возглавляемая Румянцевым Вторая армия оберегала страну от нашествий кочевников.
Между тем Эмин-паша заметил нерешительность русских и потихоньку начал продвигать основные силы своей армии к линии фронта. Вскоре его великолепные палатки были развернуты недалеко от города Яссы. Не ожидавший такого поворота событий Голицын наконец-то созвал срочное совещание.
– Визирь расположился совсем рядом с нами, – сообщил он уже всем известную весть. – Нам следует немедленно отойти к Каменец-Подольскому, чтобы там воспрепятствовать переправе турецкой орды. Сейчас дорога каждая минута, потому предлагаю офицерам изъясняться коротко.
Несмотря на то, что «изъяснялись коротко», совещание затянулось на несколько часов. Тут Потемкин не выдержал и напомнил, как прусский король Фридрих Второй наставлял своих генералов: «Ежели с самого начала желаете провалить военную кампанию, больше совещайтесь. Чем дольше вы будете чесать языком, тем быстрее успех перейдет на сторону врага». Замечание камердинера, похоже, сильно задело князя.
– Сударь, пока вы ползали под столом, я бивал прославляемого вами Фридриха на поле брани! – возвысив голос, напомнил Голицын, и тут же приказал начальнику штаба: – Высказывания всяких камердинеров в протокол совещания не включать! И еще… Сударь, а вам не помешало бы самим хоть чуток испробовать вкус боев. Рекомендую как-нибудь однажды понаблюдать за баталией хотя бы в подзорную трубу…
Такого оскорбления Потемкин стерпеть не мог и тут же ушел из расположения штаба…
Потемкин в тот день долго провалялся на топчане, потягивая вино прямо из кувшина. Ближе к вечеру в дверь кто-то постучался. Затем она чуть приоткрылась, и в нее просунул стриженную под горшок кудлатую голову хозяин хаты, участливо спросил:
– Барин, вижу, ты в плохом настроении. У меня тут есть молодая молдаванка, такая вся жгучая, может моментально поднять тебе настроение. Пригласить?
– Закрой дверь, под-донок! Пошел вон! – заорал Потемкин, тут же схватил стоявшую рядом с топчаном ботфорту и изо всех сил швырнул ее в сердобольного хозяина избы. Хорошо, тот успел убрать голову, иначе ему пришлось бы красоваться с синяком на лице не меньше недели.
На ужин Потемкин пошел к генерал-аншефу Прозоровскому, которого знал еще по Петербургу. Тот со своим корволантом находился в нескольких километрах от штаба армии, создав кордон, чтобы не пропустить противника на помощь к окруженному русскими Хотину.
– Князь, Александр Александрович, прими меня на службу, – сходу попросил Потемкин.
Генерал, прищурив обычно округлые глаза, внимательно вгляделся в него. Он понимал, почему камергер обращался с такой просьбой, ибо присутствовал на утреннем совещании в штабе Голицына.
– Ладно, – согласился Прозоровский. – Только уговор: будешь жить у меня. Места здесь хватает. И переезжай сей же час.
После трапезы Прозоровский рассказал, чем завершилось совещание. Оказалось, что Голицын так и не пришел к какому-либо решению. Будто бы лазутчики, совершившие рейд в тыл врага, сообщили ему ободряющую весть. По их уверению, в крепости турки, долго находясь в осаде, начали терять терпение. К тому же в Хотине распространялась чума. Потому комендант будто бы готов сдать крепость без боя. При условии, коли русские ему за это хорошо заплатят. И генерал-фельдмаршал велел несколько передвинуть войска ближе к Хотину и терпеливо ждать, когда враг сам выкинет белый флаг.
Однако в дальнейшем события развернулись совсем иначе. То ли ошиблись лазутчики, то ли турки устали ждать, когда же им поднесут денежки, только когда армия Голицына начала передвигаться ближе к Хотину, совершенно неожиданно наткнулась на ставку великого визиря. Случилось это рано утром, когда заря лишь начала заниматься, потому на фоне розового неба все увиденное смотрелось как нечто из фантастики. Зловещей фантастики… Казалось, все пространство вплоть до горизонта заполнено турками. Они сверкали разноцветным обмундированием, панцирем, мечами, пиками, пищалями. Турецкие янычары и египетские мамлюки, похоже, были накурены гашишом и перли вперед, не обращая внимания ни на что. Вскоре они прорубили огороженную рогатками защитную линию русских и подавили их кавалерию, начали напирать на фланги Голицына…
…Потемкин проснулся рано утром от того, что кто-кто его усиленно теребил за плечо. Это был Прозоровский.
– Гришка, тревога! – крикнул он еле открывшему глаза Потемкину, сам, не дожидаясь, когда тот встанет, выбежал на улицу.
И по голосу, и по спешке товарища Потемкин понял, что произошло нечто неординарное, тревожное. Потому он, привыкший после сна немного потягиваться в постели, на этот раз быстро вскочил и, одеваясь на ходу, выскочил на улицу.
– Гляди, чего мы дождались из-за нерешительности Голицына, – крикнул ему Прозоровский, протягивая подзорную трубу.
Потемкин приложил трубу к единственному глазу. Кругом вплоть до горизонта клубилась пыль, если бы человек не знал, что там нечему гореть, мог бы подумать, что все обозримое пространство охвачено пожаром.
– Татары! – коротко сообщил Прозоровский. – Совещания князя не смогли их остановить.
Конные татары приближались мощным потоком. Еще немного – и отделят корволан Прозоровского от армии Голицына и начнут уничтожать его по отдельности. Нет, тут нельзя терять ни одного мгновения. Прозоровский, вслед за ним и Потемкин вскочили на коней. Поднятые по тревоге драгуны все уже были наготове, ждали только приказа.
– Корвола-ант, за мной – марш! – скомандовал Прозоровский и первым помчался вперед. Потемкин от него не отставал.
Драгунам не требовалось объяснять ситуацию. Если они не успеют выскочить из кольца окружения, которое вот-вот сомкнется, они все тут и сложат головы… Наверное, на свете нет ничего страшнее боя, который идет не на жизнь, а на смерть. Ржание встающих на дыбы коней, утробные звуки их раненых собратьев, хыканья драгунов, наносящих врагу удары саблей со всего размаха, дикое улюлюканье татар, призванное устрашить врага, срубленные головы людей, скатывающихся по еще живому телу на землю, запах крови и соленого пота людей и животных… И везде кровь, кровь, кровь… По ходу боя татары несколько раз пытались отсечь Потемкину голову, их удары мечом почти доходили до его шеи, но все были отбиты следующим рядом фельдфебелем Медведевым. Как он успевал изловчиться, да еще по ходу сам сумел зарубить нескольких татар – уму непостижимо. Впрочем, Потемкину некогда было думать над этим. Как бы ни было, в какой-то момент он почувствовал, что удалось-таки вырваться из вражеского кольца. Прозоровский тоже был недалеко. Вскоре вырвавшиеся драгуны начали собираться вокруг него. Их теперь было намного меньше… И все же корволант сумел помешать татарам напасть со всей мощью на основную часть русской армии. Поняв это, янычары не стали ввязываться в долгий бой, тут же отступили. Только ведь они могли в любой момент вернуться и повторить попытку.
Ночью к Прозоровскому прибыл представитель Голицына. Оказалось, с приказом корваланту покинуть окрестности крепости. В поход пришлось выдвинуться посреди ночи. Так Потемкин впервые в своей жизни поспал прямо в седле.
Утром Голицын вызвал к себе Прозоровского и Потемкина.
– Князь, правильно мы поступили, отступив от крепости? – не сговариваясь между собой, почти одновременно обратились они оба к командующему армией.
Голицын даже глазом не моргнул, спокойно ответил:
– Очень правильно поступили. Лазутчики сообщили, что визирь отправил к Хотину орду Молдаванджи-паши. Задержись мы хоть немного, нас ожидала бы полнейшая конфузия*.
– Ежели мы сами нанесли бы по врагу упреждающий удар? – настаивал на своем Прозоровский. – Фактор неожиданности – не последнее дело в сражении. А теперь наши противники объединятся в один сильнейший кулак.
Князь смешался, не зная, чем отпарировать. Затем зло выкрикнул:
– Яйцо курицу не учит!
К их спору внимательно прислушивались другие генералы.
– Князь, и все-таки нам войну следует вести иначе! – осмелив, высказался один из них. – Так мы ее никогда не завершим.
– Почему иначе? Как это иначе? – разгорячился Голицын. – Вспомните германскую кампанию. После дефинзивы офензива*, за офензивой дефинзива… Они чередовались постоянно. И чем война завершилась, а? Я вас спрашиваю! Нашей убедительной викторией. Одним словом, вот вам мой приказ: отвести не только корвалант Прозоровского, а всю армию переправить на другой берег Днестра. Дадим войскам отдохнуть, приведем все в порядок.
После обеда Потемкин закрылся в своей мазанке и взялся за депешу императрице. Описав происходящие здесь события, он попросил у Екатерины Второй две вещи: для действующей армии надо найти другого командующего, а самому Потемкину надо присвоить воинский чин, соответствующий званию камергера…
…Через несколько дней в Петербурге состоялось расширенное заседание Государственного Совета.
– Я хоть и женщина, а уже дошла до мысли, что Голицын больше не может возглавлять действующую армию. Кого назначим на его место? – резко спросила она, почему-то при этом пристально вглядываясь в графа Кирилла Разумовского.
Тот не отвел глаза.
– Сегодня на эту должность достойнее Румянцева не найти, – твердо высказался он.
После совещания устные распоряжения Екатерины Второй тотчас перевели на бумагу в виде приказов, распоряжений и указов. Возглавить воюющую Первую армию поручили генерал-аншефу Петру Румянцеву, а Вторую – генерал-аншефу Петру Панину.
Появился и другой документ – о присвоении Григорию Потемкину чина генерал-майора.
Новый командующий Румянцев быстро проявил себя, одержав в июле 1770 года две победы – при Ларге и при Кагуле – над многократно превосходящими силами противника, за что получил чин генерала-фельдмаршала. Только к Потемкину он тоже относился весьма прохладно. Притом свое неуважение к генерал-майору, дорвавшемуся до этого чина сразу из поручиков, он не раз выказывал публично. А в военные дела его и вовсе старался не вовлекать, ограничивался дачей ему отдельных малозначащих поручений.
8
По приказу Румянцева Потемкин поехал в штаб генерал-аншефа Панина. Тот со своей армией уже два месяца, как окружил крепость Бендеры, а взять ее никак не мог. Потому, кроме приказов, Румянцев передал коллеге-командующему через своего посланника кое-что на словах. Не привыкший откладывать дела в долгий ящик Потемкин, прибыв на место, решил немедленно встретиться с графом и поговорить с ним с глазу на глаз.
– Скоро обед. Вы идите в ближайшую кухню, покушайте там, – приказал Потемкин прибывшим вместе с ним фельдфебелю Медведеву и охранникам. Такая у него привычка заботиться о своих людях. Что-что, а покормить их вовремя он не забывает никогда. Может, оттого, что в молодости самому часто приходилось жить впроголодь, он прекрасно знал, как недоедание плохо сказывается на самочувствии человека.
Вскоре из штаба вышел какой-то сержант и подошел к Сентиеру, спросил:
– Ты фельдфебель Медведев?
– Я, – коротко ответил Сентиер.
– Тогда пошли…
«Ближайшая кухня» оказалась недалеко. В саженях ста пятидесяти от штаба расположилась сотня донских казаков. Они прямо на улице разожгли костер и в большом котле варили кашу с соленым мясом. Медведев с солдатами охраны только подошли к костру, как справа послышался радостный оклик:
– Медведь, ты ли это?
Голос будто знакомый. Точно, это оказался казак, с которым Сентиер подружился в отряде сопровождения императрицы в поездке по Поволжью. Его звали Федотом. В сотне даже казакам старше себя по возрасту и чину он не позволял насмехаться над чувашским парнем, называя его инородцем. Был Федот тогда рядовой, а теперь, гляди, унтер-офицер.
– Да, я! – тоже радостно откликнулся Сентиер.
Оба потянулись друг к другу, обнялись.
– Задушишь, чертов силач! – не выдержал Федот. Освободившись из объятия Сентиера, он сделал пару шагов назад, осмотрел друга с ног до головы.
– Молодца-а! – сделал вывод удовлетворенно. – Ты погляди, стал фельдфебелем. Да не абы каким, а лейб-гвардии.
– Да и ты, гляжу, не рядовой, – заметил Сентиер. – Настоящий урядник. Скоро станешь офицером.
Разговорились, начали вспоминать былое. Оказывается, Федот не забыл, как рядовой Медведев оказался среди казаков. Даже помнил, где живут чуваши («От Симбирска до Курмыша и далее»).
– Постой! – вдруг вспомнил что-то важное Федот. – Я познакомлю тебя со своим товарищем. Вы чем-то смахиваете друг на друга.
Он повел Сентиера к небольшой группе отдельно сидевших казаков, остановился перед одним из них:
– Вот он, мой друг хорунжий Емельян Пугачев. Совсем недавно при взятии Бендер один татарин чуть не зарубил меня своей кривой саблей. Хорошо, сзади оказался Емелька, упредил его удар. Вообще-то хорунжий пушкарь, но в наступление на крепость пошел с нами. Знаешь, хоть татарин был в тюрбане, после удара Емельки его голова, упав на землю, раскололась как арбуз, ха-ха-ха! Мы с хорунжим не раз смотрели смерти в глаза, но до сих пор успевали выручать друг друга, потому пока живы.
Пугачев не очень охотно встал, подал Сентиеру руку. Довольно-таки здоровый казак, черноволосая голова большая, борода и усы ухожены, подравнены. Лицо несколько продолговатое, у основания длинного узковатого носа заметно выделяется бородавка. Дугообразные брови тянутся по обе стороны как бы от нее. Видимо, от того что все они – нос, бородавка, брови – представляют как бы одно целое, лицо Пугачева врезается в память сразу, с первого взгляда. Да еще сверкающие глаза. Они смотрят на человека несколько насмешливо, в то же время пронизывают насквозь. Может, поэтому Сентиер почувствовал, что в душе у него что-то екнуло.
– Фельдфебель, ты, похоже, не русский? – заметил Пугачев после того, как Сентиер назвал свое имя. Тут же спросил: – Случаем, не башкорт? – Сам себе ответил: – Нет, не башкорт. И не калмык…
– Я чуваш, – не заставил хорунжего долго ломать голову Сентиер.
– Вона как. То-то я вижу, что ты не похож на других инородцев. Ну и могуч же ты… Мне с тобой не сравниться, это точно. Все вы такие, чуваши? И как много вас?
– Емелька, не пытай ты его. Тебе лучше я расскажу. Когда мы сопровождали кортеж императрицы, и в Симбирской губернии, и Казанской, Нижегородской тож вдоль дороги сплошь тянулись чувашские деревни, – объяснил Федот вместо Сентиера. – Что до того, здоровы они али как, то чуваши, по-моему, сильно смахивают на нас, казаков.
Тут объявили, что обед готов. В избе за столами мест всем не хватало, потому пришлось есть по очереди. Федот с Пугачевым, пользуясь правами старших, взяли три чашки каши – одна для Сентиера – и ломти хлеба и вышли во двор, устроились на хозяйской телеге. Впрочем, двора в чувашском понимании здесь не было. Его от улицы отделяла лишь плетень высотой до пупка. Три друга молча принялись за кашу. Все-таки обед – дело ответственное. Несмотря на осень, погода здесь, в отличие от чувашского края, все еще была теплая, хотя временами моросил слабый дождик, и кругом было сыро и слякотно.
– И сколько нам еще здесь торчать без толку? – молвил Федот, отставляя в сторону посуду. – Как это все надоело. С этим русским генералом толком ни воевать, ни отдохнуть.
– Так вы же взяли Бендеры. Сказывали, вы там туркам дали жару как следует, – напомнил Сентиер.
– Ну, было такое…
– Ежели бы вместо Панина нами командовал генерал потолковей, мы бы эту крепость взяли с гораздо меньшей кровью, – громко высказался Пугачев.
– Емелька, ты это… потише, пожалуйста, – попросил товарища Федот.
– Ништо-о! Вот царь Петр Третий Федорович заберет власть обратно и наведет тогда порядок, – ответил Пугачев, правда, чуть потише.
Поговорили еще кое о чем, но острых вопросов больше не затрагивали.
– А что, разве Петр Третий жив-здоров? – полюбопытствовал Сентиер через какое-то время.
Пугачев промолчал, вместо него ответил Федот:
– Кто ж его знает. Тут промеж казаков насчет этого разные слухи ходют.
– Ништо-о, – снова громко откликнулся Пугачев. – Придет время, все узнаем правду.
На том неожиданно возникший разговор о прежнем царе завершился. Да и место для этого здесь было явно неподходящее. Вокруг сновали казаки. Одни, как и эта троица, трапезничали прямо во дворе, другие, поев, уходили за сарай облегчиться. Сентиер же не стал задерживаться, попрощался с Федотом и Емелькой и, прихватив своих солдат-охранников, поспешил к штабу, где остался Потемкин.
– Фельдфебель, может, еще встретимся. Война эта, похоже, надолго, – сказал перед прощанием Федот.
К возвращению Сентиера Потемкин уже был на улице, о чем-то оживленно беседовал с генерал-аншефом Паниным и каким-то полковником. Когда подошла личная охрана во главе с фельдфебелем Медведевым, он тотчас распрощался с ними и вскочил на коня, с места пустил его галопом. Показалось, он спешил распрощаться с генералом, стоявшим с кислой миной на лице.
Первые месяцы боев показали, что хотя Россия и предчувствовала войну с Османской империей, но подготовилась к ней неважно. Больше всего давала знать нехватка людей в армии. Потому Екатерине Второй пришлось подвинуть к южным рубежам не только внутренние гарнизоны, но и многие пограничные кордоны. Этим воспользовался разбойничий люд. Воровские банды начали бесчинствовать не только в южных степях, но и во внутренних губерниях. Попытка мужика убить Потемкина, наверняка, одно из таких проявлений. Ладно, с ним тогда был бдительный фельдфебель Медведев и спас его от неминуемой гибели. А он ведь хотел его по приезду на фронт засунуть в самое пекло, какое только здесь может быть. Потому как прекрасно понимал, что Екатерина заботится об этом фельдфебеле не просто так. По правде, когда изредка видит моющегося Медведева, Потемкина и сейчас охватывает ревность. Черт возьми, фельдфебель действительно настоящий богатырь! Здоровьем и силой Господь Потемкина тоже не обидел. Только ему все одно не сравняться с этим Медведем.
Только посылать человека, спасшего тебя от верной смерти, в пекло с пожеланием – чего скрывать – гибели – это все же не по-человечески. Потому Потемкин все еще держал Сентиера при себе. Да так и надежнее. Нет, Потемкин смерти не боится, за жизнь цепляться любой ценой не станет и душу дьяволу не продаст. Только какой толк от гибели, коли ты не успеешь принести пользу Отечеству и дорогим тебе людям.
А жизнь шла своим чередом. Война с Османской империей все расширялась. Стало ясно, что с существующей армией России врага не одолеть. И Екатерина Вторая объявила в стране всеобщую мобилизацию. Если прежде забривали в солдаты одного из трехсот мужчин призывного возраста, теперь уже рекрутировали двоих. Вскоре в армию Румянцева пригнали много новобранцев. Самых здоровых из них направили в полк охраны ставки. Постоянно бывая в месте расположения штаба армии вместе с Потемкиным, Сентиер заметил, что среди новобранцев немало инородцев. Однажды он пошел в кухню обедать и снаружи палатки услышал чувашскую речь. В душе сразу что-то приятно екнуло, по всему телу пробежала теплая волна. Ох, как, оказывается, Сентиер истосковался по родной речи! Он оставил обед и быстро вышел из палатки, завернул в сторону, откуда был слышен разговор. Земляки, оказывается, находились совсем рядом. Похоже, им приказали заготовить дрова, и они устанавливали козлы.
– Этот хворост – разве это дрова, – сказал один из них товарищу по-чувашски.
– Да уж, – согласился тот. – У нас такой хворост даже не собирают. Для топки используют лишь березовые и дубовые дрова.
– С другой стороны, в этих краях кроме хвороста, видно, и собирать-то нечего. Помнишь, мы по пути сюда остановились на ночлег в какой-то казацкой станице. Так там не было даже хвороста. Печь топили засохшими коровьими лепешками. У них это кизяк называется. Удивительно, какая разная жизнь в России!..
– Значит, вам эти дрова не нравятся? – вмешался в разговор Сентиер, желая поближе познакомиться с чувашами.
Солдаты повернулись к нему, увидев перед собой фельдфебеля, да еще лейб-гвардии, вытянулись во фрунт.
– Коспотин хвельтьхвепель, мы это… просто так, – пробормотал, наконец, солдат ростом поменьше, но на вид крепче другого. Заметив перед собой старшего по чину, он даже не заметил, что фельдфебель общался с ним на родном языке. А его товарищ молчал. Возможно, он вовсе не понимал по-русски, стоял, хлопая глазами и глядя в рот своему товарищу.
– Да держите вы себя более свободно, я не ваш непосредственный начальник, – успокоил Сентиер солдат, продолжая говорить по-чувашски. – А подошел к вам, услышав родную речь.
– Так… коспотин хвельхвепель, ты тоже чуваш что ли? – несказанно удивился солдат поменьше уже на родном языке.
– Разве не видно? Кто бы еще тут с вами так общался? – улыбнулся Сентиер.
– Ну да, – теперь уже заговорил и второй новобранец. – Только мы до сих пор не видели, чтобы наши земляки были унтер-офицерами.
– Ну, теперь скажите, кто вы, ребята и откуда?
– Я – Лукьян Салтак, по-бумажному – Лукоян Солдатов. Из Чебоксарского уезда Казанской губернии, – представился тот, что ниже ростом.
– А я – Мишша Некей, Михаил Негей, – назвался другой. – Наша деревня входит в Козьмодемьянский уезд. Хотя с Лукьяном мы почти соседи.
– Чуваши нашего призыва в основном из Казанской губернии, – объяснил Лукоян. – Есть еще ребята из Ядринского, Чистопольского и других уездов. Они расположены далековато от нас, потому точных названий всех мы не знаем. Господин фельдфебель, осмелюсь спросить, сам ты откуда родом?
– Я из Цивильского уезда, из деревни Эбесь, что входит в Хурамалскую волость, – охотно сообщил Сентиер. – Я гляжу, вы из крещеных чувашей?
– Да как сказать, – неопределенно махнул рукой Лукоян. – В наших краях понастроили немало церквей. А еще новокрещенным чувашам обещали какие-то облегчения…
Возможно, разговор продолжился бы и дальше, но тут к солдатам подошел другой фельдфебель, их непосредственный командир.
– Эй, инородцы, вы что тут разболтались! – прикрикнул он на них по-русски, добавив еще несколько непереводимых на чувашский язык слов. – Забыли, что кашу без огня не сваришь? Или ждете, когда оголодавшие солдаты побьют вас? – Затем обратился к Сентиеру: – Прости, земеля, но нам надобно работать. Позже, когда ребята освободятся, наговоритесь вволю.
Сентиер на следующий день снова встретился с земляками. И теперь они, точно, наговорились вдоволь. К тому же Лукоян с Михаилом пригласили на встречу еще несколько чувашских солдат. Все они обещались быть вместе, держаться друг за друга крепко, если получится вернуться с войны, продолжить близкие отношения и на родине.
А война не просто расширялась, она становилась все напряженней и кровопролитней. Обе противоборствующие стороны начали чувствовать приближение зимы. Конечно, она здесь не как в северной или даже центральной России, не станет испытывать людей жгучими морозами. Только постоянные то снег, то дождь, соответственно сырой и промозглый воздух да слякоть могут быть даже хуже, чем крепкие морозы. Уже трудно стало передвигаться по местности и пешим, и верхом. К тому же в последних боях и русские, и турки с татарами потеряли много людей. Правда, до русских доходили слухи, что в Крыму сейчас не все ладно. Будто бы татары и ногайцы крепко перессорились между собой. Видимо, сказалось долгое отсутствие на полуострове хана. Там в то время заправлял делами Каплан-Гирей, при Крым-Гирее получивший титул нурэддина – третьего по значимости человека в государстве. Сам Крым-Гирей будто бы находился далеко от Бахчисарая. Говорили, что в одном из боев близ Дуная он был ранен и, не имея возможности передвигаться, лечился там чуть ли не подпольно. Позже распространились слухи, что он скончался. Как бы ни было, пока хан отсутствовал, между протурецкими татарами и прорусскими ногайцами начали возникать конфликт за конфликтом. К тому же на полуострове свирепствовала чума, которая, кстати, унесла жизнь второго после Крым-Гирея человека Девлет-Гирея. Вот и стал ханом Каплан… Как раз в день его возвращения с линии фронта, где он инспектировал свои войска, ногайцы, решившие уйти из Крыма, приближались к Перекопу.
– Куда это вы навострились? Почему покидаете нас? – попытался их остановить новоявленный хан.
– Хватит попусту кровь проливать, – ответили ногайцы. – Пусть султан Мустафа Третий сам за себя воюет. А мы вернемся обратно в степи, хоть так сохраним свой народ.
Каплан-Гирей не стал их задерживать. Да и как бы он это сделал со своим немногочисленным отрядом, ведь силы были явно неравные. Однако этот случай обошелся ему очень дорого. В Бахчисарае младший брат Селим-Гирей встретил его весьма странно. А когда братья вышли поговорить в придворный сад, младший вдруг бросил на плечо старшего черный платок.
– Султан тебе запретил быть ханом, во главе Крыма теперь я! – заявил он.
…И все же турки и татары воевали крепко. Нельзя сказать, что русские в боях выглядели совсем уж слабо, но и викторий, которые можно было бы называть успехом, не добились. Если и были небольшие победы, то их совершили лишь войска Румянцева. А армия генерал-аншефа Панина полностью завязла близ Бендер. Крепость была окружена со всех сторон, только внутрь русские никак не могли попасть. Пытались даже совершить подкоп и взорвать крепостные ворота, ежедневно проводили артиллерийские обстрелы, стремясь ослабить дух осажденных турок. Однако и из крепости в ответ пуляли по русским не слабо. И в ставшей обыденной перестрелке русские теряли ежедневно по полроты личного состава. А дни набирались в недели, недели – в месяцы… Только с наступлением осени Панин, наконец, сподобился на решительный штурм. Тянуть больше уже было никак нельзя. В траншеях стояла слякоть, многие солдаты из-за сырости начали болеть. Да еще однажды защитники крепости во главе с пашой Абдул-Джалиль-заде совершили неожиданную вылазку и за каких-то полчаса порубили несколько русских рот. Пока офицеры Панина опомнились и организовали отпор, неприятеля и след простыл. Не прошло и четверти часа после закрытия крепостных ворот за турками, как на стене показался человек в халате и тюрбане из зеленого шелка. Это был сам паша Абдул, успевший переодеться.
– Эй, урусы! Где ваш командующий граф Панин? – зычно крикнул он, довольно сносно выговаривая русские слова.
Граф в это время пил чай в своей палатке. Была у него такая привычка: когда настроение ухудшалось, он садился за чайный столик. А настроению его в тот день было от чего портиться. Столько солдат погибло! Просто так, ни с того, ни с сего. А еще сколько офицеров! В том числе инженер-генерал Лебель, специалист по подземным подкопам. Это ведь он надумал взорвать крепостные ворота. И вот его не стало. Главное же, на этот раз Панин понимал, что в происшедшем есть и его вина. С утра он решил немного подзадорить пашу и сообщил ему и его янычарам о том, что фельдмаршал Румянцев взял крепость Кагул, при этом сильно побил турок. Как показала вылазка янычаров, паша действительно рассерчал не на шутку и даже больше…
Когда Панину доложили, что Абдул-Джалиль-заде приглашает его на переговоры, граф не стал долго раздумывать. Одевшись, подражая паше, в серебристый шлафрок-халат и напялив на голову французский колпак, он приблизился к крепостной стене. Тут его на всякий случай со всех сторон прикрыли собой солдаты. Паша начал разговор с русским графом на немецком языке. Что и понятно. Турция с давних пор дружила с Австрией, потому Абдул-Джалиль-заде, как все образованные турки, немецким владел неплохо.
– Граф! Ты больше не зли меня рассказами о победах других, – крикнул паша громко, чтобы его слышали и другие русские офицеры. – Попробуй сам взять нашу крепость, вот тогда и хвались, коли будет чем. Только у тебя ничего не выйдет, ибо мне помогает всесильный Аллах. Запомни это! А теперь скройся с глаз моих, иначе мои янычары могут тебя нечаянно пристрелить. Их презрение и ненависть к тебе даже я не смогу сдержать.
Панину что оставалось делать? Пришлось последовать совету паши. Пуля – дура, она не разбирает, рядовой окажется на ее пути или генерал. Так-то оно так, но выходка паши разозлила генерал-аншефа чуть ли не до бешенства. Куда только подевалась теперь его осторожность – он с этого дня начал по-настоящему готовиться к решительному штурму Бендер. Не зря же говорят, не буди лиха, пока оно тихо. Панин приказал дорыть до крепостных ворот подземный тоннель, спланированный инженер-генералом Лебелем. Когда работу завершили, велел уложить под ворота аж четыреста пудов пороха. Тем временем гренадеры перекинули поближе к крепостным стенам, к месту предполагаемого взрыва, штурмовые лестницы. И вот подготовка завершилась. Ранним утром раздался мощнейший взрыв на месте стыка ворот с крепостной стеной. Удивительно, ворота при этом устояли. Правда, лопнули петли и одна половина скособочилась-таки. Зато обрушилась значительная часть стены. Только Панин уже не стал разбираться, что и как, приказал трубить штурм.
Для прохода в крепость большими силами образовавшегося проема было недостаточно. Потому русские в разных местах начали забираться на стены по лестницам. Турки поливали их сверху свинцовым дождем. Многие русские солдаты падали оземь, так и не достигнув верха. Чтобы как-то ослабить сопротивление турок, Панин приказал команде артиллеристов полковника Ефима Кутейникова обстреливать крепость беспрерывно. Команда эта в основном состояла из казаков и считалась самой боеспособной. Полковник немного понаблюдал за ходом сражения и подозвал к себе хорунжего Пугачева, дал ему отдельный приказ:
– Ты со своими канонирами немедленно продвинься ближе к воротам и обрушь их обстрелом прямой наводкой.
Узнав о приказе полковника, пушкари не сразу послушались хорунжего.
– Как туда приблизишься, вон как османы жарят сверху, – заартачились они.
– Ништо-о! – воскликнул Пугачев. – Поверьте, я везучий и пули меня обходят. Я три года воевал в Пруссии в отряде казачьего полковника Ильи Денисова и за все время ни разу не был ранен.
Он тут же первый отправился вперед с расчетом одного из орудий. Другим казакам не праздновать же труса после этого, пришлось следовать за командиром. Вскоре несколько пушек залповой стрельбой все-таки обрушили ворота, открыв штурмующим солдатам еще одну брешь для проникновения внутрь.
Постепенно русские начали просачиваться в крепость то тут, то там. Городок оказался так себе, без четких улиц, которые к тому же тянулись беспорядочными изгибами. Многие оказались тупиковыми, в них солдаты попадали под нещадный обстрел. Потеряв убитыми и ранеными слишком много людей, русские буквально рассвирепели и пошли на врага напролом, вступали в рукопашный бой, расстреливали янычаров в упор и рубили саблями. Теперь они не жалели и простых горожан, если обнаруживали их в погребах и подвалах, выкуривали оттуда, кидая горящие полена. Люди не выдерживали едкого дыма и вынуждены были подниматься вверх. Если среди них оказывались мужчины, гренадеры рубили им головы без всякого разбора. А женщин собирали в отдельные места. Те турки, которые не желали выходить и сдаваться, умирали от огня и дыма в страшных муках, с душераздирающими криками и воплями. Так бои в городе шли всю ночь. Лишь к утру янычары то тут, то там начали поднимать белые флаги и, выйдя на улицы, бросали в кучу пищали и свои кривые сабли.
После окончания боев генерал-аншеф приказал подсчитать потери обеих сторон. Подсчитали. Оказалось, русские в боях потеряли около четырех тысяч человек. Примерно столько же и турки. В плен взято множество женщин и детей, им несть числа. Турками ли они были, татарами или людьми иных народов – всех без разбору отправили обозом в Киев. Пусть живут там и принесут пользу России, увеличив население, что так нужно для огромной полупустой страны.
Когда, наконец, баталия завершилась, Панин приказал войскам отправиться на зимние квартиры, а штабистам велел подготовить наградные документы на более ста офицеров. Через пару дней специальный посланник командующего в сопровождении отделения гренадеров отправился с этими бумагами в Петербург, чтобы передать их императрице на рассмотрение.
9
Погоня за славой иногда творит чудеса. Ради нее человек может совершить нечто такое, что уму непостижимо. Причем, и скверное, и героические. Правда, чтобы оценить его поступки, нужно время. Только оно может решить, что сотворил человек. Если поступок все-таки оказался героическим, достойно это оставления в истории или нет. Иной же при жизни прославится, даже не совершив ничего, заслуживающего внимания. И такого человека оценит время и предаст забвению, а последующие поколения о нем даже не вспомнят.
Да, история – могучая сила, но Бог ее – Время. А Бога не обманешь, выше него не прыгнешь.
Потемкин лез из кожи вон, чтобы стать равным с другими генералами. Вплоть до того, что подставлял себя под пули даже тогда, когда в этом не было необходимости. И Румянцев постепенно перестал его журить за каждую мелочь, однако все еще не считал генералом, способным руководить военными делами. Только, похоже, у Потемкина в небесах был свой покровитель. Он позволил ему отличиться перед фельдмаршалом совершенно неожиданным образом.
К началу 1770 года вместе с русскими против турок начали воевать и другие народы: болгары, арнауты, хорваты, черногорцы, мадьяры, а чуть позже – и поляки. Среди них особым героизмом отличались сербы. Потому, наверное, получив разрешение фельдмаршала Румянцева, Потемкин начал участвовать в боях вместе с ними. Бригаду из воинов разных народов возглавлял генерал Иван Подгоричани. В проводимых операциях он нередко доверял Потемкину самые ответственные задания.
Зимой бригада Подгоричани в составе кирасиров, гусар, артиллеристов и пехоты вышла в поход на Мокшан. По тому, что в пути встречались убитые путем отсечения головы, стало понятно, что там находятся не татары, а османы. Только они действовали таким безжалостным образом. Вскоре впереди послышалась стрельба. Похоже, авангард наткнулся на пикеты противника. Значит, подойти к крепости скрытно не получилось. А время уже клонилось к вечеру. Что поделаешь, зимний день короче конского хвоста. Потому решили напасть на врага утром. Перед расположением на ночь Подгоричани подозвал к себе Потемкина.
– Бери пехоту и незаметно отделись от нас, затем переправься на другой берег Милки, создай там плацдарм. В ходе боя я стану со своей конницей теснить противника к твоему плацдарму. Ну и щелкай там османов, как семечек, – приказал он.
Это сказать легко. Оказалось, что река Милка еще по-настоящему не встала. Тонкий лед людей еще как-то выдерживал, а лошади проваливались то и дело. Особенно долго пришлось возиться с пушками, устанавливая их на наспех сколоченные деревянные помосты, чтобы не пошли ко дну. Да еще солдаты вынуждены были стаскивать ящики с порохом с возов и тащить их на себе, чтобы, не дай бог, не замочить. Наконец батальоны кое-как перебрались, солдаты осушились возле костров и прилегли отдыхать. А Потемкин решил перебраться через Милку обратно и поужинать вместе с Подгоричани. Вскоре он в сопровождении небольшого отряда во главе с фельдфебелем Медведевым оказался на другом берегу и направился к штабу бригады. Тут, откуда ни возьмись, в вечерней или уже в ночной темени показалась конница. Она быстро приближалась, как лавина из прорванной плотины.
«Османы! – догадался Потемкин. – Мы хотим скрытно ударить по ним, а они – неожиданно напасть на нас».
Это-то понятно. Только что теперь делать? Как поступить? Вот турки уже втянули отряд Потемкина в свою лавину и вынудили его людей тоже скакать вместе с ними. А что им оставалось делать? Хорошо, турки в темноте еще не разобрались, кто есть кто. Но ведь разберутся! И тогда – кирдык*.
«Ладно, мы погибнем. В конце концов, по мне плакать некому. Но как сообщить о приближении врага своим? – мелькнуло в голове Потемкина. – Этих османов так много, они так быстро скачут, что конники Подгоричани не то, что в бой вступить, оседлать коней не успеют».
Тут он неожиданно услышал негромкий голос скачущего рядом Медведева. Тот словно приказал:
– Вынь саблю и подними!
Потемкин не сразу понял его.
– Так подними же саблю! – еще раз подсказал Медведев. Когда увидел, что генерал исполнил его просьбу, заорал во всю мочь:
– Берабер гель!
Он, чуваш, на этой войне уже начал понимать турецкий и татарский языки, запомнил, что «берабер гель» означает «вперед, за мной».
До Потемкина наконец-то дошла хитрость фельдфебеля, и он начал махать саблей так, будто бы действительно летел в атаку. Его, в темноте выделяющегося поблескивающим при слабом свете луны дорогим обмундированием, турки, похоже, приняли за своего офицера, да еще подумали, что это именно он подбадривал их, и пустились вперед еще сильнее. А разгоряченный Сентиер так возбудился, что забылся и крикнул еще раз уже по-чувашски:
– Малалла-а*!
Да в этом грохоте от топота тысяч конских подкованных копыт разве различишь каждое слово. Туркам оно послышалось как «Аллах», и они вдруг неистово начали кричать:
– Аллах акбар! Аллах акбар!
Теперь их никто не мог заставить передвигаться по степи тихо и скрытно. Сентиер этого и хотел. Он поднял вверх заряженную пищаль и выстрелил в воздух. Глядя на него, выстрелил в воздух из пистолета и Потемкин. Тут кто-то из османских офицеров, сильно ругаясь на своем языке, приблизился к ним, чтобы остановить стрелков и потребовать соблюдения тишины. Однако рядовые янычары уже ни к чему не прислушивались. Они, наоборот, поняли своего офицера так, будто тот приказал нагнать страху на противника шумом, и начали дико гикать, стрелять в воздух. Слава Богу! Теперь Подгоричани должен успеть подготовиться к отражению вражеской атаки. Только его люди в ходе боя как бы не зарубили оказавшихся в этой лавине своих… И отряд Потемкина в какой-то момент сумел-таки оказаться на фланге наступающих, затем и вовсе отколоться от них.
Тем временем лавина османов, прущая вперед быстрым аллюром, наткнулась на кавалеристов Подгоричани. Те уже были в седле, ожидали врага гусары – с поднятыми саблями, кирасиры – с палашами…
На следующий день близ Фокшана завязался решающий бой. Значительно ослабевшие в ночном бою османы совершенно не ожидали, что русские пехотинцы окажутся буквально рядом с крепостью и не сумели дать им сильный отпор. А когда артиллеристы Потемкина обрушили крепостные ворота, внутрь хлынули кирасиры и гусары. Часа через три русские уже полностью разгромили турок, оставшихся в живых забрали в плен и начали доставать из подвалов бочки с вином…
Анализируя победу у Фокшана, Румянцев на этот раз отметил и геройство Потемкина. Не только отметил, а включил его в список представленных к награде офицеров и генералов. Так Потемкин стал кавалером ордена Святой Анны. Правда, всего несколько месяцев назад до этого Екатерина Вторая учредила более почетную награду – Георгиевский орден. Потемкин ожидал, что удостоится именно его, тогда он выглядел бы перед императрицей более достойно. Жаль, пока не получилось.
Зато после этого события военные стали относиться к Потемкину как к человеку своего круга. Вскоре ему доверили командовать бригадой в составе двух кирасирских полков.
Тогда Потемкину исполнилось тридцать лет.
Как-то так получилось, что после этих событий слава Потемкина начала расти и распространяться не по дням, а по часам. Правда, по большей части среди турок. Ибо он своей немногочисленной бригадой доставлял им хлопот и бед похлеще любого военачальника армии Румянцева. Ходили слухи, что уже при имени Потемкина турецких янычар начинал обуять страх. Будто бы они считали, что в его стотысячной (!) армии был какой-то богатырь, которого не брала ни сабля, ни пуля. А богатырь тот будто бы одной рукой мог заграбастать сразу пятерых человек и швырнуть их так высоко и далеко, что те, падая, становились калеками, а многие просто отдавали душу Аллаху.
То ли надеясь на свою возросшую славу, то ли понимая, что перевалил за третий десяток лет, Потемкин осмелился написать Екатерине Второй откровенное письмо. Хотя нет, не так. Помня повеление императрицы, он писал ей постоянно, сообщая о положении дел в армии и на фронте. Только в них ни разу не осмелился не то, что открыть, даже касаться своих душевных порывов. А эти порывы иногда так захватывали Потемкина, что, бывало, хоть брось все и лети к ней в Петербург. Иначе и не могло быть. Потому как его чувства вызваны не императрицей, а женщиной, носящей этот титул. В какие-то моменты казалось, что ими наполнена не только его душа, а весь мир… Хотя нельзя сказать, что Потемкин совсем уж не давал понять об этом Екатерине. Он намекал ей о своих чувствах через друга, придворного поэта Василия Петрова, с которым когда-то учился вместе в Московском университете. Друг Вася был не из стеснительных людей, иногда, передавая чувства Григория Екатерине, придавал им такие изысканные лирические формы, что переходил рамки приличия. Впрочем, императрица его не осуждала, не останавливала. Только все это ведь не то. Разве дело рассказывать любимой женщине о своих чувствах посредством чужих уст…
И вот, когда среди военных он слыл уже своим и к тому же стал кавалером ордена, Потемкин – будь что будет! – решился написать о своих чувствах в личном письме Екатерине Второй. В конце концов, императрица, если и будет недовольна или, не дай бог, оскорбится, отругает его лишь на расстоянии. Все легче, чем выслушивать неприятности, глядя глаза в глаза. Да и… случались же у них страстные ночи. Ужель они для нее были лишь временным баловством?
Много ли прошло времени, мало ли – это для кого как, наконец, Потемкин получил долгожданный ответ на свое послание…
Взяв в руки конверт с письмом Екатерины, Потемкин от радости и волнения на какой-то момент оцепенел. А прочитав его, оказался в полном недоумении. Черт знает, как понять сей ответ, разуметь из него что-либо определенное было просто невозможно. Местами императрица просто подтрунивала. «Господин генерал-поручик и кавалер, возможно, для чтения моего письма у тебя даже нет времени», – написала она в самом начале. Как это нет времени, ежели оно послано самой императрицей! А в конце Екатерина намекнула, что всегда вспоминает его добром. И что? Потемкину-то теперь как быть? Не ответить императрице – неприлично. А как отвечать на такое шутливо-игривое, граничащее с некоей фривольностью письмо? Ведь в нем нет ничего конкретного. То ли она написала его как царица, то ли просто как женщина – поди пойми…
Не соображая, как поступить, Потемкин решился на обращение за советом к своему непосредственному командиру и начальнику Румянцеву. Все-таки он в придворных делах собаку съел, да и относится к генерал-поручику Потемкину теперь более или менее доброжелательно. Фельдмаршал сходу развеял сомнения своего подчиненного.
– Дружище Григорий Александрович! Это письмо, действительно, не требует ответа! – воскликнул он. – Потому как это не просто письмо. Это, понимаешь, просьба, если хотите – приказ. Тебе, сударь, сейчас не надо тратить времени на ответ, тебе немедленно надо выехать в Петербург.
Фельдмаршал даже не стал прислушиваться к тому, что лепетал вконец растерявшийся Потемкин, приоткрыв дверь в соседнюю комнату, крикнул штабистам:
– Немедленно выдайте генерал-поручику подорожную до Петербурга…
И уж совсем удивил генерал-фельдмаршал тем, что в честь отъезда Потемкина в столицу устроил шикарный прием. Тут было все: и искусные блюда армейских поваров, и трофейные замечательные вина из турецких подвалов. При этом командующий при всех расхваливал ставшего совсем недавно генерал-поручиком Потемкина так, будто он и был главным героем всей военной кампании. Впрочем, все понимали, почему настроение Петра Александровича Румянцева было на подъеме. Ведь он и сам по высочайшему повелению императрицы стал генерал-фельдмаршалом одновременно с получением нового чина своим подчиненным.
– Григорий Александрович, я ведь две недели назад отписал матушке-императрице послание, целиком тебе посвященное. Потому надеюсь, что встретит она тебя с большой душевностью, – улучив момент, подбодрил Румянцев камергера. – Особенно отметил, какие ты совершал со своей кавалерией удачные рейды, уничтожил в ходе них бессчетное число турок. Рассказал и о том, как, перейдя Рубикон, провел удачную баталию. За эти славные дела предложил отметить тебя достойной наградой.
Рубиконом в окружении царицы называли Дунай. На другом берегу этой реки – подконтрольные Австрии территории, потому русским войскам не рекомендовалось туда переправляться. Лазутчики не раз докладывали и генералам, и самой Екатерине Второй, что Австрия поблизости от русско-турецкого фронта держит немалые войска, потому императрица остерегалась ее будоражить почем зря. Все же и по приказу генерал-фельдмаршала, и по своей инициативе Потемкин не раз переправлялся через реку и громил там отряды временно укрывавшихся на австрийской территории турецких войск. Остерегаясь неодобрения Екатерины Второй, Румянцев в своих посланиях императрице объяснял эти рейды необходимостью разведать. Одновременно сообщил, что благодаря этим рейдам Потемкин подробно изучил и местную обстановку, и особенности отношений между турками и крымскими татарами. Правда, в беседе во время приема самому Потемкину Румянцев об этом не сказал. Кто знает, как бы понял сии слова этот одноглазый генерал. Циклоп-то он Циклоп, но голова у него варит, будь здоров. Чего доброго, сообразит еще, что сильно расхваливая своего подчиненного перед императрицей, командующий хотел одного – чтобы Екатерина Вторая оставила Потемкина при себе и больше не отправляла его на фронт. Румянцев понимал, что императрице необходим советник, владеющий ситуацией на русско-турецком фронте и на юге страны в целом.
А Потемкин так окончательно и не решил, что думать о своем командире. Старый лис. Молодому пока не понять все его хитрости. Давно ли Румянцев при каждом удобном случае высмеивал его, подтрунивая по-военному грубовато, а теперь расхваливает так, что из единственного глаза вот-вот может капнуть слеза. Чтобы никто этого не заметил, Потемкин сделал вид, что поправляет повязку на другом глазу и по ходу вытер предательские капли тыльной стороной ладони.
Тем временем Румянцев продолжал удивлять. Он не только устроил прием в честь отъезда Потемкина, еще выделил ему в дорогу охрану. Совсем недавно бригаду Потемкина усилили, придав прибывших из Запорожья казаков. Из них и выбрали самых боевых и отъявленных храбрецов. Только одноглазый генерал сам не из трусливых, да и силушкой и отвагой не обделен. Потому, доехав до Чигирина, он хорунжего и урядника с их полувзводом отправил обратно, дальше поехал вдвоем с фельдфебелем Медведевым. Трястись в такую даль верхом даже привыкшим конникам непросто, потому в одном городке Потемкин купил легкую кибитку. В нее запрягли освободившихся коней и дальше продолжили путь более удобным способом. Хотя согласно подорожной генерал-поручику полагалась тройка, но с ней больше возни. Да и барахла походного у Потемкина – всего-то небольшой сундучок.
Как ни торопился Потемкин, решил по пути заехать к матери, повидаться с родными. Так давно он с ними не встречался! По правде, до сих пор не очень-то и тосковал по ним, а тут вдруг потянуло… Возможно, потому, что дорога в Петербург пролегала невдалеке от их имения. И Потемкин в Путивле повернул на брянский тракт, а дальше взял направление сначала на Смоленск, затем – в родное село Чижово.
Пожить на родине у него хватило терпения на три дня. За это время Григорий Александрович успел посетить родных, а еще съездить к соседям – в имение Глинки. Позже из всей этой поездки Потемкин вспоминал лишь этот визит. А что еще-то? У матери оказался лишь один интерес к сыну: раз Гришка вознесся так высоко, то должны же быть у него большие деньги. Куда он их девает? Неужто не оставит немного маме? Сестер дома уже не было. Две из них, оказывается, раньше времени ушли в мир иной, другие две повыходили замуж и переехали к супругам.
А Сентиеру все здесь было внове и любопытно. До сих пор ему не приходилось воочию видеть сельские поместья русских помещиков. Да и простая крестьянская жизнь здесь заметно отличалась от чувашской.
В небольшое село Сутолоки, где проживали Глинки, Григорий Потемкин поехал ближе к полудню. Хозяин дома, Григорий Андреевич Глинка, встретил его на широком крыльце. То ли услышал звон поддужного латунного колокольчика, то ли в окно узрел приближающуюся двойку с кибиткой. Встретить-то встретил, а Потемкин его признал не сразу. Он помнил Григория Андреевича могучим мужчиной, каких поискать. Еще помещик славился как любитель пения. Вообще, род у них был такой, все и пели, и музициролвали. Женщины Григория Андреевича просто обожали. Даже Гришке Потемкину в юношестве многие намекали, что его кровным отцом мог быть Григорий Андреевич. Будто бы в молодости его мать была без ума от отставного хорунжего Глинки, ну и… Так ли на самом деле или это лишь досужие сплетни, только Гришка Потемкин, точно, не пошел ни в небольшого росточка отца, ни в вечно суетящуюся мать, а вырос в крепкого и видного мужчину. Помнится, он в юношестве перед Глинкой почему-то сильно конфузился, тем не менее, сейчас ему захотелось с ним повидаться.
– Гриша, ты ли это?! – заволновался старик, увидев, кто к нему заявился.
Он с почтением снял с головы картуз с ушами, спустился с крыльца и непривычно суетливо направился к гостю. Был он теперь намного ниже ростом, да и горбился заметно. Григорий не дал ему подойти к кибитке, сделав несколько широких шагов, очутился перед ним и, обняв, крепко прижал старика к себе.
– Я это, Григорий Андреевич, я, – тоже заволновавшись, несколько раз повторил он.
Ни Потемкин, ни хозяин дома на Сентиера, сидевшего на козлах, не обратили никакого внимания, будто его здесь и не было.
В гостиной почаевничали, отведали вишневой наливки. Обслуживала их одна-единственная служанка, тоже обветшавшая от возраста. Потемкин рассказал, как жил все эти годы, чего добился. Глинка предложил ему отобедать, но гость отказался, сказав, что спешит, ибо времени в обрез. И все же он просидел со стариком довольно-таки долго, говорил с ним как с родным человеком, раскрывая душу.
– Гриш, ты как, не перестал еще музицировать? – неожиданно спросил Глинка. – Продолжаешь петь?
– Нет, – коротко бросил Потемкин, потом вдруг смягчился и выдал то, что никому не говорил: – А если по правде, не только пою, даже романс сочинил. Когда один, всегда мурлычу его себе под нос.
– Вот это отлично, – воодушевился старик. – Вот это по-нашему… хм… что-то не то изрек, пся крев. – Он тут же встал с кресла, подойдя к клавесину, сел на банкетку, даже не отрегулировав ее по высоте. – Ну-ка, напой мелодию, а я подыграю, как смогу.
Клавесин был повидавший виды, но настроен тонко. Чувствовалось, что инструментом пользовались постоянно. Потому звуки он издавал все еще чистые, приятные уху. Сочиненную Потемкиным мелодию Глинка подхватил почти сразу и вскоре аккомпанировал уже вполне сносно.
Лишь раз увидевши тебя
Мне захотелось стать твоим.
Но счастье обошло меня,
Обдав презрением своим.
Ты высока, ты рядом с богом,
Я до тебя не дотянусь… -
с неподдельной грустью выводил Потемкин на не совсем чистом французском. Когда пение завершилось, хозяин живо поинтересовался:
– Чей это романс?
– Сказал же, сам сочинил, – несколько раздраженно напомнил Потемкин.
– Ах, да. А слова?
– Тоже мои.
Старик какое-то время помолчал, внимательно всматривался в гостя поблекшими от возраста глазами. Наконец, спросил:
– Гриша, ты на самом деле так сильно влюблен?
– На самом деле, уважаемый Григорий Андреевич, – с глубоким вздохом признался Потемкин. – Уже восемь лет как.
– И что, за все это время не было никаких возможностей?
– Не было ни возможностей, ни поводов высказаться. Похоже, и не будет.
Тут Потемкин, конечно, несколько приврал. Только нельзя же считать любовью то, что произошло между ним и Екатериной перед отправкой его на фронт. Скорее всего, это была просто жалость. Женская жалость.
– Раз так, надо бороться за эту даму, – приободрил хозяин. – Ты же кавалер.
– Пытался, – вяло махнул рукой Потемкин. – Вон, остался без одного глаза.
– Кто же эта недоступная даже для тебя дама? – не на шутку заинтриговался Глинка. Он хоть всего-то был отставным хорунжим и бедным дворянином, но в душе всегда полагал, что настоящий мужчина способен покорить сердце любой женщины, в чем убеждался не раз на своем опыте. И чем гордился.
– Она – императрица. Екатерина Вторая, – быстро ответил Потемкин и встал, давая понять, что разговор прекращается.
– Ой-йе! – присвистнув, воскликнул Глинка. Ничего более определенного насчет императрицы он не смог сказать. Только при проводах, усаживая гостя в кибитку, добавил, как бы продолжая прерванный разговор: – Ты, Гриша, не отчаивайся. Все будет ладно, вот увидишь. Чтобы нам да не отдались дамы – быть такого не возможно.
На повороте Потемкин оглянулся. Григорий Андреевич все еще стоял у своего дома, чуть приподняв правую руку, а вот еле заметно пошевелил ею. Может, пытался что-то сказать, а может, пожелав удачи, осенил гостя крестным знамением.
Потемкин прибыл в Петербург ровно первого февраля. Как ни хотелось немедленно встретиться с Екатериной, в Зимний дворец он поехал не сразу, хотя, как камергер, имел право прибыть туда, когда пожелает. Он, хорошо зная придворный этикет, понимал, что в свет можно явиться лишь в соответствующем одеянии. Конечно, у него была кое-какая одежда, оставшаяся с прежних времен. Только с тех пор она наверняка вышла из моды, да и тесновата будет, как-никак за эти годы Потемкин заметно возмужал. Пришлось начать пребывание в столице с вызова лейб-портного и заказать ему сшить добротную одежду для выхода в свет. Причем несколько комплектов с расчетом на смену в зависимости от того, в какой дворец придется ехать. Лейб-портной оказался удивительно понятливым. Услышав, что камергер и генерал-поручик «за срочность заплатит вдвойне», он заставил своих швей работать, не считаясь ни сном, ни отдыхом, и первый комплект был выполнен уже на следующий день.
Светло-розовый кафтан из бархата; камзол и панталоны из шелка с золотым оттенком; белая рубаха из батиста с прямым разрезом и оборками, с жемчужными пуговицами; светло-розовые чулки с золотистыми полосками; башмаки с длинными выступающими язычками… На голове слегка усыпанный серебристой пудрой парик. А черная шелковая повязка на глазу не то, что не портила лица, наоборот, придавала ему мужественную красоту.
Таким явился камергер и генерал-поручик Потемкин в Зимний дворец. В тот вечер там собирался узкий круг, то есть наиболее близкие к императрице вельможи. Само собой, в этот круг входили и камергеры.
Потемкин пристроился в шеренгу мужчин. Большинство из них ему знакомо. Есть и новые лица. Вот совсем рядом стоит худощавый молодой офицер. Держит себя весьма уверенно и смело. Кто такой, как оказался в этом кругу? Впрочем, сейчас не время думать о таких вещах. Вон, напротив дамская шеренга. Хотя в зале не душно, все обмахиваются веерами, и от них веет приятно дурманящим ароматом из богатой смеси французских духов. На белых напудренных шеях сверкают таинственными зелеными и синими лучами бриллианты, отражая свет от сотен больших свеч. А сами дамы! Одна краше, прекраснее другой, так что иной новичок наверняка растерялся бы и забегал глазами, выбирая лучшую.
Только у Потемкина мысли не о них. Конечно, проведя столько времени вдали от столицы, он сильно истосковался по этому блеску и сиянию. Однако эти дамы для него никто. Ему надо увидеться с Екатериной. Во что бы то ни стало! Скорей, скорей, скорей! Только вот заметит ли она любящего ее до безумия Григория? Заметит ли, как он преобразился, возмужал, каким стал статным и сильным мужчиной?
Вот слева распахнулись широкие массивные двери и в залу вошли два пажа, прямые, словно свечку проглотили, встали по обе стороны дверей. И появилась Она!
Потемкину показалось, что императрица на вид заметно изменилась. Несколько прибавила в теле, и на нем характерные выпуклости стали более приметными, отчего прибавилось женственности. Особенно выделялись груди, своими округлостями и белизной так и манили к себе мужские взгляды. Бросалось в глаза, что государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и длинными рукавами, в корсаже из золотой парчи. Она в последние годы старалась одеваться именно в русском стиле, как бы призывая и других дам и вельмож следовать ее примеру и забыть строгие регламенты к одежде, которые приходилось соблюдать в годы правления императрицы Елизаветы Петровны. Еще императрица казалась сильно нарумяненною, волосы ее были весьма тщательно причесаны и слегка посыпаны пудрой.
Екатерина все еще держала себя живо, легко двигалась между шеренгами мужчин и женщин, словно лебедь на воде. Голову держала прямо, а глазами так и норовила охватить все, что было по обе стороны от нее, всех замечала, каждому успевала дарить свою очаровательную улыбку, сделать приятный комплимент. Вот государыня приблизилась к Потемкину. Заметит или нет? Ведь она же сама вызвала его в Петербург, должна заметить! И правда, заметила. Даже на минуту остановилась перед ним…
– Генерал, а ты почему здесь? – обронила после секундного замешательства. – Ведь твое место должно быть на поле брани…
И пошла дальше. Опять легко, красиво, одаривая всех своей царской улыбкой.
Потемкин готов был сквозь землю провалиться! Он ожидал чего угодно, но чтобы подвергнуться такому уничижению – об этом даже мыслить не мог! С другой стороны, конечно, где-то идет жестокая война, а военный генерал подвизается при дворе… А тот, старый индюк, фельдмаршал проклятый… Езжай, говорит, матушка-императрица сама тебя позвала… Неужели подстроил, чтобы убрать Потемкина из действующей армии? Да нет, не может быть. Конечно, граф Румянцев старый ворчун, в одно время сильно недолюбливал его, но он дворянин до мозга костей, на такую подлость не пойдет. Да и относится к Потемкину в последнее время вполне уважительно, временами казалось, даже дружески…
Так все это или иначе, а оставаться во дворце Потемкин уже не мог, как только императрица удалилась в другой конец залы, он бочком, бочком незаметно продвинулся к боковому выходу и вскоре оказался на улице. Больше он сюда ни ногой!
И все же Потемкин, раз уж оказался в столице, решил в ней чуток задержаться. Хотя бы для того, чтобы развеяться и забыться после перенесенного унижения и позора в Зимнем дворце. На следующий день ближе к полудню он велел слугам подать двойку и выехал в город. Вообще по рангу он мог совершать выезды на четверке, как-никак, камергеру и генералу-поручику не пристало так прибедняться. Однако Потемкин сейчас держал путь не в царский дворец и даже не на бал к какому-нибудь вельможе, а в места, где приличному человеку светиться не пристало. И сопровождающая охрана в подобных поездках совсем не к месту. Потому генерал отпустил фельдфебеля Медведева на постой в лейб-гвардии Преображенский полк и приказал пока находиться там.
Почему-то вспомнились полуголодные студенческие дни. Скряга-мать не баловала сына, иногда не высылала ему денег месяцами, а когда и вспоминала про него, одаривала лишь десятью – пятнадцатью рублями серебром. Хорошо хоть, тогда еще не получили распространения придуманные Екатериной Второй бумажные ассигнации, иначе мать наверняка стала бы помогать ему лишь этими купюрами. Как бы Григорий жил тогда, ведь народ в начальный период эти бумажные деньги ни во что не ставил. Правда, со временем все потихоньку привыкли к новшеству, их начали принимать даже иностранные купцы. У Потемкина теперь этих ассигнаций – полный сундучок. И все же он сейчас захотел вспомнить далекое прошлое, жизнь времен молодости, и велел ямщику править на улицу, где питался рабочий люд.
Со стороны крепости грохнул выстрел. Он напомнил об адмиральском часе*. Да уж, заветы великого царя исполняются хотя бы в этом. Потемкин остановил карету, велев ямщику подождать, дальше по узкой улице пошел пешком, попеременно разглядывая то левую, то правую сторону.
Люди здесь трапезничали, кто стоя, а кто – расположившись на циновке, услужливо разложенной хозяином заведения рядом с входом. Вот не очень имущие ямщики вовсю уплетали булки с черной или даже с красной икрой. Что поделаешь, нема у них денег на более аппетитную еду. Правда, питались тут люди и победнее. По их просьбе лавочники тут же жарили коровье вымя или потроха. Многие покупали жареные на постном масле блины. Хозяева заранее наготовили их и выложили столбцами, когда только успели. Где-то в этих же местах обедают и мелкие чиновники. Но не на улице, а в расположенных по обе ее стороны кофейнях и кондитерских трактирах. В них потчуют самыми разнообразными пирогами и кулебяками. С какой только начинкой их не готовят. И с мясом – кабаньим, говяжьим, бараньим, а также гусиным, утиным, рябчиковым… И с рыбой, названий которой – не счесть. А еще в кулебяки кладут яйца, творог, картошку, капусту, морковь, рис, гречиху, свеклу, разные фрукты и ягоды… И отдельно, и в самом немыслимом сочетании. Пироги и кулебяки все обмазаны или яичным желтком, или топленым маслом. Потемкину больше по чреву те, что маслом. Питаясь долгое время едой из армейской кухни, он начал уже подзабывать их вкус. Потому, войдя в один из приличных на вид трактиров, заказал кулебяку с кабаньим мясом. Уплетал ее с таким удовольствием, запивая земляничным компотом, что не описать. Затем перешел в другой трактир, где набросился на пирог с капустой с яйцом. Посетил и третий, там поел пирога с черникой. Он, конечно, мог все это заказать и в одном трактире, но решил испробовать разные кухни. Что ни говори, у каждого кондитера свои секреты. У Потемкина осталось желание заглянуть и в другие трактиры, но желудок уже был переполнен так, что стало трудно дышать.
Через часок карета Потемкина остановилась у невзрачного, но довольно-таки просторного дома на одном из невских островов. Перед воротами не было ни одной кареты, стояли лишь две кибитки. Из избы доносилось задорное цыганское пение под гитару. Ах, сколько веков не был Потемкин в этом мире!
Он вручил мальчишке, открывшему ему дверь, медный пятак и стремительно вошел в избу, на ходу сбросив с себя кунью шубу, – впрочем, упасть ей не дали, какой-то верткий мужичок в коридоре ловко подхватил ее и унес в гардеробную, – уверенно прошел вперед. В большой гостиной несколько цыганок и два гитариста зажигали песней. В центре зала две молоденькие цыганки исполняли танец, заманчиво и соблазняюще потряхивая плечиками, чем приводили в какой-то животный восторг расположившихся на диване двоих мужчин. Какого они возраста – сказать сложно, оба бородачи и лиц толком не разглядеть. Оба сверхупитанные, потому ради предосторожности расстегнули камзолы. Наверняка не простолюдины, возможно, купцы: у обоих из карманов жилетов провисали серебряные цепочки часов. Мужчины уже были раззадорены так, что от нетерпения начали поерзывать и дрыгать ногами. Похоже, они готовились вот-вот наброситься на этих юных девиц и уволочь их в комнаты, лишь ради приличия дожидались окончания номера. Потемкин на минуту остановился, глядя, как танцуют юные девицы. Кажется, они были совсем еще девочками, лет тринадцати – четырнадцати. И такие красивые, свежие своей юностью, что словами не описать… Недолго думая, Потемкин подошел к девочкам, ухватил их за талии, чуток приподнял и, не дожидаясь окончания номера, понес в соседнюю комнату.
– Эй, человек! Ты что делаешь?! – вскочили купцы. – Они уже заняты!
Тут же оба двинулись за Потемкиным. Тем временем коридорный уже успел выглянуть на улицу. Он давно знал Потемкина и по его карете понял, что человек за эти годы сильно поднялся. Потому цыган мгновенно оказался между конфликтующими сторонами.
– Господа! Прошу вас, пожалуйста, не ссорьтесь! Он ведь, знаете кто… – указав пальцем сначала на скрывшегося за дверью Потемкина, затем подняв его кверху, сказал коридорный. – Да не волнуйтесь вы, я вам найду такие спелые ягодки, что тот начальник потом будет слюни глотать от зависти. А девочки эти… Они же еще совсем зеленые, ничегошеньки толком не умеют…
Чем все это завершилось – Потемкин не знает. Сам он этих двух юных девиц заставил извиваться под собой до самого утра. И как они, совсем еще дети, выдержали такого здоровяка…
Впрочем, Потемкин и сам вернулся от цыган изрядно уставший и опустошенный, потому завалился в постель с мыслью поспать до самого обеда. А в действующую армию он уедет скоро, возможно, даже на следующий день с утра пораньше. Однако выспаться вволю не пришлось, часов в одиннадцать его разбудил лакей.
– Я что тебе говорил?! – обругал его Потемкин. – Никого ко мне не пускать. Отдыхаю я! Вернулся с войны, имею право…
– Прошу прощения, Ваше Высокопревосходительство, но там, – кивнул головой в сторону вестибюля лакей, – близкая подруга императрицы графиня Прасковья Александровна Брюс.
Если бы пришел с визитом кто угодно из знати, Потемкин не стал бы отрываться от постели, но графиня Брюс – это дама особая, она – младшая сестра генерал-фельдмаршала Румянцева. Потемкин через лакея попросил ее немного подождать и спешно начал одеваться. «Что бы это значило? – думал сам тем временем. – Ужель Екатерина захотела-таки со мной повидаться? И для чего это ей надобно?» Разгоряченный этой мыслью, он вышел к графине с приподнятым настроением и чуть ли не со счастливым лицом.
– Доброго тебе дня, Параша! – на ходу поздоровался он. Они знали друг друга давно, потому особых церемоний между ними не требовалось.
– День-то какой еще добрый, Гриша. Да и все остальное ничего. Сам-то как? – приветливо ответила графиня.
– Ну как… Солдат обязан отправляться на войну. Может, денька два отдохну. А может, укачу завтра. Все зависит от настроения. Здесь, в Петербурге, меня больше ничего не удерживает.
Хитро прищурившись, графиня глянула Потемкину в глаза и лучезарно улыбнулась.
– А Екатерина? – с намеком спросила она.
– Екатерина Алексеевна – моя оборванная мечта. Вчера она ясно указала мне мое место. Оно, если и при дворе, то лишь в мусорном углу, как у домашней собачки. При всем свете так меня опозорила, что век не забуду, – молвил Потемкин в ответ и вдруг надрывно воскликнул: – Параша, я не понимаю, за что меня так?! Ну, ладно, не любит и даже не уважает она меня. Но зачем так поступать?
Графиня опять взглянула Потемкину в глаза, затем из кресла пересела к нему рядышком на диван, плотно прижалась.
– По-моему, ты сильно ошибаешься, – прошептала она тихо. – Катерина, конечно, царица, а все-таки, прежде всего, женщина. Мужик должен уметь завоевать ее. Не просто так: подойти и завладеть, а завоевать. Понимаешь? Завоевав же, быть способным удовлетворить ее желания, вплоть до каприз… – Тут вдруг спросила обыденным тоном: – Гриша, ты как вел себя с нею в этом плане?
– Как-как… Все-таки она наша государыня-императрица… – не очень определенно ответил Потемкин. Впрочем, всему двору ведомо, что у Екатерины перед графиней Брюс нет никаких секретов.
– То-то и оно. А Екатерина, я же говорю, в такие встречи желает быть только женщиной. И в этом смысле у нее есть свои способы-секреты. Ты знаешь, наша матушка сейчас ублажает себя поручиком Васильчиковым. Так этого молодого человека сначала мне пришлось обучить всему.
– Чему – всему? – не понял Потемкин.
– Гриша, ты что дурачком прикидываешься? – откинув голову чуть в сторону, графиня еще раз взглянула в глаза Потемкину. – Мужскому делу, конечно.
– Сама Екатерина об этом знает? – не без любопытства решил уточнить Потемкин.
– А как же… Между нами нет никаких секретов… Но, понимаешь, поручик не может быть фаворитом. Он характером слишком мягок. Да и, если честно, умом не блещет. То ли дело ты… Катя на самом деле сильно тебя уважает. Только, сказала же, она женщина, хоть и имеет неограниченную власть, не смеет открыто проявлять личные чувства. Я вчера ей пояснила кое-что относительно тебя. Но надобно тебе и самому… Знаешь, я готова научить тебя, как вести с Катериной.
– Как это? – не совсем понял Потемкин.
– А вот так! – хитро воскликнула графиня и, даже не сняв перчатки, одной рукой обняла, другой повернула его лицо к себе и крепко-крепко поцеловала…
Графиня опомнилась через два часа.
– Бог мой, я же сейчас должна быть во дворце! – вспомнила она и спешно начала одеваться. Перед тем как уйти, остановилась в дверях, спросила как бы невзначай:
– А Медведь твой где?
– Какой медведь? – не понял Потемкин.
– Ну, этот… Фельдфебель Медведев. Он же обычно всегда при тебе.
– Вон ты о ком. Я его на время отправил в полк. Захотелось немного пожить одному, – махнул рукой Потемкин, открывая графине дверь.
Расстались они очень даже довольные друг другом.
Слова Прасковьи Брюс, конечно же, вдохновили Потемкина. Он решил пока повременить с отъездом на войну. Поменял он и мысль о том, что в царский дворец больше ни ногой и решил на следующий день попытаться еще раз встретиться с государыней. «Параша сегодня обязательно переговорит с нею обо мне, может, после этого Екатерина будет относиться ко мне несколько иначе», – мечтательно подумал камергер-генерал.
Потемкин прекрасно знал, что императрица приступает к работе с раннего утра, потом делает небольшой перерыв, и примчался во дворец еще до обеда. По пути подначивший себя на решительность, он никого не стал просить доложить Екатерине о своем прибытии, а прямиком вприпрыжку помчался на второй этаж, а там – к знакомому уже будуару. Дойдя почти до двери царских покоев, Потемкин неожиданно чуть нос к носу не столкнулся с Медведевым.
– Фельдфебель, ты как здесь оказался? – резко остановился Потемкин перед гренадером.
– Ваше Высокопревосходительство, я здесь на посту, – вытянувшись во фрунт, доложил Медведев.
– С утра? – спросил Потемкин. Если фельдфебель караулил здесь с утра, он мог знать, есть ли кто-нибудь у императрицы или она сейчас одна, что и хотел уточнить камергер.
– Я здесь со вчерашнего вечера, – сообщил Сентиер.
Ответ прямо-таки ошарашил Потемкина. Вона ка-ак!.. Он оглядел могучего гренадера с ног до головы, открыл рот, желая ему что-то сказать, но промолчал, резко повернулся и зашагал обратно. Ах, графиня! Ах, шельма этакая! Вот почему она приходила к нему вчера – искать мужчину-медведя. Не для себя… Может, и сама отведала мужскую силу фельдфебеля – черт поймет этих подруг. А фельдфебель… Потемкин сейчас был готов отправить его хоть к черту на кулички. Иначе… Иначе, пока Медведь рядом, Екатерина сможет затащить его в свой будуар в любое время. И что, из-за этого инородца Потемкин должен лишиться своей вожделенной мечты? Не-ет, этого ни в коем случае нельзя допустить.
К его везению или счастью, только Потемкин вышел из дворца, как к воротам подкатила запряженная четверкой карета. Из нее вышел Суворов. Был он в мундире генерал-майора. Почему и ездил теперь на четверке.
– О-о, Алексаша! Оказывается, тебя надо поздравить! – поздоровавшись, заметил Потемкин.
– С чем поздравлять-то. Я уже с генваря в генералах… – откликнулся Суворов.
Потемкин не мог считать Александра Васильевича своим близким другом, но уважал его вплоть до белой зависти. Когда волею судеб сам стал военным, он с дотошностью прочитал книгу полковника – теперь уже генерала – Суворова «Полковое учреждение». Уж очень ясно и четко, а главное, убедительно в ней говорилось, как обучать солдат и офицеров воинскому порядку и военному делу.
– Какая нелегкая тебя привела сюда? Как я слышал, ты же сейчас воюешь на польском театре, – поинтересовался Потемкин. – И как там идут дела?
– Дела идут нормально, конфедератов громим только так, – без всякого стеснения похвастался Суворов. Есть у него такая черта. Правда, по словам знающих его военных, он действительно воюет отменно, так что похвальба вполне обоснованная. Только генералы из командования все равно делают вид, что не замечают успехов Суворова. Тот сам не раз с нескрываемой обидой говорил про это. – Одна беда, Григорий Александрович: не хватает личного состава. Ведь вы всех заграбастали на крымскую войну.
– Это правда, – согласился Потемкин.
Вдруг ему в голову ударила мысль.
– Александр Василевич, я тебе не могу выделить полки, – заметил он. – Зато могу предложить замечательного фельдфебеля, который заменит тебе роту. Он уже третий год при мне, не раз спасал меня от верной погибели, прекрасно владеет военным делом. А забери-ка его себе, так и быть, уступлю.
Суворов ростом почти на целую голову ниже Потемкина, потому даже несколько приподнялся на цыпочки, чтобы взглянуть ему прямо в глаза.
– И почему ты хочешь отдать мне такого верного тебе человечка? – спросил строго.
– Из уважения к тебе, генерал. По нраву ты мне. Да ты ничего такого не подумай. Я тебе отдаю настоящего богатыря, клянусь честью дворянина. Что до меня, у меня там, на фронте, есть еще несколько замечательных служак.
Вскоре они договорились насчет Медведева. И на следующий день Сентиер уже скакал в составе сопровождающего Суворова отряда в Польшу. Солдатская жизнь… Лично от тебя в ней ничего не зависит.
…А Потемкин, отобедав в трактире, в тот же день выехал из Петербурга в южном направлении.
10
Суворов отличался от Потемкина во всем: и внешностью, и характером, и мышлением. Небольшого роста, худощавый, он, как о таких говорят чуваши, передвигался, как блоха. И думал также быстро, резко, моментально мог определить, когда и что предпринять. Как он успевает все просчитать, удивлялся Сентиер, привыкший к неторопливости Потемкина в мышлении. При этом Суворов очень уж строг, даже в мелочах требует порядка, словно и не русский вовсе. «Ежели вы хотите, чтобы солдаты вам подчинялись беспрекословно, сами должны научиться исполнять приказы старших командиров так же беспрекословно», – часто повторял он офицерам.
В первое время Сентиер рядом с этим генералом чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Иной раз даже трудно было сообразить, чего он хочет, чего требует. К тому же генерал вел себя вовсе не как барин, ел обычную пищу, по выходным не давал приемов, вином не баловался.
Военные дела тоже он вел совсем иначе, чем, скажем, генерал-фельдмаршал Румянцев. Конечно, фельдфебель Медведев далек от их уровня и многих тонкостей не улавливает. Но однажды он услышал, как Суворов разговаривал со своим начальником штаба в чине полковника. Вот тогда и понял разницу между двумя генералами. Полковник предлагал перед подготовкой очередной баталии с польскими конфедератами заслать в лагерь противника больше лазутчиков.
– Сударь, ты же знаешь, донесениям шпионов часто невозможно доверять. Пошлешь на разведку пять человек, получишь пять разных донесений об одном и том же, – возразил Суворов. – В военном деле командир должен научиться видеть дальнюю картину без подзорной трубы. А донесения шпионов нужны лишь для того, чтобы подтвердить или опровергнуть твои догадки.
Офицеров и солдат вдохновляло то, что генерал весьма тщательно готовился даже к простым, казалось бы, стычкам. Сначала он высылал ближе к противнику наблюдателей. Затем, основываясь на их докладах, проводил тщательную рекогносцировку. Только после этого определял порядок ведения боя.