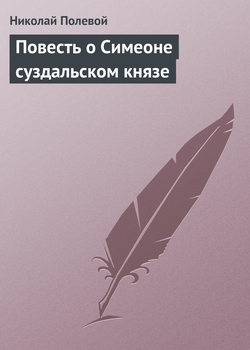Читать книгу Повесть о Симеоне суздальском князе - Николай Полевой - Страница 1
ОглавлениеСм. комментарий и словарик
Благочестивые жители Нижнего Новагорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа; на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опрометью ко храму, и все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок на площади собрались нижегородские купцы. Сложа руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца в тесноте негде было яблоку упасть. Богато убранные кони под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади сквозь тесовые растворенные ворота.
За толпою купцов, у навеса лавок сидел на складном стуле седой старик, угрюмо опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной в виде костыля, закрыты были длинною бородою его. Красный кушак по синему кафтану показывал достаток его. Он смотрел то на дворец, то на народ, покачивал головою, поднимал ее и опять опускал на руки. Другой старик, сухой и тщедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко:
«Бог на помочь!»
– Будь здрав, гость московский! – отвечал нижегородец, – по добру ли по здорову?
«Слава те, Господи! Вот получил из Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар доплелся до Москвы…»
Слова из Москвы, казалось, оживили старика. Подвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его:
– Из Москвы?
«Да, но вот что ты будешь делать: невзгода Москве нашей, да и только – опять была немилость Божья, пожарный случай[3]…»
– Что? Опять?
«Да, почитай, весь посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина…»
– Хм! Часто горит у вас на Москве!
«Да Москва-то не сгорает! – отвечал москвич, коварно улыбаясь, – а вот у вас, в Нижнем, так раз выгорело, да зато ловко…»
– Его воля! – вздыхая отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле. – Да попущением Божьим о Петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали тогда наш городок[4] благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: «За Пьяною люди пьяны!»
«Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год[5] проходит, а трава растет там, где прежде высились терема и хоромы. Сколько одной Божьей благодати сгорело и осталось в запустении!»
– Друг ты мой! не говорит ли нам Святое Писание, как тяжек меч вражий? Когда царю Давиду предложили глад, смерть и нашествие неприятельское, он молил Бога выбрать легчайшее, и Бог не врага, а смерть послал на Израиля. Тяжка смерть, но тяжеле воин вражеский, гибель живая, – не уснет, аще зла не сотворит!
«Но ведь на нашу Москву и враг-то какой нападал! Долго стоять земле русской, а не видать такого злодея, каков Тохтамыш окаянный! Ни в устах милости, ни в сердце жалости. Огнем палит, чего не возьмет, и ни храма Божия, ни княжеского чертога не остается за его следом – идет и метет!»
– Все равно, что силен, что бессилен, только умел бы железную баню вытопить да булатом выпарить, а уж татары, злой, ненавистный род, таковы, что, кажется, и во сне-то они мыслят о вреде христианам. Бывал ли ты сам в руках татарских и видал ли ты басурманскую, проклятую гадину в их житье-бытье?
«Оборони меня, Господи! Нет! до сих пор Господь миловал!»
– Истома Захаров любит_только издалека греть руки, а нейдет сам в огонь, – сказал кто-то подле разговаривавших.
Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец нижегородский Замятня. Москвич переменился в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.
«Держал бы ты язык свой на привязи, – сказал он. – Точно меч обоюдуострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь – рыкаешь, аки лев на краеградии!»
– Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг, – отвечал Замятня, смеясь. – Кто с ним торгует, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают, и вольно ему было сказать тебе, что он не бывал у татар – люди другое поговаривают!
Истома покраснел и побледнел.
«Добрая слава под лавкой лежит, а худая слава всегда на почетном месте сидит, – пробормотал он. – Мало ли что говорят и о князьях, и о боярах!..»
– Так будто все и неправду говорят? Глас народа – глас Божий! Будто князь да боярин уже все и хорошо делают? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат? – сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.
Некомат поднял голову.
«Слушай, Замятня, – сказал он, дрожа от досады, – язык твой не доведет тебя до добра! К чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе аселедцам[6] в бочонке».
– Я ведь не порицаю никого, да что поговорю, так и только того! Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: Батюшка наш, милостивый князь, а как придет к разделке, так в милостивого князя первым камнем бросает. Бывалое ведь дело – рассказывают…
«Не всякому слуху верь».
– Вот и об Истоме мало ли что говорят! Сказывают, будто он и в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька в Тохтамышево нашествие.
«Я был на Волоке Ламском, когда вражья сила находила на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Когда же грелся я у татарского огня?»
– Ведь ты не на исповеди теперь, – сказал Замятня, смеясь, – и если и попался в табор татарский, так уж, верно, неволею, а не волею. Что же делать с татарами! Сабля вражья и прямую душу кривит. Народ поганый, народ окаянный, времена тяжелые – поневоле свихнешь либо направо, либо налево!
«Ох! тяжелые, тяжелые! – подхватил Некомат, как будто стараясь отдалить от себя неприятный разговор. – Пришествие языка чуждого от стран неведомых явное знамение пришествия кончины мира!»
– Почему же языка неведомого? Кто не знает по-татарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему!
«Нет, друг ты мой любезный, я говорю о происхождении сынов Агариных. Кто ведает, откуда окаянный рой басурманов налетает на православную Русь?»
– Как откуда? Разве ты не слыхивал?
«Нет, слыхал и читал во „Временнике“[7], – отвечал Некомат, – где именно написано, что пришествие их положено при кончине мира. Мефодий Патарский пишет, что Александр Македонский ходил из Индии богатой к полунощному лукоморью и встретил там народов поганых, не соблюдавших ни поста, ни молитвы. И он загнал их за Синие горы, загородил горами, сотворил медные врата и запаял сунклитом[8], а его и меч не берет и огонь не жжет! Много лет прошло, они стали прорубаться сквозь гору и вышли».
– Ты забыл прибавить, что они никогда не прорубились бы, если бы мы сами не помогли им. Сперва прогрызли они оконце и начали подавать оттуда золото и самоцветные каменья, а в замену просили железа. Что же? Христиане стали к ним железо возами привозить и подавать в оконце, так что лет через тысячу сквозь оконце прошли их тысячи и пришли отбирать свое золото тем железом, которое от христиан выменяли.
Некомат увидел, что его поймали на его исторических знаниях. Он замолчал, а Замятня продолжал говорить:
– То-то, дружище, если бы в христианском мире побольше правды было, так и дело шло бы иначе. Все мы хнычем да головою качаем, а что руки наши нечисты да сердца наши омрачены, о том не подумаем. Вот уже двести лет с лишком, как мы кряхтим под татарскою плетью и ждем преставления света, а приготовились ли мы к тому? Грех сказать земле русской, что Господь не дает ей владык добрых, да народ-то живет со грехом пополам, так добрые князья, что семя на камне – процветет и погибнет!
«Правда твоя, – отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни. – Вот и нашу мать Москву выдают со всех сторон – стоит она, как сиротина на могиле отца и матери – нет ни помощи, ни пособия от других княжеств!»
– Хороша ваша сиротина Москва! – сердито вскричал Замятня. – Придет беда, так она и поет: помилуйте, православные, а отхлынуло, так того за ворот берет, кто ей помог! Ты, москвич, нашего брата-нижегородца не тронь! В наши сердца глядись, словно в матушку Оку, а в вашей Неглинной и ворон не видит, что он черен. Когда покойный князь Димитрий Иванович попросил стать за святую Русь – кто отказался? А там, как стал он гнуть других, так нечего жаловаться, что выдали его Тохтамышу!
«Не нуждается Москва в вашей помощи! Только злато вы не делали бы да не рыли ямы, и за то бы спасибо! Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял, сам не зная, что делать, когда была у нас потом потеха и на самострелах, и на мечах, и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое льстивое слово, кто уговорил его, кто правил тогда на святом Евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи – Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее[9]!»
– Кто тебе сказывал? Там их вовсе не было.
«Нет! были они, и Москву они погубили! Ты ведь знаешь все дела князя Симеона, злодея, изменщика веры, холопа поганого хана, Некомат! Скажи, правду ли я говорю, что он, злодей, всему виною?»
– Почти что правду! – отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя и наклонив голову. Он, казалось, читал дела прошедшего в темной думе своей.
«Старик, старик! – отвечал Замятня с выражением упрека, – ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Симеон изменил Руси? Симеон продал свою веру и разорил Москву? Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махметом, что он не тронет в Москве ни синя-пороха? И когда безбожный хан нарушил свою клятву, когда москвитяне безумно поверили басурману – Симеона обвиняешь ты во всей беде, во всем невзгодье!»
Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу: «Сердца людские грудью закрыты, и кто же узнает тайные помышления их? Но последствия всегда оправдывают праведного и накажут грешника. Если бы Симеон был муж праведен, то, по глаголу, должно бы ему быть счастливым и благоденственным, и роду его величиться. Писано бо есть, что память праведного с похвалами, и род его яко древо насаждено при исходищи вод. Где же Симеон? Погиб! Где род его? В тюрьме! Князь наш Борис Константинович княжит благоденственно над Нижним и смиряет злобу кротостью. Он праведен, а Симеон злый зле погиб!»
– И отец его был такой же вероломный и пагубный! – прибавил Истома хриплым голосом.
«Пощадите хоть кости-то доброго князя, вы, Некомат и Истома, вы, кому счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником! Нет! Я ел хлеб князя Димитрия Константиновича и не попущу злому слову пасть на память его! Вспомни ты, горделивый москвич, не он ли получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола[10], довольный Суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, когда козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и матерью юного князя Московского, которому ты восписываешь такие хвалы и похвалы? Не сам ли Димитрий возвел Симеона на престол Нижегородский[11]? А теперь, – продолжал Замятня, понизив голос, – теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеяв хана большею податью, вы славите его величие, а Симеон у вас злодей и отступник…»
– Да что судить нам о делах княжеских, – отвечал Некомат, – судит им Бог! Мир явно клонится к гибели и злу – брат восстает на брата, отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху – стреляет живым огнем!
«О, да какая ж была страсть Божья! – подхватил Истома. – Как выстрелили в первый раз из той адовой потехи, так души у всех замерли – огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставленье! Ох! да что уж нынче – и мертвым костям покоя не стало! Затеял какой-то немец копать у нас на Москве ров кругом города – и гробы разметали, и косточки родительские повыкидывали… Прости, Господи, наше согршенье!»
Тут шум и крик народа прервали беседу. Все оборотились ко дворцу, увидели, что князь Борис выезжает из ворот дворцовых, окруженный своими сановниками и боярами. Золото блистало на сбруях коней и одежде князя и свиты его. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую на встречу князя.
«Вот заступники твои, Симеон, – проговорил тихо Замятня, смотря вслед за Некоматом, – вот люди, которых осыпал ты благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их, и первая полтина перевешивает все добро…»
– А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают, – сказал кто-то. Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.
«Эх, товарищ! Плох стал народ!» – отвечал Замятня вполголоса.
– Когда же он был лучше?
«Нет ни совести, ни правды!»
– Правды искать у торгаша Истомы! Кто ищет клада на кладбище, приятель?
«А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш, послушал бы ты, что говорил он о нем и о роде его!»
– Что говорить ему! Язык его, как добрый жернов, вертится, куда повернут его на вороту, а ворот его серебро да золото!
Они пошли к церкви и тихо разговаривали дорогою.
«Наболтали мне они и Бог знает чего, – сказал Замятня, – а одно залегло у меня в сердце… Послушай: откроешь ли ты мне всю свою душу?»
– Для тебя ничего нет скрытого – спрашивай!
«Правду ль говорил мне Истома, будто Симеон изменил вере отцов своих и отступился от христианского закона? Уверен в нем, но человек в невзгоде так хил, так плох… С чего бы взять ему, окаянному!»
– Нет! он клевещет – он лжет! Симеон не изменил ни слову своему, ни вере своей! Храбр, как меч, тверд, как адамант-камень.
«Но горяч, как раскаленное железо, а мир, с своей славой и почестями, так светится, как звезда полуночная, стол княжеский так слепит глаза…»
– Нет! говорю тебе! Горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского – он не изменит кресту и вечному блаженству на временные блага!
«Слава Богу! Ты успокоил меня. Царство темное! ты не поработило доныне ни одной души княжеской!»
– Но послушай, Замятня: ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке, и болтун собьет тебя с толку! Будь осторожнее, будь умнее! Эй! береги слова!
«Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой злодей мой… А уж Истоме окаянному напишу я на иссохшей его роже правду…»
– Тише, тише… отойди от меня.
Князь Борис ехал мимо них. Все сняли шапки. Говор в народе уподоблялся жужжанью пчел. «Какой он дородный! – говорил народ, – то-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!»
– Помнишь ли ты, – шепнул опять нищий Замятне, – помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович так же ехал здесь с князем Симеоном? Не тот ли самый народ смотрел на Димитрия, как на орла быстропарного, а на Симеона, как на сокола золотокрылого, и не мог нарадоваться красоте двух братьев? А теперь что Симеон!
«Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на своем вороном коне, а вглядись-ко лучше, ведь коня-то этого подарил тогда князь Димитрий Симеону!»
– А кожух на боярине Румянце подарен был ему за верную службу его Симеоном!
«Это что за толстяк едет подле князя?» – спросил, смеясь, Замятня.
– Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он давно приехал сюда с уверением в дружбе от князя Московского. Вот и другой московский боярин, Александр Поле. Он живет здесь уже месяца три.
«А зачем?»
– Как зачем? Уверяет в дружбе.
«Разве князь Борис сомневается?»
– Бог весть! Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Да что там за толпа такая народа остановила коня княжеского? Смотри – падают на колени! Пойдем ближе.
Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня. Первый боярин его, Румянец, подскакал к небольшой толпе народа, стоявшей на коленях, и поспешно спросил: «Что им надобно?»
– Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу, – отвечал седой старик.
«Все равно – говорите мне!» – поспешно вскричал Румянец.
– Между князем и его народом, когда мы стоим пред лицом его, не надобно посредника, как между Богом и человеком нет посредника в молитве!
Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им: «Прочь с дороги!»
Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему: «Что тут за люди, боярин?»
– Князь великий! – отвечал Румянец, преклонив голову в знак покорности, – это бродяги вятчане… Они пришли сюда сбирать милостыню и рассказывать сказки.
«Нет, князь Нижегородский, – отвечали несколько голосов, – мы не нищие и не милостыни просим, но княжеской милости!»
– Помилуй, государь! – воскликнул старший из вятчан, – будь нашим спасителем – смилуйся над нами!
«Но зачем же вы здесь встречаете меня? Зачем не пришли в мой дворец?»
– Высоко крыльцо твоего княжеского дворца, и бояре твои стоят настороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего двора.
«Боярин! что такое они говорят?» – небрежно спросил князь у Румянца.
– Все последние дни ты был занят важными делами, и то ли время – слушать их жалобы! Они то и дело рагозятся!
«Всегда время князю пособить своим подданным и везде место спасти! – сказал старший вятчанин. – Государь князь великий! помилуй!»
– Ну, да теперь уж не время и здесь не место суда – после, – сказал князь и хотел ехать. – Допустите их ко мне, – примолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.
«Нет, князь, мы не сойдем с места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут – защити и спаси нас!»
Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг него.
– Говорите: чего хотите вы от меня? – сказал он, нахмурив брови.
Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал говорить:
«Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей тихо и мирно. Но теперь прошло прежнее время. С тех пор, как на Волге появились суда татарские, не стало нам покоя. Уже несколько раз приближались татары к пределам хлыновским[12]. Мы откупались деньгами, отражали силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно сбирается на Волге и готовит суда. Мурза Беркут[13] идет повоевать Вятку. Государь! спаси нас!»
– Я не могу ни спасать, ни оборонять вас, – отвечал князь, – вы не мои!
«Мы люди и христиане! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами – пошли защитить нас!»
– Не могу защитить вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил!
– Они сами разгневали великого хана, – закричал Румянец, – сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани!
«Платили, боярин, платили, но нет у нас более, чем платить. Князь и бояре! перемените гнев на милость! Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь христианская не даст покоя вашей совести!»
– Старик! Не тебе учить меня – иди с Богом! Я не могу пособить вам!
«Заклинаю тебя святым храмом Божиим, куда едешь ты, князь Нижегородский! Нам остается броситься в воду, погубить души свои! Бог велит русским князьям защищать родные области и взыщет на тебе попущение!»
– Видишь ли, государь, – сказал Румянец, – буйство лапотников? Так-то они поговаривают всегда!
«Кровь наша говорит, боярин! Князь! если ты отринешь нас, тебя отринет Бог от престола своего! Спаси христиан!»
– Замолчи, старый буян! – вскричал князь и повернул коня в сторону.
«Итак, нет нам надежды ни от Нижнего Новагорода, ни от Великого Новагорода – один отталкивает и другой не принимает! Князь! предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходили помогать нам – не заставь нас пожалеть, что венец Симеона возложен на твою голову!»
– Выгоните их из Нижнего! – вскричал князь. – Они буяны, нахалы, крамольники – не повинуются власти хана! – И гневно он удалился.
Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги. Блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.
Солнце закатилось. Алая заря горела еще на дальних облаках, и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный. Подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни и играли. Молодые мужчины, в праздничных кафтанах, ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка, в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину, и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее. Тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не приметил, заглядевшись, когда подошел к нему Некомат.
«Куда бредешь ты, Божий человек?» – спросил Некомат ласково, останавливаясь подле нищего,
– Куда ноги несут, – отвечал нищий.
«Я видаю тебя часто, – сказал Некомат, – и часто смотрю, как бродишь ты мимо дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благостыню».
– Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово!
«От слов сыт не будешь – пойдем ко мне – я велю накормить тебя и дам на дорогу хлебца и деньжонок».
– Доволен Божьею милостию и не требую от людей. – Нищий побрел вперед. Некомат не отставал от него.
«Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, сегодня похорон богатых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры».
– Щедра рука каждого дающего, а всякое даяние приемлю я во благо.
Некомат и нищий поравнялись с воротами дома, подле которых сидела девушка. Некомат остановился и сказал ласково: «Это ведь мой дом – зайди ко мне и отдохни!»
– Я не знаю, гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?
«Не знаю отчего благообразное лицо твое мне нравится. Ты, я чай, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчуга перекатного – зайди ко мне и помолись моим иконам».
– Подай мне милостыню, гость Некомат, и все равно – я подарю тебя благословением и на улице!
«Не мечи бисера – размечешься, и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою».
– О чем же тебе говорить с нищим? Я ничего такого не знаю…
«А я кое-что знаю. Высоко сокол летает, себе цаплю выбирает».
Невольно вздрогнул нищий.
– Пойдем, гость Некомат, если ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются!
Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, ушла в дом, увидя отца. В темноте взобрались Некомат и нищий на высокое крыльцо, в сени и комнату. Лампадка теплилась пред иконами в углу. Хозяин и гость его помолились и перекланялись. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказчик Некомата, высокий, худощавый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал:
«Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий! – воскликнул он, – ты ли скрываешься от меня?»
Нищий молчал и стоял неподвижно.
«Боярин Димитрий! – продолжал Некомат, – ты не хочешь сказать мне ни одного слова?»
Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился, переменил голос и мужественно и твердо отвечал Некомату:
– Если ты узнал меня, не буду скрываться, да и к чему скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня князю Борису – выдавай, но прежде умру я, а не скажу ни тебе, ни ему ни одного слова!
Слезы потекли из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:
«Неужели я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и доброго князя нашего Симеона? Не ты ли просил у меня благословения на брак с моей дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Что ты не отстал от нашего князя, что прошло года два, как мы не виделись с тобой – так я и забуду тебя?»
– Полно, Некомат, – отвечал Димитрий, – я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Душа твоя по золоту ходит: было счастье, и ты был друг мне; прошло оно, и ты друг Румянца и князя Бориса.
«Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же и когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Если я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис неправедно сел на столе Нижегородском, если я не кричу, что он безбожно отнял Суздальское княжество у своих племянников – боярин Димитрий! я отец: много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали! Подумай – я узнал тебя; не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: Вот любимый боярин Симеона – возьми его, князь!»
– Некомат! я не могу оскорбить тебя укорою за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив, но никогда не слыхал я, что злое дело легло на твою душу.
«И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего друга и сына! – Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей. – Узнай меня лучше, вглядись в меня пристальнее».
Димитрий молчал.
– Соглашаюсь, что ты помнишь еще благодеяния Симеона, – сказал он, – но чего же ты от меня хочешь?
«А! ты открыл наконец неприступную душу твою! Теперь узнаешь, чего хочу я, теперь возвеселится душа моя! – Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику. Явился приказчик его. – Поди и позови гостей моих, – сказал ему Некомат, – а ты, Димитрий, пойдем со мною».
Не отвечая ни слова, Димитрий пошел за ним в сени и на лестницу. Некомат отворил дверь. Они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна дочь Некомата с своею нянею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.
«Няня! Поди и принеси нам хорошего меду! – сказал Некомат. – Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию!»
Няня вышла. Несколько минут все молчали. Некомат как будто ожидал, пока няня сойдет с терема.
«Дочь моя ненаглядная! – сказал тогда Некомат, – помнишь ли ты жениха своего?»
Девушка вздохнула и не знала, что сказать.
– Ах, батюшка… – прошептала она, запинаясь.
«Жениха твоего, боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!»
Слезы навернулись на глазах Ксении и покатились по лицу ее. Кисейным рукавом своим отерла она их и промолвила:
– Батюшка! все забыто, кажется – все… и давно…
«Нет! Я не забыл…»
– И где теперь мой жених! В какой стороне скитается он…
«Он здесь, Ксения! Посмотри – вот он, твой суженый!»
– Ах! – вскричала Ксения, и ноги ее подломились – она, как полотно, побледнела.
«Боярин Димитрий! Разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменник, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отнимаю того, что мне всего дороже…»
– Некомат! – вскричал Димитрий, – вижу все и обнимаю тебя, как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!
Ксения плакала навзрыд.
– Я не понимаю тебя, Некомат, – сказал печально Димитрий, – не понимаю, что ты делаешь со мною и чего ты хочешь, обновляя то, что я хотел, что я старался забыть!
Некомат улыбнулся: «Поцелуй свою невесту, свою суженую, а потом я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Симеона».
Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел поцелуй на губах ее.
– Ты не узнала меня? – спрашивал он. – Ты видела меня в наряде боярина, а теперь я нищий – поддельная борода и рубища представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя, – узнай меня опять!
«Сердце мое не забывало тебя!» – шептала ему Ксения.
– Но вот идет няня! – сказал торопливо Некомат, – она не ведает нашей тайны. Пойдем, Димитрий, пойдем! – Он вырвал руку его из рук дочери и повлек его за собою.
Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блиставший серебряною посудою, и, когда два человека, сидевшие на передней лавке, встали, узнавши в них Александра Поле и Белевута, бояр московских.
Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.
– Добро пожаловать, боярин Димитрий! – говорил Поле, обнимая Димитрия. – Юный годами, ты равен мне саном и подвигами! Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Вот как теперь ты закутался, что тебя и не узнаешь! Да все равно: боярская кровь течет и под рубищем.
Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.
«Чара меду развяжет уста его, – сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана. – Да здравствует князь Василий Димитриевич Московский, племянник и друг князя Симеона!» – воскликнул Некомат.
– Да здравствует! – повторили московские бояре. Димитрий взял стопу; все разом чокнулись, и разом все стопы были осушены, «Куда он запропастился? Где девался? Вот уж загорается заря на востоке – не сделалось ли с ним беды какой? Избави нас, Господи!» – так говорил сам с собою человек, бродивший по берегу Волги и беспокойно глядевший во все стороны.
Вдруг вдалеке показался другой человек и шел прямо к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально и, видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: Высоко сокол летает. Подходивший повторил также: Себе цаплю выбирает. «Ты ли, Димитрий?» – спросил первый.
– Я, – отвечал подходивший. – Ты давно ждешь меня, Замятня?
«Давно! Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь, словно грань поверстная[14], а теперь скоро светать начнет!»
– Терпи, товарищ! – сказал Димитрий, крепко ударив его в руку, – терпи – скоро и на нашей улице праздник будет!
«Да ты и то как будто с праздника! Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда некстати!»
– Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись,
«Димитрий! Что тебе вздумалось?»
– Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точно колокол! Стоит раскачать язык твой, и ты зазвонишь на весь мир. Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!
Замятня содрогнулся.
– Да, Некомат знал уже, что ты сбираешь верных слуг Симеона, знал, где скрытно хранится у вас оружие и где вы собираетесь. Третий день, как я в Нижнем, а вчера Некомат уже заметил меня – и все по твоей милости!
«Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово…»
– Полуслова довольно для такой хитрой головы, какова Некоматова. Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведал, все узнал…
«Ах! сгинь он, окаянный! Да я ему сегодня же шею сверну – вот и концы в воду».
– Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был одним из любимых слуг князя Димитрия Константиновича – Симеон вырос при нем, и в былое время, когда глазки его Ксении зажги мое ретивое, дело у нас было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Симеон бежал, и я следовал за князем. У Некомата сердце заперто в золотом сундуке его, но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш…
«О! если бы слова твои были правда!»
– Слушай далее. Князь Московский[15] послушался благого совета своей матери. Он теперь в Орде, и когда, поехавши туда, подле Симонова монастыря взглянул он в последний раз на Москву и на расставаньи горько заплакал, княгиня Евдокия Димитриевна молвила ему золотое слово: «Сын милый! не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим – так и отец твой думал!» Кдазь умилился и дал ей слово передать Нижний Симеону, Суздаль – Василью, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда бог принесет его подобру-поздорову из Орды. Тогда приехал в Нижний московский боярин Поле…
«Но ведь он приехал к Борису?».
– Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делать можно только через неправду – таков обычай повелся! Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о доброхотах Симеона. Наших товарищей никто не знал, но Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой втроем мы все кончили!
«Кончили? Чем?»
– Быть Симеону князем Нижегородским, под рукой племянника своего князя Московского, по благословению сестры его княгини Евдокии. Князю Василью отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловать по-старому в Городец! Завтра либо послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Христианской крови лить не будем. Придем к князю Борису и ласково скажем ему: «Не на своем столе сел, князь Городецкий…»
«И тогда-то запируем, товарищ! Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон!»
– Тише, тише! Вон народ уж зашевелился. Ползут на белый свет суеты и заботы – пойдем скорее…
Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Димитрий остановился, посмотрел несколько мгновений на терема его и узорчатые кровли и невольно промолвил:
– Свет мой, невеста нареченная! почивай с Богом, да просыпайся на радость! Взойдет и для нас красное солнышко!..
Когда от избытка радости говорил Димитрий, ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине утра зловещий голос его раздавался, как вестник горя и несчастия, и собака жалобно завыла на ближнем дворе. Димитрий содрогнулся – сердце у него замерло…
* * *
Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова дома застучали железным кольцом. Глухой стук в медную бляху раздался на улице, и через минуту полусонный дворник Некомата окликнулся, не отворяя ворот: «Кто там?»
– Добрые люди! – отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода. – Отворяй!
«Да кого тебе надобно?» – спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.
– Самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее – разве ты меня не знаешь?
Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в беличьем тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторить свои вопросы, но, видно, гость не был расположен отвечать ему. Он грубо оттолкнул старика и вошел во двор. Собаки бросились на него.
– Уйми их, старый! – вскричал незнакомец.
«Сам уйми, московский барин!» – отвечал дворник сердито.
На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.
«Кто тут шумит?» – вскричал Некомат, но, увидев незнакомца, он переменил голос и ласково прибавил: «А! добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!»
– Вели проводить меня, Некомат! Дворник твой с товарищами загрызли меня.
«Тотчас, тотчас!» – Волоковое окошко задернулось, и через минуту Некомат, в засаленном полукафтанье и с огромною связкою ключей у пояса, явился на крыльце. Гость вошел к нему. «Милости просим, боярин Белевут!» – говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.
– Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что деньги бережешь.
«И, боярин! Какие у нашего брата, бедного торгаша, деньги! Уж так у нас заведено. Ведь мы не вам под стать и полоротыми[16] ворот никогда не оставляем. Есть и недобрый народ – как не бояться…»
– А особливо, когда вот этакое добро в доме! – сказал Белевут, усмехаясь и указывая на множество соболей и лисиц, раскладенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.
Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку: «Извини, боярин, что прибраться не успел. Так, вздумалось было поразобрать товар – вчера купил. И кто ж думал, что так рано пожалует ко мне такой дорогой гость? Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках».
– Нет! этого я не скажу: у вашего князя уж давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению[17]: вставать рано и день начинать с солнцем.
«Что и говорить, боярин! На охоту у нас рано встают, а дела гак просыпают!»
– Да и Нижний-то едва ли не проспали!
«Кажись, так», – отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута:
– Сказано – сделано, гость Некомат! Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим зятем. Боярин Димитрий молодец хоть куда, – прибавил он, перебирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.
«Добрый молодец, боярин», – отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.
– Ну, и не бедный, прибавь к тому!
«Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет».
– Ведь он старого рода, так как не быть у него и старинке отцовской!
«Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде преклонить! Да и отец его был такая беспутица и бестолковица! Бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному, а кроме того, пиры да гульба, бражничанье да беседы! Дом у него был как полная чаша – и теперь еще есть остатки, правда, да не в руках. Но если по милости вас, бояр, и князя вашего Василия Димитриевича Симеон будет князем Нижегородским, так Димитрий с лихвой получит все, чего из добра его завладел Румянец с братией, и дочери моей, конечно, не придется самой варить щи».
– Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда и денег лишних у него не было бы…
«Оно так, да чем жить-то им будет, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть – ест и пьет!»
– Что ты говоришь, Некомат! Честь чего-нибудь стоит!
«Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться почесть немалая, но все деньги притом не лишнее».
– Полно притворяться, гость Некомат. На твою долю станет, и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть… Земля говорит!..
«Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду, но Господь помог мне скопить кое-что, чем под старость дней моих могу пропитаться».
– Видишь, в нынешнее время, Некомат, на том все вертится: и чин да почесть не столь надежны нынче, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спокойно и звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а то – что нынче не продается!
Некомат слушал в изумлении; губы его дрожали; слова замирали на его устах. Он хотел, казалось, угадать, что такое скрывал Белевут под своими обиняками, но толстое лицо Белевута было неподвижно. Играя концами своего узорочного кушака, он продолжал:
– Чего ты испугался, Некомат? Я взаймы у тебя просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Вы все глядите на Нижний свой, а что бы вам не поглядеть через него далее – ну, хоть и в Москву,
«Как нам забывать Москву, боярин! От нее и смерть, и живот. От вашего князя ждем мы теперь милости».
– От вашего! Говори вернее – от нашего.
«Как, боярин?»
– Так, гость Некомат. Ужели тебе такая мысль в голову не приходила? Когда рука Московского князя может посадить и ссадить князя Нижегородского, тут много ли думать надобно?
«Боярин! что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь Московский готов помогать нашему, показывал грамоту его…»
Белевут встал и начал ходить по светлице. Он, казалось, искал слов, не зная, как приступить к тому, что хотел сказать.
3
…невзгода Москве… опять… немилость… пожарный случай… – Имеется в виду пожар 1390 г.
4
…уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские… Нижегородцы прображничали тогда наш городок… – Здесь Полевым допущена неточность. Его герой напомнил о разорении города 5 августа 1377 г. войсками татарского царевича Арапши, разбившего 2 августа русские дружины на реке Пьяне, посланные для зашиты Нижнего Новгорода. «Поверив слухам, что Арапша далеко», писал Н. М. Карамзин, ратники «вздумали за рекою Пьяною… тешиться ловлею зверей… Войны, утомленные зноем, сняли с себя латы и нагрузили ими телеги; спустив одежды с плеч, искали прохлады; другие рассеялись по окрестным селениям, чтобы пить крепкий мед или пиво, Знамена стояли уединенно; копья, щиты лежали грудами на траве» («История государства Российского», г. V, гл. 1). Беспечность была жестоко наказана, навечно оставшись в поговорке: «За Пьяною люди пьяны», Безоружное воинство полегло, не оказав практически никакого сопротивления; многие утонули в реке, в том числе и младший сын Нижегородского князя Дмитрия Константиновича – Иван, командовавший отрядом суздальцев. Таким образом, от разорения города Арапшей до времени описываемых Полевым событий прошло 14 лет и три месяца. Однако в июле 1378 г., в очередной свой набег на Русь, ордынцы снова разграбили и сожгли Нижний Новгород. Следовательно, в действительности минуло тринадцать лет и три месяца, как Нижний Новгород «впадал в руки басурманские», что не могли не знать нижегородцы…
5
Москва… после вражьего меча десятый год… – Тохтамыш (уб. 1406), хан Синей (Белой) Орды с 1377 г. и Золотой Орды с конца 1380 г., обманным путем захватил и сжег Москву 26 августа 1382 г. (см. комм. к с. 225).
6
…как немецкой рыбе аселедцам… – Сельдь на Русь поступала через Новгород Великий, куда ее доставляли ганзейские (немецкие) купцы, отсюда название – немецкая рыба.
7
…читал во «Временнике» – т. е. в летописи, хронографе. Излагаемый далее легендарный рассказ об Александре Македонском из «Откровения Мефодия Патарского» (III—IV вв.) в Нижегородскую (Лаврентьевскую) летопись не входил, он был включен в текст «Повести временных лет» под годом 6604 (1096) составителем Ипатьевской летописи в первой четверти XV в., т. е. почти два десятилетия спустя, после описываемых Полевым событий.
8
Сунклиг – сказочный состав, смола: «…ни огонь его не может спалить, ни железо его не берет» (см.: Памятники, литературы Древней Руси: Начало русской литературы. М., 1978. – С. 244—245).
9
…Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее! – 28 августа 1382 г. москвичи в очередной раз стали жертвой своей доверчивости, поверив клятвенному заверению Василия и Симеона, что Тохтамыш воюет только с князем Дмитрием Ивановичем Донским, а от них ждет лишь «небольших даров», за что «даст мир и любовь». Нижегородские княжичи оказались в стане врагов Руси не случайно – они были посланы с дарами к ордынскому хану своим отцом, Нижегородским князем Дмитрием Константиновичем, прослышавшим, что Тохтамыш идет на Москву, и надеявшимся тем самым отвести беду от Нижнего Новгорода. Переметнувшихся на его сторону княжичей Тохтамыш, после двух дней безуспешного штурма Москвы, направил в качестве парламентариев к защитникам города, точно рассчитав, что москвичи поверят клятвенным заверениям людей, находившихся в родстве с князем Дмитрием Иоанновичем – родная сестра Василия и Симеона была его женою. Расчет оказался верным. Москвичи поверили «шурякам» своего князя, открыли кремлевские ворота и вместе с руководителем обороны, молодым литовским князем Остеем, вышли навстречу врагу с крестами и дарами. Татары немедленно ворвались в город, разорили и сожгли дворцы, дома, церкви, а жителей перебили, и первыми погибли князь Остей и, духовенство. После захвата Москвы Тохтамышево воинство разграбило Звенигород, Можайск, Рузу, Дмитров, Переяславль…
10
…получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола… – Здесь Полевым допущена неточность. Нижегородский князь Дмитрий Константинович не мог ни претендовать, ни получить грамоту (ярлык) на Московское княжество: это был удел другой княжеской династии, право владения которым переходило по наследству ее представителям. В 1365 г. Азис (Агис) прислал князю Дмитрию Константиновичу ярлык на Великое княжество Владимирское, которое являлось главным среди великокняжеских столов, и занимавший его считался старшим среди русских князей, главою всей Руси. Дмитрий Константинович, уже дважды занимавший этот вожделенный для наших князей стол – в 1360—1361 гг. по ярлыку ордынского царя Невруса (Навруса) и в 1363 г. по ярлыку хана Мюрида (Амурата, Мурута) – и дважды оставлявший его, изгоняемый войсками юного Московского князя Дмитрия Иоанновича (будущего победителя Мамая), получив нежданно-негаданно ярлык в третий раз, решил не искушать судьбу, сразу же отказавшись от него в пользу Дмитрия Иоанновича.
11
Димитрий возвел Симеона на престол Нижегородский… – Не совсем точно. При поддержке войск, посланных Дмитрием Иоанновичем, престол Нижегородский в марте 1388 г. заняли оба брата – Василий и Симеон. Причем инициатором этого похода против Бориса Константиновича был Василий, которого родной дядя, получив в 1383 г. ярлык на Нижегородское княжение, оставил в Орде в качестве заложника. В 1386 г. Василий совершил побег из Орды, но был пойман и «за то, – как писал нижегородский летописец, – приял от татар истому (т. е. мучение) великую». Вернулся он из Орды в начале 1388 г., получив грамоту на княжение Городецкое – удел князя Бориса Константиновича. Спустя месяц Василий вместе с Симеоном, объединив дружины городецкие и суздальские и «испросив» у Московского князя «себе силу, рать Звенигородскую, Можайскую и Волотьскую», заставили дядю покинуть Нижний Новгород и удалиться в Городец. В 1389 г., после смерти Дмитрия Донского, Борис Константинович вновь выпросил у хана ярлык на Нижегородское княжение и был окончательно лишен этого стола в 1392 г., о чем и рассказывается в повести Полевого.
12
…к пределам хлыновским… – т. е. к земле вятичей, вятской земле; Хлынов (на р. Хлыновица при впадении в Вятку) – один из городов на р. Вятке, основанных новгородцами в 1181 г. Однако эти земли стали называть хлыновскими после 1457 г., когда главный город вятичей – Вятка был переименован в Хлынов; в 1781 г. он снова стал Вяткой.
13
Мурза Беркут… – имеется в виду царевич Беткут (Бектут); однако он разорил Вятку в 1391 г. Этот анахронизм – результат невнимательного чтения Полевым «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, где о разорении Вятки Беткутом говорится в ряду событий 1392 г., предшествовавших падению самостоятельности Нижнего Новгорода (т. V, гл. 11); летописная дата – 1391 г. – была указана Карамзиным в примечаниях.
14
Грань поверстная – верстовой столб.
15
…юный князь московский – Василий I Дмитриевич (1371—1425).
16
Полоротыми – полуоткрытыми.
17
…следует Мономахову наставлению… – Имеется в виду следующий совет из «Поучения» Владимира Мономаха (1053—1125), великого князя Киевского: «Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви; да не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные» (Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы, с. 401).