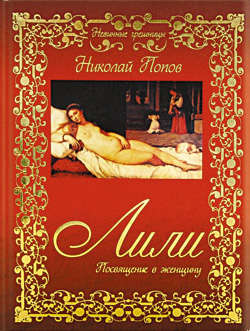Читать книгу Лили. Посвящение в женщину - Николай Попов - Страница 1
I
ОглавлениеЛили сидела в литерной ложе бенуара на виду у переполненного партера, откуда были устремлены десятки, сотни жадных плотоядных глаз на ее юное, красивое личико. Позади девушки, как бы прячась от публики, сидел полный и сутуловатый банкир Рогожин. Склонившись к Лили и обдавая ее горячим дыханием, он говорил немного заплетающимся языком:
– Согласитесь быть моей, и вы будете иметь великолепную квартиру, великолепных лошадей – одним словом, все, что должна иметь такая женщина, как вы!..
Лили молчала. Только большие, задумчивые глаза ее сверкали каким-то особенным блеском, да легкий румянец стыда вспыхивал на щечках.
– Жениться на вас я не обещаю, – продолжал Рогожин, – да и что такое брак?.. Предрассудок, пережиток старых понятий. Взгляды на жизнь во многом изменились. Всякая разумная современная женщина придает, главным образом, значение тому, чтобы любящий ее мужчина мог вполне обеспечить ее и будущих детей. Все остальное – пустяки! Я богат. Покойный папахен, царство ему небесное, оставил мне громадное состояние. Следовательно, средств на то, чтобы обеспечить вас, у меня хватит. Вам, конечно, известно, что я почти уже год самым аккуратным образом уплачиваю вашей матери по триста рублей в месяц за одно только удовольствие бывать в ее доме и видеться с вами.
Лили вздрогнула. Острая и горячая волна пробежала по всему ее телу. И, полуобернувшись к Рогожину, она, задыхаясь, сказала:
– Я в первый раз слышу об этом!..
Рогожин смутился, но затем тотчас же недоверчиво усмехнулся.
– Неужели? – пробормотал он и даже плечами пожал.
Наступило молчание. Антракт уже кончился. В громадном зале потухли огни. Взвился занавес – и на сцене начался второй акт оперы.
Лили не солгала, сказав, что впервые слышит о щедрых подачках Рогожина ее матери. Та до сих пор ни словом не обмолвилась ей об этом, а Лили, всего два года тому назад окончившая гимназию и почти еще не знающая жизни, совершенно не интересовалась источниками доходов матери.
Небольшая квартира почти в центре Москвы была обставлена уютно и вполне современно. Горничной и кухарке жалованье уплачивалось аккуратно. Нередко бывали гости, к ужину подавались дорогие фрукты и вина. Гости – представители кутящей и веселящейся Москвы – свободно и, может быть, чересчур смело ухаживали за Лили, дарили ей цветы, конфеты, возили ее в театры, на скачки. А Рогожин, один из наиболее постоянных посетителей, возил ее и в загородные рестораны. Мать не только не запрещала, но даже поощряла дочь, – и Лили не видела в этом ничего дурного.
Она хорошо знала, что только благодаря ей матери удалось привлечь в дом всех этих мужчин, и старалась быть интересной и обворожительной в их глазах. Но мысль о том, что мать могла извлекать из этого какие-либо доходы, никогда и в голову не приходила Лили.
Акт оперы подходил к концу. Рогожин снова наклонился к девушке и заговорил нагло и самоуверенно:
– Не верю, чтобы мать ни разу не сказала вам, что получает от меня по триста рублей в месяц! Но дело не в этом… Вы, конечно, понимаете, чего я хочу от вас?..
– Чтобы я сделалась вашей любовницей? – вспыхнув от гнева, спросила Лили.
– Да-а, – тихо и протяжно ответил Рогожин. Лили порывисто поднялась с места, хотела что-то сказать, но губы ее дрогнули, горло сдавило, и она поспешно вышла из ложи.
Рогожин бросился вслед и, догнав ее, взял под руку.
– Позвольте, по крайней мере, довезти вас до дому, – сказал он. – Не на извозчике же вы поедете в такую даль?
Ослабевшая и подавленная Лили не сопротивлялась.
А через несколько минут они, боясь заглянуть друг другу в глаза, уже мчались в щегольской коляске Рогожина. Лили тоскливо молчала, а банкир угрюмо и сосредоточенно старался решить вопрос, разыгрывает ли девушка «глупую комедию», притворяясь чистой и невинной, или недостаточно еще подготовлена к жизни развратной матерью?
Когда коляска остановилась у подъезда, Лили, не подав Рогожину руки, выскочила на тротуар и тотчас же скрылась за тяжелой входной дверью.
Обескураженный Рогожин пожал только плечами и сердито крикнул кучеру:
– Пошел!..
Он весь был охвачен дикой, животной страстью к Лили, и эта страсть была сильнее его воли, его рассудка. Как будто какая-то зараза, не поддающаяся никакому лечению, поразила его организм, вошла в плоть и кровь его, и не имелось ни противоядия, ни спасения. Любви он не чувствовал. Но та дикая, животная страсть, которая охватила его так внезапно, как налетевший неведомо откуда среди ясного, безоблачного неба ураган, была сильнее любви.
До знакомства с Лили Рогожин не знал этой страсти. Она, точно зверь, притаилась и дремала где-то в тайниках его сильного, здорового тела, сдерживаемая непрестанной работой мысли. Но с тех пор, как он узнал Лили, дремавший в нем зверь проснулся, выпустил свои когти, и они с болью впились в сердце Рогожина. Зверь властно рычал. Он требовал полного подчинения и воли, и рассудка, и Рогожин знал, что всякая борьба будет бесплодной.
Прежде он горячо осуждал малодушие, бесхарактерность людей, не имевших силы сопротивляться этой дикой, животной страсти. Упорную борьбу с ней Рогожин признавал обязанностью и долгом каждого культурного, развитого и мыслящего человека. Всех неспособных к такой борьбе он искренне считал дегенератами, душевно и физически больными, нуждающимися в помощи врачей-психиатров. И вот теперь, вспоминая свои прежние взгляды и мысли, Рогожин с отчаянием и мучительной болью думал:
«Значит, я тоже дегенерат, больной, которого необходимо немедленно поместить в психиатрическую больницу?»
Но проснувшийся зверь нагло издевался и хохотал и над прежними мыслями Рогожина, и над его отчаянием и мучительной болью теперь. Банкир как бы слышал насмешливый голос зверя: «Я – то, что целыми веками, тысячелетиями составляло неотъемлемую сущность каждого живого существа, я – тот могучий инстинкт всей животной жизни, перед которым бессильны все выдуманные вами общественные и нравственные законы. Чтобы дать возможность людям побороть в себе этот могучий инстинкт, необходимо их сделать физическими уродами, подвергнуть их той гнусной операции, которой подвергают несчастных лошадей, предназначенных к вьючной работе и к безропотной, покорной выносливости унизительного рабства!.. Борьба с этим могучим инстинктом делала людей жалкими аскетами, заживо погребавшими себя в сырых и темных пещерах, изуверами, истязавшими свое тело веригами, добровольно подвергавшими себя пыткам. Но даже этим несчастным, трусливо убежавшим от жизни людям, несмотря на все их усилия и на все бессмысленные и нелепые самоистязания, редко удавалось побороть в себе могучий и здоровый инстинкт, несущий с собой жизнь, радость и наслаждения…»
Рогожин жадно слушал голос зверя. Он словно раздвоился. В нем одновременно жили, мыслили, чувствовали и боролись между собой два существа. Одно из них являлось прежним культурным, уравновешенным Рогожиным, жизнь которого представляла собой механическое выполнение строго обдуманного, точного, определенного плана. Другим существом был внезапно проснувшийся дикий, необузданный зверь.
И Рогожин почти с ужасом осознавал, что его ясный, дисциплинированный ум мало-помалу делается услужливым и покорным рабом этого зверя и с необычайной ловкостью, даже вдохновением старается оправдать и признать целесообразными, исходящими из вековых незыблемых законов всей животной жизни, все его требования, желания и порывы.
Приехав домой, Рогожин прошел прямо в кабинет и лег на диван.
Спустя несколько минут к нему заглянул лакей и нерешительно спросил:
– Будете ужинать?
Рогожин скорчил гримасу и чуть слышно пробормотал:
– Нет, приготовьте мне постель.
– Постель готова.
Рогожин встал с дивана и пошел в спальню. Лакей хотел было помочь ему раздеться, но Рогожин грубо отстранил его и капризно закричал, чего раньше никогда не случалось с ним:
– Не лезьте, пожалуйста, с вашими услугами, когда их от вас не требуют!
Лакей весь вспыхнул и хотел было выйти из спальни.
– Куда вы?! – снова капризно закричал Рогожин. Лакей повернул к нему бритое лицо, искаженное неожиданной и ничем не заслуженной обидой. Он служил у Павла Ильича Рогожина уже несколько лет, был искренне и бескорыстно предан ему и сумел добиться к себе уважения. Рогожин всегда был вежлив и корректен с ним, позволял ему пользоваться своей библиотекой, не раз советовал прочитать ту или другую книгу и нередко вступал в разговор по поводу прочитанного.
И жадно стремящийся к развитию и знанию, втайне мечтающий о равноправии всех людей, лакей ценил такое отношение к себе со стороны Рогожина, дорожил им и всеми силами старался не дать какого-либо повода к нарушению установившихся отношений.
– Откупорьте бутылку Нюи и принесите мне сюда! – сказал Рогожин.
Лакей склонил голову и вышел из спальни. Через несколько минут он принес на подносе бутылку вина и стакан, поставил их на ночной столик перед кроватью Рогожина и в нерешительности остановился в ожидании дальнейших приказаний.
Рогожин стыдливо, исподлобья взглянул на лакея и пробормотал:
– Можете идти и ложиться спать. Мне больше ничего от вас не нужно. За мою грубость прошу простить меня. Я расстроен и плохо владею собой.
Лакей хотел что-то ответить, но не смог. И, стиснув зубы, порывисто вышел из спальни.
Рогожин налил вина и залпом опорожнил стакан. Душистая виноградная влага горячей струей разлилась по всему телу и ударила в голову. Терзавшая ум и сердце дикая животная страсть как бы утихла, дразнящий, чарующий призрак Лили с глубокими, как бездна, черными, как ночь, манящими глазами, пунцово-кровавыми, как у вампира, губами потускнел. С тела банкира словно спали цепи, которыми он был прикован к этой женщине.
Рогожин облегченно вздохнул и, налив в стакан еще вина, сделал несколько глотков.
И вдруг дикая, животная страсть к Лили снова захватила его, как приступ лихорадки. Сердце его заныло, затрепетало, и по всему телу пробежала такая истома, что Рогожин заскрежетал зубами и в отчаянии и страхе приподнялся на постели. Взгляд его широко раскрытых глаз сделался безумным. Воспоминание о Лили жгло его, как огнем, и вызывало неудержимое желание ее объятий и ласк, теплоты и близости ее тела, обладания этим телом и забвения в экстазе страсти всей окружающей монотонной и скучной жизни. Рогожин снова был во власти могучего инстинкта, подчинявшего себе его волю и разум.
Чувствуя, что не заснет и не успокоится, Рогожин встал с постели, оделся, вышел из спальни и разбудил уже спавшего лакея.
– Велите заложить лошадь, я еду! – приказал он.
Куда, Рогожин пока и сам не знал. Он знал только, что далее оставаться наедине с самим собой нельзя, что ему необходимо видеть других людей, еще не потерявших рассудка и воли, не сделавшихся еще жертвами дикой животной страсти, которая не поддается никакому лечению, против которой нет никакого противоядия, никакого спасения.
Было около трех часов ночи. Когда лакей доложил, что лошадь готова, Рогожин нервно и нетерпеливо вышел из дому, сел в коляску и, закрыв глаза, откинулся назад и замер.
Кучер в недоумении оглянулся на него и лениво, заспанным голосом спросил:
– Куда?
– Пошел за город, к Яру! – крикнул Рогожин.
Замелькали дома пустынных ночных улиц, полусонные сторожа и городовые на постах, запоздавшие и пьяные обыватели, жалкие и печальные проститутки, не сумевшие найти в эту ночь заработка. Полуоткрывая иногда глаза, Рогожин видел все это, но почти ничего не сознавал и весь был полон только одним жгучим ощущением охватившей его животной страсти.
– Да, да, – тихо бормотал он, – это тот самый могучий инстинкт животной жизни на земле, перед которым бессильны все выдуманные нами общественные и нравственные законы! Это то, что целыми веками, тысячелетиями составляло и составляет теперь неотъемлемую сущность каждого живого, физически здорового, неизуродованного существа!
И в то же время он злился и негодовал над рабской услужливостью своего рассудка, который так изощрялся над оправданием и защитой этой страсти.