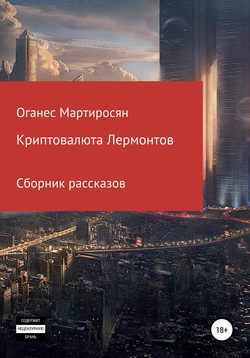Читать книгу Криптовалюта Лермонтов - Оганес Григорьевич Мартиросян - Страница 1
Оглавление1. Марлен
Рука, пишущая сейчас, должна исчезнуть, как и глаза, пробегающие эти слова, что не может не возбуждать.
Раньше, когда недомогание желудка давало знать о себе первостепенно и тревожно, подъём по утрам не радовал. Не радует он и сейчас, но исчезло роющее расстройство под рёбрами, облекающее в тоску создание, брошенное на берег из прерываемой по утрам реальности. Реальности, не более невменяемой и опальной, чем центральная.
Умывшись и залив чайник, я оперся о стол, мрачным взглядом обводя действительность. Кухня, поглотив сумрак, щурилась занавеской. Движение давалось с трудом. Я уходил в бездействие, равное телефонному в момент поиска сети… Но позже сеть обнаружила сознание, и паук продолжил ткать паутину дневного быта.
Выглянув в окно, я увидел, что трансформаторная будка стала мокрой. Надписи детства, выведенной краской, на ней не было, и уже давно. Очарование и смута бывшего ушли вместе с ней – отголоском легенды, пронзительной и яркой, как его звезда… Отзвучали взрывы, обжигая тела, обнажая сознания… И посреди – он, начальник перемен… «Жители посёлка Солнечный, не забывайте Виктора Цоя! Лично я никогда его не забуду».
В живых продолжение умерших.
– Ара! – свистнул Марлен, поднимаясь с бетонного облучка. Он сидел на Рахова, рядом с оптовкой, где мы и набились на встречу. Дав отмашку, он подошёл сам, и мы направились к делу.
Вот уже два года, как мы знали друг друга, сведённые общей темой Петровича, у которого он и работал. Приехал Марлен из Узбекистана, где в пору детства упал с голубятни, пролежав потом сорок дней в коме. Возможно, такое событие и стало решающим в формировании его ума, так как рост изнутри застыл, и душа продолжила вкушать детско-дикую непосредственность.
Уже давно Петрович не звонил мне, любителю уличного заработка, заработка, являющего, помимо нужды, нежелание мещанского благополучия и уюта, равно как преодоление страха холода, работающего на смерть. Этим летом я забил на его три бумаги, и сотрудничество прекратилось. А тут он позвонил: предложил покидать песок в детском садике. В карманах урчало, и я пришёл.
Днём небо не поскупилось на освещение, и отрывки белых облаков снова читались ясно. «Ну и влипли же вы, – шептали деревья. – Как вас угораздило родиться?». Играя мускулами, я перекидывал песок за ограду – к омерзительным, как всё неестественное, детям. Ни о чём не догадываясь, они играли и гадили. Жизнь только щекотала их, поэтому они могли еще посмеяться и побегать. …Взглянув на себя, я тогда впервые почувствовал, что искусство это и есть удаление лишнего, искусство – как путь к себе.
За садиком стояли гаражи, в объятьях которых бухали, кололись и трахались – по ночам преимущественно. После обеда в один из них я с Мариком возил щебень, погруженный в тележку… Всё было обычно, и острое чувство своего присутствия, словно сердечная боль, пронзало внезапностью. Дрожь. Ты так и умрёшь, отрезанным от глубины сокровенного. И ты не можешь жить, не зная, просто так. А знать не положено. Как начатая работа, всё ясно: ничего особого не будет. Но исчезновение не радует: оно – потеря для инстинктов создания. …Колёса крутились, скрипя и давя следы самовоспитания – презервативы, шприцы, упаковки. Марлен, глядя под ноги, вспоминал количество того же, вычищенного из гаража, и удивлялся в стиле «е..ать мои веники». Дело в том, что крыши у обоих давно съехали, и под них набивалась дрянь. Но вычищал её Марик только из-под металлической.
Мужик, чья «девятка» стояла рядом, внезапно предложил нам избавить его от соседства с пнями и трупами деревьев, гора которых образовала воротник вокруг его гаража. «А то мало ли – кинет какой нарик бычок, и всё…» – объяснил он свою позицию. Сойдясь на трёх «рублях», как в наших дворах называют тысячи, мы сходу вывезли все пеньки, остальную массу оставив на завтра. В силу такого поворота событий и состоялась наша встреча на Рахова, аллее синчеров и грёз.
С утра прошёл дождь, поэтому над землёй похолодало. Небо не рассосалось, и дыхание космоса не ощущалось вообще. Реальность машин, улиц, криков могучей пеленой покрывала рождение, бросая в мир исключительно человеческий и затхлый, что все-таки лучше двойного ужаса – звёзд и мата.
Жизнь бралась тяжело, то переполняя, то покидая хранилище. Плоть содрогалась, но внутренняя струна предлагала скорее лопнуть, чем расслабиться. Потому что в каждой строчке должен находиться эпицентр бытия.
Дождь застиг нас в разгар работы. Обтекаемые, обрызганные грязью два мокрых тела сновали, как муравьи, почуявшие пришельца. Словно брызги шампанского, падали капли, ударяя в голову и пузырясь в воде. И, опьянённые, подключённые к питанию недолгого единения и счастья, мы за три часа прикончили завал, срубив полтора «рубля» на брата.
Чувства, наполнявшие небо иссякли, остатки изгнал ветер, раскрыв деспотическую звезду. Умывшись в «садике», где играли дети, мы разошлись, простившись как всегда. …Я вновь дышал, не смея верить, идя еще по асфальту. Наверно, позволить своё маленькое счастье я всегда считал малодушием. Я всегда хотел большего. Моя звезда – разве не она сама заставляла верить в неё и тем самым себя? Что же она так рано…
2. Небо 2000
Сердце работает без отдыха: от одной мысли об этом можно умереть.
Протест и ненависть – кровь таланта. И как только сажусь писать – пустота и ненужность… отвращение. И каждое слово – клок, вырванный в войне с «недугом», каждое слово – вопреки.
Размеренность жизни, естественность происходящего – спокойствие убийцы-профессионала, пытающего жертву. Счастье – умение жить, согласуясь с этим и отведя взор. Ночью ходили в посадки: пили, бегали, играли в снежки с Алёшей. Резвились, словно барашки, которых скоро вычеркнут, молча и неповторимо.
Небо, зеркало асфальта, – небо стало чище. Сокрушительная сила звёзд. Я лечу с окурком, вспыхивая в конце, где жизнь Мартиросян Оганеса кончилась, прошла. Зачем, зачем он рождался…Лучше не писать, чем оставить тусклый пунктир присутствия – отсутствия. Нет слов молчать.
Самоубийство всегда исправление ошибок в тексте природы; отказ от тела. Ты не хочешь отворачиваться и прятаться от неизбежного поражения. И это другой вид страха. Голос беспробудной надежды, смолкший я. Самоубийство не предел.
Дерьмо льётся отовсюду: кто вырвется, чей крик продерётся через толщу (крик о гибели неведомо кому) недобытия… Хоть бы один глоток свежего воздуха… Но только она, накладная юность.
Привычная прогулка, обычная поездка – и в каждый момент проще не стать. Помню, стоят: лето, трамвай, люди. Люди говорят, спорят. Я, студент-первокурсник, прохожу мимо, перешагивая через тапок, брошенный кем-то. Позже я узнаю, что в тот день под вагон попала старуха, «пролистав» двери.
Омут спокойного пребывания беспросветного быта гонимых бичами живота существ, воздавших молитву существованию, коленопреклонясь. И кто утром весеннего дня захочет большее, несравненное, стройное и осмысленное – вкусит противоположное. Не может быть, чтобы это было всё – это невозможно.
Гул ветроплана за окном, дрожь конвоиров. Неужели мы вправду были? Капают звёзды, плавя тень. Я хочу крылья.
.
3. Водки, господа!
Александру Кликушину
«Пойдем выпьем» уличного братишки и мое, написанное, равны: по чувству, излиянию, отрывистости…
Прошлое – Содом. Мы идем за Лотом. Оглянуться – уже преступление. Нет сил, нет простора. Я судорожно сжат в однотемье. Я зарыт в узкоколейку: меня не сдвинуть, не повернуть. Темы не высосать из пальца. Их рождает само пребывание, но оно молчит. Колесо, которое раскрутили и ушли… Все слабей и слабее оно повторяет движение: мой велосипед перевернут.
Я пишу, я вырываю из пасти Молоха останки жертв. Осознание, что в руках моих останки, толкает на создание из них более полного памятника бывшему.
Строчки идут по винтовой лестнице, то опускаясь, то подымаясь вверх, пробуждая меня. Что таит этот звук шагов, приход новых узников, освобождение старых?
– Хождение по кругу вырабатывает зековские привычки, – прислала она зимой. – Любое.
– Лех, здорово. Ты дома? А где Оганес?
– Тоже у меня.
– Я зайду, ладно. Ты водку будешь?
– Нет.
Леха выключил телефон. Комната, полная темноты и отчаянья, прикрывала тела, плывя в
сигаретном дыму. Вот и прошел еще один день… Санек пришел пьяным. Принес выпивку.
…Дым кружил под потолком, ласкал побелку и подводил к одному: горим. Казалось, горит сама люстра. Но горела не люстра, а носки, повешенные на нее сушиться. Тобой, чего ты не помнил сам.
Крыльев явно не хватало, но ты летел, летел уже просто вниз. Твой истошный крик: – Бабы!!! – гасил фонари, шатал деревья. Мы шли по Проспекту, по Рахова. На площади нарвались на девчонок. С ними ты начал знакомиться голым. Мы же дальше нижнего не пошли. Но девки в любом случае остались непрошибаемы. И тебе надо было во что бы то ни стало украсть вторую кегу с пивом, чтоб открыть первую. Плевать, что на проспект уже приехали менты…
В ту ночь вопрос некоего басмача не показался нам странным. Он обратился именно к тебе: когда последний раз вел машину? Басмач, здоровый мужик лет сорока, объяснял: карбюратору, как и легким, нужен воздух. Знал бы, как он потом понадобится, буквально, а не так, как не хватало всю жизнь.
– Чего ты так задумался? – спросил дядя Коля, не отрываясь от дивана, где дремал. Мы с ним охраняли стоянку.
– Да так, всякое лезет в голову…
В ту встречу ты говорил, говорил, воскрешая «без сна горят и плачут очи», о тяжести ночей, когда все рвется, рвется изнутри …– хотя вдруг что-то происходит такое, ты подходишь к окну – «и все: поперла мысля!» И сходу выдал басмачу:
– У тебя руки – как клешни, а есть ты или нет – мне неинтересно.
Будто бы и не к нему обращался. Бесконечные пьянки (так мы сдружились) так ведь и говорили, что мы будем жить вечно, так ведь и говорили…
Ты слишком зависел от здесь и сейчас. У тебя не было другого мира, своего чулана, где можно переждать. В этом случае надо быть достаточно грубым. Ты был завлечен – и завлечен полностью, но не груб. Пойдя ва-банк в русле старинных сказок, ты был обречен. В отсутствие временного прибежища избрал, как говорится, вечное. Что бы там ни было, ты первым среди нас протоптал тропинку, и каждому придется поодиночке пройти по ней, окунаясь, как говорил поэт, в неизвестность.
P.S.
Мне же кажется, что смерть очень одинокий человек. Она все сидит дома, думая, когда же о ней вспомнят. А о ней не вспоминают, долго-долго. И смерть, как и любая другая женщина, не прощает такое. То есть берет и приходит сама.
Жить, торговать, есть, размножаться, умирать – пошло и бесконечно надоело. Забавно, но
так больше продолжаться не может. Мы только и делаем, что донашиваем старые одежды. Они расползлись. Пора перейти к новым.
4. Аритмия
Руки, немного теплые; тряская газель; руки, и вправду теплые, – руки Жан-Мари, подсказала бы ты; повесть несказанной любви.
Пот, струящийся по ложбинке груди, – я живо представил его. Писать при свете выше моих сил. Глаза устают. Но они мои, сумерки. Я не хочу делить любви, потому отказался от солнца.
Весь мир, ты должен впустить в себя. И тогда даже камни смогут зарыдать, зарыдать твоими устами.
Люди, машины, дома – все три кита плавучей реальности стояли на месте. Я курил сигарету, которую стрельнул у Лехи, оставшегося внутри, в винах Кубани. Тело не чувствовало прохлады, сигарета медленно уползала. С каждой затяжкой мысль, стучавшая, как птенец, в висках, выбиралась наружу. Мужчина должен быть сильным, это звучало так.
– Ованес! Аи тун! – кричала из окна мать. Но как? – если друзья еще гуляют, а на дворе весна. Снег уже освободил асфальт, показывая тем самым нерасположение природы к делам рук человеческих. Потоки воды сбегают с площадки, словно беженцы, покидая горячие точки земли… Нет, нам еще рано домой.
Почерк мой не изменился с третьего класса. Появились скорость и надежность.
Вся жизнь настоятельно требовала: брось его, оставь. Зачем тащить его туда, где трудно пройти одному? Но бросить порой сложнее, я не сделал этот шаг, не бросил себя, и оставшись позади, решил срезать путь.
Серый осенний дождь усыплял дома, осыпал легкими поцелуями землю, глаза, плоть. Я собирался в школу, а перед этим нехотя просыпался, но не сам: будила мама. Пил чай с бутербродами, слушал марш славянки, гремящий по радио, – и шел по краю двора, усыпанного листьями, по краю непростительной юности.
Солнце заслонило собой другие. Те, кто на земле, обязаны ему жизнью, влюблены всю жизнь первой любовью и последней. Лишь немногие могут ощутить остроту порыва других звезд, посмотреть на них. Но солнце таких не прощает. Никогда.
Я стал писать потому, что, захотев все сразу, изнемог. Законы физики встали на моем пути. Слова же, направленные ввысь, убивают наповал. И звезды падают – прерванные, потому что прекрасные.
– Где такую бейсболку купил? – Санек, из тех ребят нашей тусовки, что были постарше, жил в первом подъезде нашего общего дома, стоявшего углом, спиною к полям и ветру. Еще два дома находились напротив наших подъездов, замыкая коробочку, крышку которой сняли, раз мы родились.
– На базаре, с отцом… – Это была одна из первых бейсболок в сокращенной наспех стране. Помню ее черный цвет и освещавшую лоб надпись USA.
– Ну, теперь ты нормальный пацан. Классная бейсболка, носи, – с этими словами Санек вернул мне ее.
Заглядывать в детство – все равно что в пересохший колодец. Глухой стук падающих камней. Плеск воды не вернуть.
Солнце вставало нехотя, потягиваясь телом, вытягиваясь до земли. Стоя на балконе, я щурился, вглядываясь в его лицо, пытаясь определить возраст. Морщин не было вовсе.
– Видимо оно совсем еще молодое. желторотый птенец, – подумал я.Осень только начинала жить. Ветер гладил мне лицо, плечи. Я сыпался, сыпался безудержно, у меня начали выпадать волосы. Но от кожи, откуда она начинала, она, эта жизнь, перебралась вглубь, спасаясь от холода. Все внешнее стало ей чужим.
В автобусе взгляд не мог остановиться. Все двигалось, менялось, становилось другим. Каждая людская крупица рвалась ; я видел процесс, движение, пляски теней, меняющих позы. – Эй, баран, подвинься! – Про них нельзя было сказать, есть они или нет: они колебались между тем и другим, но не делали выбор. Проводили ладонью, не сжимая кулак. Было очевидно: надо расслабиться, чтобы всплыть. Но я продолжал столь же напряженно сводить судорогой линию судьбы.
Бог требует невозможного, поэтому надо жить. Когда я стою вот так (вам не видно), а рядом – стела памяти преподавателям и студентам, погибшим в войне, мой ум похож на фотоаппарат, заполненный черными, не проявленными кадрами. Для вас нет места, проходные и только люди. Я могу пожелать только одно, прикрывая глаза усталостью:
– Будьте счастливы, люди! Для вас это невозможно.
Приехав домой, тем же вечером, я, что-то поев, лег. Чуть позднее опустилась ночь, опустилась словно гильотина, отрезая день, откатившийся к прошлым. Скоро нас не будет: ни мамы, ни папы, ни сестры… Это очевидно, но разве не очевидно солнце над нами, не предвещающее беды? Разве не очевидно…Ладно, оставь.
Стоял июнь. На улицах, как жены на мужьях, отправляющихся на войну, висла жара. Сессия 2003-его заканчивалась. Доехав до церкви, что на Максима Горького, не отдавая себе отчета, я пошел по знакомой улице, стекающей в частный сектор, где новые огненные дома возвышались над ветхим жильем, в одном из которых жила ее тетя. Осенью прошлого года мы, я и Леха, напившись медового – ныне не существующего – пива, уже приходили ночью, ломились к ней, требуя приюта и всего. – Лара, б…, пусти! – кричал я, повисая на воротах. Выходила она, просила уйти, пожалуйста, тетя грозила походом в деканат, выскакивал дядя, размахивая скалкой… Усталые, замерзая, той же ночью мы уснули у ворот, на лавке. Что же было в июне 2003, честно говоря, мне стало уже не интересно, а вам, думаю, и подавно.
Шоколадное небо, вечерний пляж. Пятна фольги, прилипая к небу, холодно блестят. Капли воды и мурашки разбегаются по телу. Зеленые острова, столпившись, стоят на реке. Шум лодок, пьяные голоса, визги. Перед выходными город заражен чумой, и потоки машин спешно бегут из него. Город напоминает лужу, в которую бросили камень.
Глаза, устремленные вверх, расширяются от безумия, становясь воронками, в которые начинает стекать мутное небо.
Смерть, она то придает значение жизни, то лишает его. Телефон, издав два гудка, показывал, что пришла смс. Я лежал на полу и упивался безумием. Дверь в комнату была закрыта. Шла ночь. Писал Леха:
– Сигаретный дым растворялся в темноте, словно мои мысли. Вот и прошел еще один день. Я лежал на полу и слушал тишину, у нее был отвратительный звук одиночества. Эти долгие годы бесконечного ада, агонии чувств и разума. Я не умел терпеть боль без анестезии, побочный эффект которой – ОТСУТСТВИЕ.
Отвлекшись, я посмотрел на часы, они показывали ночь. Голова болела. Если и есть родовые схватки сознания, то, наверно, это они, подумал я, засыпая…
Начало девяностых, лето. С утра – три мушкетера по Дюма, героический завтрак для неокрепшего ума, фантазии. Досмотрев серию, я вышел на улицу. У подъезда меня поразило скопление людей. Шли похороны. Были: пронзительная ясность свежего дня, свежего солнца – и эта жадная тоска, тревога, угроза юношеской хрестоматии. Прощались с молодой учительницей – в том числе и моей сестры. Ее и подругу нашли на пляже изрезанными ножами. Говорят, она вела черчение.
После ночи, проведенной на улице в поиске несуществующих свечей, чтобы спастись, не только от себя… Я с трудом подымаю веки. – Друг, дай прикурить. – И вот в глазах, сначала неуверенно, шутя, разгораясь все больше, больше, начинают плясать чуткие, трепетные огоньки, приближаясь и снова исчезая, тая. Изо всех сил – я разбит. Мне хочется забыться, не верить, не приходить. Но эти огоньки не дают забыться. Мне кажется, кажется, что это еще не все, что с чистотой еще не покончено, что весна еще не сказала завещаемого нет.
5. От руки
Говорить о себе бесполезно, смотреть на небо, говорить: вот вор – тоже. Шестой квартал, дорога, по которой везут. Новое – глаза, которые видят: там меня больше нет. Осень семилетней важности, там он переходил, там еще не зажила тень, там слова погибали, вырываясь с корнем, уходя в гербарий. Его убила не смерть, а ее отсутствие. Никого больше нет, а, значит, и не было. Все живут так, будто это так естественно: родиться.
Будто они каждый день рождаются. Самое главное, что тело замкнуто на себе. Деваться ему некуда.
Бог создал мир, ибо хотел совершенства. Ему не с чем было сравнивать. Мир был необходим для сравнения. В то же время мир интересней: большинство играют именно в него.
Сердце закручивается как пружина. До предела. Потом останавливается, чтобы начать ход. По нему будут узнавать время, где живут, с ним будут соотносить день,
– Да, импотенция ему не грозит, – с трудом извлекаю из себя слова, видя, как из-под резинки горизонта начинает выглядывать солнце.– Каждое утро оно встает, каждое утро оно хочет.
На балконе холодно, свежо. Птицы прыгают с ветки на ветку, перебрасываясь словечками. Невдалеке стучит ранний трамвай. Ночью он кажется
волшебным, плывя фосфоресцирующей рыбой, холодным светом. Утром он просто золушка. Спать вообще не хочется, хотя я не выспался. Необходимо забыться. Сон не придает сил. Забирает, забирает по праву сильного, по праву первенца.
Перечитывать написанное, дорабатывать – несусветно. Все равно что возвращаться на место взрыва, где остались обнаженные разорванные тела. Каждый неосторожный шаг обещает новый разрыв. Ничего удивительного, что я бегу от написанного, что я не хочу его.
Стихи без музыки – лицо без грима. Нет, плохо. Стихи без музыки – волки, одиночки. Они надеются только на себя. Юля Попова, Таня Артамонова… Имена, за которыми что-то было. Шелуха семечек, что валяется на полу памяти.
Дни в обойме недели, череда виселиц; в шестнадцать, семнадцать лет лица, задницы, глаза женщин остались свободны, никто их не тронул; они причиняли боль, касаясь глаз, чей перелом был открыт.
Я вспоминал сон, открывшийся ночью. Снилась смерть. Но не в чистом виде, мало кто ее видел. Она была весной: холод тела сходил, шло обнажение, тела набухали, как почки, раскрываясь…
Часы кружатся, как белка в колесе, повторяя одно и то же. Часы суть женское начало. Они не показывают время, созданные как один из тонких
видов наказания.
Треть своей жизни человек репетирует состояние (а оно огромно) смерти. Явь – жизнь, сон – смерть. Человек спит преимущественно на кровати, т. е. некотором возвышении. В целом набегает крест: вставая по утрам, человек рисует именно такую геометрию.
"Боги любят тех, кто умирает молодым". Или смерть выбирает лучших, невкусное оставляя на потом. Нельзя отказать ей даже во вкусе.
Сознание бога омрачено, он возбужден, он хочет секса. Но бог изначально рожден бессилием.
Время, это еще не часы, время вхождение в пустыню, головокружение земли.
Солнце зимой – фонарь, фонарь с отражателем, яркое, редкое, находящее отклик в сердце, снегах.
Мкртчян близок слону (не случаен фильм "Солдат и слон"). Из знаемых мной больше всего родства в нем. Во-первых, кожа, глаза, нос… Мудрость больших детей.
У смерти тоже психика живого. Нужно найти силы посмотреть ей в глаза.
Я расшатал точки привычных опор, чтобы в меня трудней стало попасть. Плата – неустойчивость.
Нет, этот день явно не страница из Ницше, желтый бульварный лист, падающий к ногам…Морщины напоминают закладки.
Жук идеал, к которому стремилось человечество: оно все время изготавливало панцирь, чтобы скрыть мякоть. Теперь он почти осуществлен, люди ездят в панцирях. Человек любит замкнутое пространство, там он чувствует тело в большей безопасности, но гибнет от этого ничуть не реже. Смерть разнообразна и изысканна.
Казалось бы, успеха добьется тот, кто уравновешен, подходящ, устремлен, мобилен. Но я, Мартиросян Оганес, я всегда достоин большего, способен на него. У меня нету выбора. Если она опадает или просто стоит, значит, она не жизнь. Простое продлевание во времени – просто страх.
Сойти с ума – узнать нечто большее, но в то же время, достигнув предела, потерять все.Самка богомола, муза; Шура в 98-ом, "все вернется. Не верь слезам"; девушка в черном, в крытом, под Новый год; ночь, стихи в амбаре с мукой, Широбоков; руки, глаза, руки; "так больше не может продолжаться. Тучи сгустились". Все.
сент. 2007.
6. Из горла
Я должен писать предельно откровенно – или не писать вовсе. Жизнь отошла, встала. Смотрит издалека. Курит. Молчит. Я боюсь к ней подойти словно к красивой девушке. Я чувствую так, как питаются гиены, а после я в новых поисках пищи.Глаза горят, глаза, эти тонущие огни корабля. Еще недавно, когда я бежал в посадках, снимая финишные ленты паутины, я думал о ней, о Марине, как в последний раз. Молитвы слишком тяжелы, чтобы быть услышанными: они падают вниз, отпуская проклятия. Солнце, желтолицый китаец, оно не поймет меня, его слишком много… Скоро я растворюсь в нем, стану одной из раскаленных частиц.
Эмиль сидел и смотрел. Комната, маленькая, дачная, заваленная разным, окружала его. Вечер поднимался, становилось темно. Я переоделся: "Ну, счастливо", – вышел. Эмиль встал, прошелся, ответив на прощание. Машина ждала, рабочий день кончен.( Кончают собой, просто понимая, что больше не могут переносить смерть, больше не могут ее видеть). Андрей вез на "Хендай", говорил, что – свадьбы: свадьбы кругом, одни свадьбы. Улицы, Московская на Радищева, стояли оживленные. Девушки миновали друг друга, меня, остальных.
Еще давно, когда я был маленьким, скромным, недоступным перевоспитанию, шел снег, потому что была зима. Под новый год, в десять, а может и раньше, я, сестра, папа шли под него гулять. Фонари освещали улицу, гаражи. Папа был нездоров, но жив. Жив он и сейчас, живы и мы. Снег казался принятым, касался нас и себе подобных. От холода солнце пряталось в полушубок, даже не выглядывая, как днем.
Весна никогда не бывает последней. Хлеб, просто кусок хлеба в блокадном Ленинграде… Я не достоин жизни на небесах, я не достоин жизни в чьих-то глазах. Небо никогда не станет шире, так и будет величиной с копейку, так и будет валяться в грязи, в автобусе. Мир опередил бога на тысячи лет. Я жду только одного, стоя на одних коленях: только одного – рождения.
Только ущербное самодостаточно. Жизнь зачитана, зачитана как статья уголовного кодекса. Никогда этот Оганес (он писал тебе письма) не снискает пощады и жалости у другого, безжалостного Оганеса.
Утром я позвонил Алексею:
– Слушай, Лех, давай сегодня побегаем. А то завтра за паспортом ехать, а потом на вокзал что-то подобрать.
– Ладно, давай, – спросонок Леха был не против.
Побегав, мы заново подвесили "грушу", упавшую накануне. Груша состояла из трех мешков, набитых опилками и землей. Возвращались шагом, без настроения, лежали на земле, глядя в небо, шли дальше. Во вторых посадках как всегда стояла машина. Проходя мимо, я заметил голое мужское тело, лежавшее на женском. Тело большое, дряблое. Я шел дальше, но отвращение росло, как безработица в девяностые роды. Мне хотелось блевать и казаться. Но я был – и ничуть не лучше. Всё-таки тело – это наказание, сильнее смертной казни. Тело не заслуживает пощады. Думаю, время поймет меня. Луна, подплавленная сбоку, стала на следующую ночь полной, как Китай.
Вся мука оттого, что нет посредников между мной и небом, что нет остановок, а прямое следование – до конца. Трагедия человека в том, что он, будучи им, вынужден жить не в человеческих условиях. Он может уподобить их лик, но в душе они будут прежними.Человек – это вопреки; снаружи. Человек никогда не поверит в бога, иначе ему пришлось бы умереть. Я не читал Лермонтова, я переписывал в себя. Зимой я написал, что "пишу, как гусеница – кокон". Это так, я люблю такие сравнения. Гусеница похожа на поезд. Жизнь в старости противна, она – переедание. Известно, чтобы не расчувствовать вкус, нужно прерваться. Смерть поэтична: неслучайно цветы к ней в рифму. Эпиграф к солнцу (любви). Смерть вышла из берегов. Открытый, как рана, открытые, как рана, строки. Рана чувствует, раз болит. Земля кружится от происходящего. Листья отрываются, летят. Время пачкает все сильней. Я родился, словно сорвался в пропасть. Горы удаляют землю. Осень спокойна, честна, весна безутешна. Лето – преддверие осени. Тоска опыленна.
Ад и рай необходимы на земле как крайние степени жизни. Ад – фашизм, терроризм, рай – патриотизм, семья, государство. Это обдуманные единицы, но так надо. Терроризм – это любовь, фашизм – искупление. Террорист – женщина. Убийства, совершенные ими, жестоки, но такова правда: она вырывает из повседневного сна, возвращая истоки. Убивать значит верить. Жизнь не дается так: только убив, ты получаешь ее. Хлеб – пища рабов: только раб мог до него додуматься. Человек родился от соития бога со зверем. Это уникальный случай, когда есть выбор, в кого идти. Человек не хотел свободы – и стал им. Маяковский умер в апреле, так и не дожив, как предсказал, до мая. День зажат в ладонях ночи, она первична, потому глубокие люди мрачны. Раздетая женщина рождается заново. Зима, белая словно сигареты без фильтра; я делаю затяжку, кашляю. Снег падает, как рубль в девяносто восьмом. Идет побелка. В уме – я снова мальчик, прыгающий в сугроб (я иду, спотыкаясь, падая); никого из тех пацанов нет, а я настоящий бабник по прошлому. Молитва значит оргазм. Война, война живой материи с неживой, она меняет формы, цвет, но остается: она сильна на дорогах. С точки зрения желудка, я не живу, а репетирую смерть.
Для тех, кто платит больше, земля крутится быстрей. "Боги любят тех, кто умирает молодым", -написал Акутагава, что неверно с точки зрения физических лет. Муха способна видеть более двадцати четырех кадров в секунду. Есть люди с сознанием времени подобного опыта. Мир открывается другим.
На работе я складывал камни под заливку, Шариф, таджик лет пятидесяти, ставил уровень.
– Э, друг, скажи Марлену, чтобы оставался, друг? У тебя баба есть, а?
– Шариф, когда Уктам был здесь, он платил – ему привозили.
– Нэ, зачем, друг? Дорого, много платить.
– Ну а так, с местной замутить? Хатаздесь есть.
– Нэ, джора, опасно, язык не знаю, вдруг муж есть, а? Скажи Марлену, чтоб остался, да?
Каждую строчку Сиорана я читал как только что написанную собственную автобиографию. В Ленинакане (вторые города часто помечали Лениным), на пятом этаже, четырех лет, пока двоюродный брат корчился на кровати от болей в животе, я смотрел в телевизор: парень лет восемнадцати угрожал двум таким же пистолетом. Они украли его голубей, съели."Ну что, вкусно? " Пацаны суетились, бегали. – Мы так давно ничего не ели, – запросил вдруг один, помладше. ("Я не могу больше жить!" – хочется кричать вместо обдуманных строк). Города Ленинакан нет. Говорят, после землетрясения можно было видеть множество висящих тел. Люди, пять минут назад говорившие, жившие, висели, зажатые плитами, опущенные до состояния только тел – мертвых тел. Будто сама природа задумала их казнить за преступление: быть человеком. Силы покинули меня, но без них я почувствовал себя более сильным, более богобоязненным, чем прежде. Хотя нет, такая фраза не годится. Свет, он опускается волнами, поглощающими тебя одна за одной, окунающими тебя на дно мироздания. Так оно и есть: ты опускаешься в подвал, залитый водой. Одной из крыс стала ты, жизнь. Свет отпугнул тебя своей бесцеремонностью, своей… нет, своим бесстыдством. Свет лишает лица и лишает значения. Он необходим, как и смерть, только с ним у человека будет два крыла, то есть пара к тени. Трагедия бывает там, где человек приближается к богу. Поэтому ее нет в случае, когда гибнет детеныш, дитя. Человек, отвлеченный от бога, может умереть, "исчезнуть", но не погибнуть. Солнцу не нужны все, человек изобретает, изображает свет, идет за вожаком, за Сталиным. – Кушай, бабай, – говорит Шариф, доставая кусок мяса из своей тарелки и подкладывая "главному". – Тебе нужен много мяс. – Так выглядит человек, преданный солнцу, преданный им. Но человек нужен тьме. Женщина ждет своего героя, пока остальные спят вповалку. Ей не нужны рабы и наемники. Женщина говорит: умри – или будь моим. И кто хочет жить, выбирает первое. И кто хочет независимость – остальное.
сент. 2007.
7. Тысячи лет без любви
Душно. Двери заперты. Комната пуста. При ближайшем рассмотрении, когда глаза привыкают к темному свету, в ней различимы: стол, кровать, шкаф, телевизор. На кровати лежит мужчина, небритый, в очках. Ему двадцать четыре, на вид – больше. В левой руке – телефон, на нем он набирает, что-то. На столе – телепрограмма, "нафтизин", дальше – цепь, книги, тетрадь. Правый глаз щиплет, слезоточит. Кавказец бросает телефон, поворачивается к стене, молчит. Нельзя все время смотреть на потолок и не стать квадратным. На полке – Чехов, Вейнингер, Шопенгауэр… Отдельным столбиком Мень. Вторые экземпляры в груди, взамен разлитого сердца, когда все подумали, что вино и пьяный. Оганес приподнял ноги, образовав гору под одеялом, и продолжил. В комнате недавно был ремонт, багетка еще не висит, занавесок нет. Горло першит. Надо вставать, выпить чай, а там и видно будет. Солнце открывает дверь и проходит неспешно.Человек хочет жить понапрасну. Он хочет жить, а не вбивать себя в землю, чтобы устоять в веках. "Но это не есть понапрасну", – возразит сын. Сын объявит тебя банкротом, как и в случае с богомолом. Ты просто строительный матерьял, идущий в кладку, а не сам зодчий. Это применимо, пока ты в себе на "ты" с животным.
Утро настало, но я болен. Я никуда не пойду, а на взгляд будущего мне и нельзя пойти: я прибит к этим строчкам. Смерть – когда поэт, к слову, ныряет в стихи – в море, – исчезает в них… Так вот, я лежу на кровати и смотрю медленно-медленно… Передо мной проплывают пыль, секунды, прозрения. Я вытягиваю ладонь, кладу на них, согреваю движением. Есть ощущение, что с каждым годом я избавляюсь от одной одежды, от другой; просто стою на дороге обнаженный, голый; хлебом не корми, дай только раздеться… Бог – последнее слово отчаяния человеческого, написал я когда-то. Но я не человек, во мне нет ничего оттуда. Вернее, есть, но убито. Я вынужден шевелить трупом, чтобы казаться живым. Завтра у меня занятие, потом работа, через неделю то же, возможно, что-то еще, а потом я умру. Это общая истина, но для каждого она особа.
– Разве я ее не любил? Разве я не знал, что если не сойдусь сразу, то потом уже никогда?
– Что толку знать, если ты не можешь поступить иначе? Твоя любовь напоминала стихийное бедствие. В панике ты бежал сломя голову, пока не разбил ее о "пожарку".
Любовь, похотливая вдова, оставила меня, когда я почти уже полюбил ее. Не писать так – все равно что идти в туалет, комплексуя, что вслед за стенкой гости. Встать перед зеркалом, посмотреть на себя, не отшатнуться, сказать: это я – сложнее и легче всего.
Ночью мне позвонили, представились журналом израильского госуниверситета, соглашались публиковать при контракте на четырнадцать лет. Проснувшись, я почувствовал приятность сновидения и нужность признания общества. Я вру, говоря "нет", не значимо.
Бог – продолжение пластинок, которые заело, бог –продолжение начатых книг.Бог отказался от мира, как некрасивая женщина от зеркала.
Человек представляет собой вавилонскую башню.Миф о вавилонской башне есть история жизни каждого человека, посмевшего быть им.
Человек смотрит на мир через стекло, которое через ближайшее рассмотрение оказывается опять зеркалом.
Я встал, позавтракал, выглянул в окно, но не увидев, что меня могло бы заинтересовать, снова улегся. На балконе кипит вино, в комнате жужжит муха, я лежу на кровати, а одна нога – на другой. Вспоминать о Науменко, о таких – все равно, что теребить свои "старые раны". Он погиб, хотя гораздо проще себе представить, как он "возвращается – светает, шесть утра – домой", то есть в то самое завтра, в котором его нет уже шестнадцать, далеко не юных, лет.Колесо упростило движение. Движение стало главным. Мир максимально приблизилсяк состоянию дороги. Колесо, как неустойчивость мира, все возрастающая относительность. Да нет, я не это хотел написать, строчки так себе, не как сухожилия.
К половине пятого я встал, снова позавтракал, прошел по квартире, лег. Нет, аппетита положительно нет. Жить расхотелось, давно. Недели две назад, когда шел на работу, по трассе, а из-за спины вылетали машины, я понимал: не собьют. Ведь у человека есть еще глаза, на спине, видящие хорошо, редко. Все дело в них и только.
сент. 2007.
8. Разрыв
Фев. 2002
Не люблю этих надписей. Почти всеми и почти всегда они пишутся "себя
ради"– чтобы помнили. Пусть эта станет поводом сказать:
" Оганес, ты – замечательный человек.
Спасибо тебе за это и просто за то, что ты есть.
P.S. Раз уж сложились какие-то отношения – добавлю. "Спасибо"– для меня
очень важно, многого важнее. Поэтому даже прошу:"Неважно, рядом или нет,
пожалуйста –"будь"".
Сен. 07
– О, какие люди, дядь Сань, здорово! Ну, как дела, отдохнул? – так
встретил Мурашова Андрюшок: штукатур, видевший бога.
– Да какое там!.. А знаешь, с кем я домик снимал? С чеченом. Он мне прямо
говорил: как я могу любить русских? Они три раза мой дом бомбили. Вертолет
летит, бросает бомбы во все дома. Мы с сыном выскочили, легли, а брат
гордый был, не стал. Его пополам и разрезало. Солдаты без разбору
подбегали, в окна снаряды кидали… И знаешь, я с ним согласен. Ночью он
пришел пьяным, в белом костюме, так, как и был, в сортире отрубился.
Прибежали охранники, его взяли. Но я им говорю: оставьте его ребята, он
чеченец, сами понимаете, все дела… Ну они мне: ты че, он унитаз разбил,
как мы его оставим. Ты за него отвечать будешь? Я им говорю: буду. Они
его вытащили, уложили и ушли. Когда я уезжал, ко мне на вокзале подходит
нерусский, говорит, пойдем выпьем, ты моего друга выручил. Так быстро у
них доходит. А в другой раз при мне к чечену подходит русский: да вас убить
мало, сколько вы наших уложили! А я не смолчал: а зачем вы туда сына
посылали, за деньги, а? Наймитов своих?
– Да все правильно, они пятьдесят тысяч русских убили. А все Хрущев,
сука, виноват, дал им наши земли, нефть, вот они и оборзели. Жили они в
своих горах и жили, – перебил Андрюшок.
Жил Андрюшок на дачах, где и работал, в совершенно необузданных условиях: в
комнатках, заваленных, хламом, поношенной одеждой, инструментами.
В прошлом году в это же время он разговорился со мной. Узнав, что я изучал
латинский, посетовал на незнание языка:
– А то ангел-хранитель разговаривает в последнее время на нем…
Сен. 06
Мы с ним дергали траву. – Я все хочу написать книгу, – говорил он, – там я все напишу. Я вообще
ведист. Я ее уже лет пятнадцать вынашиваю. Сначала я издам селивановские
байки, матерные частушки, чтобы сделать имя и чтобы меня всерьез не
воспринимали, как и Жириновского, а после выпущу основную книгу. Сейчас я
коплю, нужно двадцать «кусков».
Подергав траву, Андрей развернулся, по-особенному посмотрел и продолжил:
– Все, кто поначалу меня слушают, за дурака считают. Потом, когда
начинает сбываться, затихают. Сейчас уже человек сто мою книгу купят. Ты в
астрал не пробовал выходить? Существует много практик. Я по ночам выхожу:
…и бога видел, светящийся шар, и дьявола, в услужении. Сейчас главный
бес – Жириновский, он к власти придет. Я с ним по ночам борюсь, не то
пропала Россия. …Ты можешь насчет смерти не думать: ее нет. Я был там: все
будет: и страшный суд, и чистилище…
Сен. О7
– Слушай, я вот что думаю, – начал Марлен, выдыхая "Петра". – Ведь любая
баба за деньги даст. Если есть бабки, подкатишь к любой – даст, по любому.
Им же по х… на тебя.
– Ну а жена тебе за деньги дает?
– Аганес, да причем здесь жена? Это же совсем разные вещи. Она с
подругами сидела, на Рахова, я и мой друг, кстати, твоей нации, подошли,
поговорили. Так познакомились. Я же тебе совсем про другое говорю. Жена –
это моя собственность.
– А она что думает?
–То же. Я тоже ее собственность. Так получается.
Март 04
Я ей не звонил больше года, но все-таки не удержался вечером; предложил
навестить Леху, отчисленного чуть ранее. Марина с радостью согласилась.
– Ну мы поговорим завтра об этом, – закончила она, выдержав паузу.
– Да, договорились.
…Она поднималась по лестнице, держа шапку в руке. На ней были юбка, колготки. Я спустился
навстречу, она проходила мимо, не замечая. Я одернул ее за руку, Марина встала.
Я встал повыше, достал конфеты, купленные на оптовке, "на двоих", протянул:
– У тебя был день рождения…
Всплеснула руками, обрадовалась, воскликнула:
– Это мне?
Схватила, спрятала в сумочку. И встала, пытливо глядя, ожидая продолжения.
– Когда ты будешь свободна?
– Давай завтра, после спецсеминара, в час.
Постояв немного, она пошла, но спросила:
– Что Леше-то подарить?
– Да ничего. Хочешь, подари свою шапочку.
Я прождал ее с час. С нами собирались пойти Лёха Л., Лариса, Роман. Марина
вышла из деканата, выдохнула, обрадовалась. Мы спустились на крыльцо, там
никого не было. Лапченко отправился заранее, прихватив водку. А Лариса с
Ромой исчезли. Мы пошли вдвоем, на мои вопросы Марина отвечала резко (она все
доставала телефон, читала), а потом предложила замолчать.
Внезапная перемена шла ей, но напрягала общение. Но у дверей меня
прорвало, я потребовал объяснения, "чтобы не чувствовать себя дураком",
что "я ее до сих пор люблю". Марина пригрозила уходом, если буду кричать.
На этом мы порешили, и я позвонил в дверь.
Окт. 07
Я не мог позволить себя женщинам. Я слишком хотел еще, не быв до конца
Мартиросян. Женщины хотели все. Но я не мог уделить части, не мог отдать
часть. Я отдавал целиком, т. е. "не делал ничего";проезжал свою
остановку, прижимаясь к заду девахи и т. д.
Март 04
Бутылку на двоих они уже уделали. Лапченко драл гитару, заливал кровью. Пришли
Лариса, Роман, принесли закуску, вино. Появилась водка. Вечером сели на трамвай,
поехали.
… – Оганес, пойдем, – позвала Лариса. Она вышла из трамвая, унося
выпивку. Я выскочил вслед, догнал, остальные уехали. Шел март, начало, вдвоем
мы сели в другой трамвай.
– Как же тебе не терпится, – прикасаясь ко мне. Дошли до Липок, безумно
целовались в аллее, стоя на одной земле.
– Оганес, я люблю тебя! – выдохнула она, отстав.
…Ее ломало, било в истерике. Мы сидели на лавочке. Она требовала любви
сейчас, чтобы заняться ею. Я отложил до набережной.
Сняв с нее куртку, обнажил грудь, целовал соски.
– Я люблю тебя, – повторяла она, прижимала к себе. – Какой же ты дурачок,
– дрожало слово.
Под конец я произнес неземную, выскобленную от чувств, речь. Т. е. меня
нет, я отсутствие, нужно другого. Она не слушала, не могла подняться,
билась в истерике. Оставив ее там, я ушел.
В то же время пьяный Лапченко, вконец обезумев, искал ее по всему городу,
в самых недоступных местах, невзирая на спутников, которые, проводив Марину,
остались вдвоем. "Я убью ее", – повторял он, покидая препятствия, кусты, мрак.
Сент. 07
…Рабочий день подходил к концу. Отвлекшись, я посмотрел на часы. Близилось шесть.
Встав с доски, я пошел переодеваться.
Окт. 07
Вот так, сидя на полу, набирая строчки, другой же рукой обнимая пальцы
ноги, я вспомнил рисунок, достал с полки. Лист изображал остров. Губы
вбирали мир. Потоки времени бороздили плоть. Рука ложилась на пах, взамен
сокрытого став шестипалой.
Перевернув страницу прочитал:
Это ты.
Подсолнух с работы Ван Гога.
Идея хилая, но далась тяжело…
Такая вот странно-забавная проблема выбора [ между этим и еще одним -
"твоим подсолнушком"]. Конечно, отдавая дань твоей молодости и
многоплановости, стоило нарисовать тебя с целым букетом [эдакая
щедро-радужная вариативность, лишенная всякого деструктивизма], однако
....
Писать поздравление?
Я встал, заправил постель (после написания этого). Их поглотила Москва.
Нас больше нет.
P. S.
«И я был богом и боксером, а не поэтом… » – написал Рыжий. Он ушел, когда я стал студентом. Неостывшая классика. Он уступил место стихам, как старшим.
сент. 2007.
9. Петербург. Маяковский.
Дом Советов, выстроенный в тридцать первом, мрачно высился над головой. Тяжелые, пасмурные стояли сталинские дома. Артур ходил возле, на проспекте.
– Знаете, – обратился он внезапно к проходящей мимо женщине, – вы не в моем вкусе.
Женщина немного удивилась, но быстро вошла в роль:
– Ничего страшного, найдете другую.
– Нет, мне нужна вы. Я только что подумал о ночи в этом здании. Когда вы одни в нем,зная его историю, что здесь проходили люди, свидания и
– Молодой человек, вы интересно говорите, но, к сожалению, я тороплюсь. Может, вы хотите свидания?
– Обычно женщины так не говорят. Но подождите, Петербург, он петровский, достоевский, для меня – пушкинский: тот знал, во что вкладывать. Но Ленинград – сталинский, только.
– Может быть, но мне все-таки пора.
Женщина, лет тридцати пяти, прошла мимо.У фонтанов тусовались неформалы, прошли фанаты с пивом, крича на улицу "Россия для русских ". Артур замолчал, задумался. Он спустился в метро, поехал. Выйдя на Приморской, пошел.
Дул холодный береговой ветер. Поднявшись к себе на шестой, в гостиницу, он разделся, лег. Часы показывали девять. Ночь в Доме Советов резала сознание. Стучал дождь и кричали чайки, слетаясь к мусорке.
Маяковский предатель. Но он сам заплатил за предательство. Предал он в основном себя. В поэме "Про это", по смыслу – его лучшем послереволюционном произведении, Маяковский жестоко понимает это, но ничего не делает для "спасения". Он говорит об измене принципу общечеловеческого счастья. О попытке создания своего при отсутствии общего: Что толку, тебе одному удалось бы… Маяковский видит себя со стороны, мешанина, идущего с авоськами. Но не это главное. В конце поэмы он порывает с этим, возвращается к глобальным ценностям, без которых личное невозможно. И здесь, где, казалось бы, он обретает себя, он и предает его, себя то есть. Маяковский индивидуалист до мозга костей. Он ненавидит толпу, ее ценности, но боится в этом признаться. Он все ссылается на сказочные времена, где все станет по-другому.Он предает свою "гибнущую" музу в угоду пустому громыханию, пишет абсолютно бездарные вещи, всю эту поэтохронику, Мистерию-буфф, 150 000 000 и пр. шелуху. Когда он любил народ? Он бы жутко его ненавидел, окажись лицом к лицу, причем взаимно. Маяковский зарабатывал себе имя, деньги, вживаясь в чуждую себе роль. Он боялся оказаться без славы, без денег, потому и шел на позорный компромисс. Перед смертью он пишет монументальное по форме, по исполнению, но столь же актерское по содержанию произведение. Во весь голос чудовищно звучит, но пропитан чужим пафосом. Маяковский примазывается к людям, не имеющим к нему никакого отношения (а история это показала). Он забывает себя, истинного, что и пытался сделать Блок, во имя вымышленного общего счастья. Он всегда был собственником, эгоистом, хотел, как капризный ребенок, всего и вся, и покончил собой, когда увидел, что история движется не по его замыслу. Он остался в стороне, а народ пошел туда, где замаячил – хлеб. Потом его искусственно привили народу, но только для того, чтобы люди никогда не болели подобным.
Вообще жизнь похожа на обвал цен на недвижимость, – подумал Артур, жуя бутерброд, – на обвал цен на недвижимость… Идя по Кораблестроителей, Артур впервые обратил пристальное внимание на рекламы. – С чем бы их сравнить? Может, с комплиментами некрасивой девушке… – Артур уважал сравнения, они значили средство для познания. Сравнение как зеркало, в котором можно увидеть со стороны. Снова моросили дождь и китайцы. "Вот бы обрадовался Достоевский. Желтый цвет его преступления". Зайдя в метро, снял с банкомата деньги, поехал. Лица людей стояли гипсовыми, значит, в каждом из них перелом. «Мое сознание неостановимо, как поезд без машиниста. Я болен сравнением. На
словах я сравниваю с меньшим, но в себе только с моим. Не могу жить из-за этого». Он шел без зонта, сырой, неестественный. Дома рушились перед ним, закрывая дорогу. Артур карабкался по обломкам. Он слышал крики гибнущих людей, но шел мимо.
Мы выбрали мир, то есть медленную смерть, чтобы корчиться в завалах. Невский стоит, он простыл и заложен. Артур идет дальше. Я не могу писать прозу, сочинять героев и подобное. Кому не надоело жить украдкой, будто воровать в супермаркете? Или у нас появятся деньги или мы украдем открыто. Но это не будет. Люди хотят одного: забыться. Каждый стремится к покою и уюту. Так растут стены, и мир становится жестким, несъедобным. Он становится мягким, но для тех, кто внутри, на остальных смотрит твердая
позавчерашняя корка.
Нет, прогулка явно не удалась. Артур вернулся, поставил чайник, сел. За окном – серый дым, бревна домов. Подойдя к столу, он достал тетрадь. Исписанная мелким почерком, она светала под заглавием "Виктор Цой, или телеологическое доказательство бытия бога". Статья не была написана. Просидев час над ней и не написав ни строчки, Артур задремал прямо за столом. Чайник докипел на плите.
окт. 2007.
10. Вопреки
Крысы бегут первыми с корабля. Поэты сбежали первыми, так как жили в трюме "Титаника". Их нет: Цоя, Башлачева, Науменко, Янки. Остальных затопило потом. Мир превратился в раздробленные шлюпки.
Ветер, туман, дождь, снова ветер. – Далеко ли до берега? – Не видать. – И снова ветер. Дикие недоступные берега; острова, окруженные ими. Непонятно, есть ли там люди. Надо плыть дальше.
Не взгляд, а тропическое солнце. Эти девушки обжигали взглядом, падкие на красивые вещи, а такой был я. Теперь того нет. Но таким меня узнает мир, таким я останусь.
Брат идет по улице. Петербург дышит временем. Памятники молчат. – Не брат я тебе, гнида черножопая… – говорит брат. Город девяностых, время, серое, осень, грязь. Музыка, Наутилус. Толпа, питерская, сонная. – Может, че надо? Ну я пошла. – Я смотрю на часы, как на зеркало. Памятники, застывшие крушения. Время вымысла бесконечно ушло. Искусство ждет гитлеровских жертв. Взлетают строки, эти весла рабовладельческой галеры.
Узкий проход в автобусе словно промежуток лыжни, по которому трудно пройти. Бог похож на первое свидание в сорок лет. Самоубийство входит в ткань искусства как безупречно свежее. Кому-то небеса открываются и с последней страницы. Мы едем по трассе. Ночь. На пути авария, кто-то лежит. Мы проезжаем мимо.
…Женщина шла, но теперь из нее вытекла кровь, и тело прекратило движение.
Сейчас я в доме, приехал. Минут через десять поужинаю. Женщина, которая бежала по улице, встает, отряхивается, идет дальше. Она не верит происходящему, она – жива. (Человек живет абсолютно). То же могло, должно быть с каждым из нас. Тело, тело человека на серой земле, бедное, теперь совсем никому не нужное. – Апей джан, – выплывает из памяти.
Утром в автобусе хочется прижаться к женщине; чтобы она сидела рядом, лет тридцати, с теплыми бедрами, не худыми.
243-ий, рай набитый грешниками в день открытых дверей. Старик врывается клином, старухи ворчат, до меня доносится слова "командовать будешь дома" старика, еще разговоры.
– А вы болтаете еще хуже баб.
– Это вы правильно заметили, хуже баб уже ничего не бывает.
Разговор утих, а на глазах остался молодой человек с вульгарными ягодицами, походкой. Он вышел впереди меня и пошел. Бедра двигались по себе.
Марик уставал. Работа без выходных, утром – уборка мусора, вечером, когда устал, – тоже. – Не, пацаны, я сейчас прихожу, пью чай – бум! – и на боковую. – Жена, теща и ребенок, к тому же не свой.
Мир озлобился, не выдержав сравнения. Он ведет себя именно так: некрасивая девушка рядом с очень, а таких полно на улице. Глупый текст.
…Валентина не похоронило в земле. В узкой, под фундамент, траншее земля съехала, когда заработал кран. Сырая, тяжелая полоса рухнула, облизав сапог, вздохнула и улеглась. Мужики повидали все; Валентин отошел, молчал. Смерть – это китайская кухня. Можно добавить, жизнь тоже китайская, просто. Но это скучно: ее итак осуждают с рождения.
Человек балансирует между невозможностью мира, своего участия в нем, и между падением. Он идет по узкой горной дорожке. С одной стороны, скалы, грозящие обвалом, с другой – пропасть. Сзади – люди, впереди – завал.
Есть хочется всегда. Голод. Маруся шевелит тонкими ножками. Она голодна, но есть нечего. Когда мама была жива, она кормила семью: ее и ее маленького братика. Мама умерла, а отец пил, приводил пьяных женщин, тратил на них, исчезал вовсе. Просить на улице не могла, иногда помогали соседи. Приносили хлеб, масло, иногда молоко для брата, который часто болел и просил маму. Маруся прижимала его к себе и так сидела, долго-долго.
– Мама уехала, она скоро приедет. А вчера звонила, ты уже спал: вот закончит дела – и сразу приедет.
Комната наполнялась сумерками, дождь стучал по подоконнику, будто спрашивал "можно войти", порождая осень.
Я знал, что она не придет, но назначил свидание. Дело было не в этом. На набережной было безлюдно, дул апрель. У ног валялась чья-то симка. Ничего не поделаешь, я нагнулся, поднял ее. Вынув симку из своего, я вставил новую, прочитал: " 06.04.07 20.09. МНЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО ПОМЕНЯЛАСЬ НА РАБОТЕ ХОТЕЛА ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ВСЕ РЕВУ 06.04.07 21.51 ЛЮБИМЫЙ У МЕНЯ ГЛАЗА ОТТЕКЛИ УЖЕ ОТ СЛЕЗ ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ ГОСПОДИ 06.04.07 23.33 ЛЮБИМЫЙ ЕСЛИ ТЕБЯ НЕ ДАЙ БОГ ПОСАДЯТ Я НЕ ПЕРЕЖИВУ Я БЕЗУМНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 07.04.07 00.53 ЧТО ТЫ ТЕПЕРЬ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ Я СОЙДУ С УМА ГДЕ ТЫ Я ПЕРЕЖИВАЮ 07.04.07 01.18 Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ,СЛЫШИШЬ НЕ ХОЧУ,НЕ ХОЧУ ЖИТЬ,НЕ ХОЧУ,Я ВЕСЬ ДЕНЬ РЕВУ,РЕВУ,НА РАБОТЕ ПОМЕНЯЛАСЬ,МНЕ ТАМ СТАЛО ПЛОХО,ЛЮБЛЮ ТЕБЯ".
Простояв час, я пошел. Мелкие пары, брызги. Я зашел в автобус, сел. Мрачным взглядом окинул сидящих. Автобус медленно пополз, наполняясь людьми.
Голова прижата к стеклу. Холодно. Темно.
окт. 2007
11. Перстень
1
Так глядишь на мир через жабры век… – сказал Рыжий. Проходит без внимания. Но вдруг… Так спотыкаются о порог. Действительно, если отнять жабры, рыба задохнется. А если веки – человек. Веки опосредуют мир. Без них человек умирает. "Ни к чему разговоры о вечности, а точнее о том, чего нет". Рыжий констатировал гибель метафизики в словах.
Пушкин на ринге может все, он быстр, легок, молниеносен, но у него нет одного – нокаутирующего удара. У Лермонтова он есть. Тайсон был после Али, начав позже, он и кончил ране…
Блок, написавший "иль просто в час тоски беззвездной, в каких-то четырех стенах, с необходимостью железной усну на белых простынях?", – действительно умер. Умер безлиственно, молчаливо (пусть и кричал). После таких строк нельзя умирать! Так рухнула моя детская философия.
Губанов умер 24 года назад, столько мне лет, Боратынскому тоже, он пишет: не подчинишь одним законам ты и света шум и тишину кладбища! – Не подчинишь, но они в тебе, оба. Евгений ставит их – один за другим, по времени. Они во мне, они идут ровно.
«Не нравился мне век, и люди в нем не нравились, – и я зарылся в книги». В книги, и с десятого класса. Я ждал от них все. Теперь не читаю вовсе.
– Ты придешь – не придешь, все одно – обман. – Так и живу.
Воздействие Губанова сравнимо разве что с открытием импрессионистов Ван Гогом. «И дождь идет, как слезы искупления…» Прошел год со дня твоего открытия, со дня гибели Саши.
«Однако знобко… Сердца боли как будто стихли… Водки, что ли?» И все, больше – ни слова. Дальше.
– Я – трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу, – читал я Ларисе вечером, возле эконома. Лариса шла, слушала, изредка касаясь то рукой, то грудью. Нет, вру, читал на набережной, там еще шли пацаны с ротвейлером; возле эконома – другое.
И все же: вслух читал только раз, на набережной, без нее. Я был пьян, словно динамик, я передавал всем телом. Хлопали отовсюду. Шел "пророк", звучал Лермонтов.
Пушкин, Лермонтов… а тут – Маяковский. Долго ходил, примеривался. Шестнадцать лет, плакал два раза. Первый раз – дико, сильно: редкий зверь прорывался наружу. Второй раз скромнее, ночью: виной – Маяковский.
На семинаре студент спросил: "Вы "как закалялась сталь" читали? Ну как, не пустили слезку? " Говорит, тоже на руках ходит. Из Питерки.
Прекрасное горит, сжигая,
горит, живому жизнь заря,
твоя вселенная живая.
Пока ты жив – сжигай, горя, -
Леха читал, захлебывался, дрожал. Он исполнял гимн нашей страны и примерялмедали.
Я шел в погреб, давно, не помню. А со мной – строчки. Это надо – одна строка, охватившая Россию. Мелколесье. Степь и дали. – Вот и понимай. – Есенин.
Говорить о Маари – разложить себя на прилавке. Думаю, что не стоит.
Для меня Григорьев – прототип Науменко. Они не перестают тонуть после смерти, или жизни, вернее сказать. В "каждую клетку нервов" они прописали выпивку и страдание.
Прижимается муза ко мне: я тоже умру. Муза и смерть слились. Рыжий прав.
Заканчиваю им – кем и начал. Если есть предложения, пишите.
2
Ницше подорвал мое доверие. Мрачное, уходящее вглубь подземелье, обнажающее корни растущей жизни. Я вбирал его в библиотеке, на Сенном, и возвращался потрясенным, ставя ногу уже по-другому. Земля плыла, уходила от ног, но потом возвращалась, униженная и злая. Он приручил себя движению. Ницше нокаутер в стиле Тайсона: разделенные столетием, они потрясали эпоху. Потом резко сорвались в пропасть.
Паскаль обручил меня с мишенью. Чувство судьбы, рока началось с него. Бесконечная вселенная, солнце – человека, севшего на бетонный блок, ждущего работы на мельнице. Прозрачность голубого дня, присматриваемая солнцем, и это ощущение на "вы", несравненность вселенной.
Земля, черная, в трещинах, движущаяся под ногами, сносимая ветром… Небо ужасно, я опустил голову, стал читать дальше. Говорят, Лукреций покончил собой, впав в любовное недержание.
Карта Сенеки предо мной. Он показал как жить. Почти все, сказанное им, недоступно действию, но зовет. Не знаю, иду ли я…
Сенека и действительность, палата номер шесть.
Экклезиаст, дом, заселяемый мною.
Сиоран не написал ни строчки живущим. Каждой строкой репетировал смерть. Он растянул наслаждение смертью на всю жизнь. Он не умирал потому, что хотел умереть. Человек не ел и не пил, чтобы насладиться по полной.
– Поднимите руку кто видел пьяным Ван Гога.
Он не мог писать, застрелился. Значит, был на волоске, был лишен всего, кроме этого, то есть он и так уже не жил. Дух отлетел, прекратилось страдание, а жизни не было. Денег нет, славы тоже: я живу, словно Мартин Иден у гибели.
"Еще немного времени, и ты исчезнешь" или "Подожди немного – отдохнешь и ты". Аврелий и поэт, поделенные временем, равны. Какая разная и в то же время одинаковая поэзия.
Шопенгауэр чужд. Писал одно, а жил по-другому. Хотя ничего. Год на меня влиял, точно. После "воли" читать о сострадании нелепо. Ницше необходим.
– Кьеркегор один из первых указал на недостаточность понимания тех или иных истин, он указал на слабость человека, на необходимость силы следования им.
– Ваши ответы мне все больше и больше нравятся, – похвалил Мокин. Он сел, довольный послушанием и ответами. Вскоре он пойдет домой, где его ждут жена, сын. Ему за семьдесят, всю жизнь он следовал великим истинам – в лекциях, о переносе их в жизнь не могло быть и речи: одна буква не переносится.
Я люблю в Камю дневники. Исповедальные женщины, открытые, как на духу, показывающие все, что у них есть, – тело. "Бесстыжие", – говорят старухи, завидуя. "Бесстыжие", – говорю я, потому что тела надо стыдиться, но в то же время хочу их.
Общество аморально, раз не может найти ничего святого, кроме детей и денег. Люди напоминают войска, прикрывающиеся пленными и раненными. -Стрелять в своих те не будут. – А деньги… Нет никакой разницы между деньгами и солнцем. Ими зачтены все. Люди отошли от животных, но не в лучшую сторону. Человек дольше, так как променял рождение, смерть на что-то другое. Мне не в чем жить. Любой поступок – бумеранг. Я не чувствую своей родиной ни Армению, ни Россию. Я не привязан к земле.
окт. 2007.
12. Wind of change
1. Любуясь собственной тоскою…
Раньше он был другим. Пил пиво, покупал шаурму. Медведь, говорили мы. Чувствовалось, что он качается. Котов, стоя у семерки, помню, сказал:
– Ну че, вот он качался, ну и искривил позвоночник.
Леха выглядел странным, немного диким, что на философском являлось скорее правилом, чем иным. Помню, напротив десятки, накатив, Леха впервые заговорил: никогда не встречал таких, вы другие и прочее. После, спустя недели, влет, читал стихи: Маари, Чаренц. Под навесом ларька, без шапки, в снег. Семья гордилась им: единственный, кто пошел на высшее. Во время занятий мы пили, а после них шли во дворик и там снова пили – по-настоящему. Он доставал сигарету, курил, выдыхал. Боги сходились в одном: пить. Пиво, портвейн, спирт. Он провожал меня, сажал на автобус (трамвай), уходил сам. Думаю, пил еще. На дорогу – речи:
– Сколько девчушек: обожали бы, хранили…
…Так вдохновенно им были прочитаны:
Любуясь собственной тоскою,
они не ведают покоя.
Удел и рок печальный их –
в себе убить себя самих.
Они бесславно канут в лету,
не признаны и не воспеты.
2. Памяти Сиорана
…Леха сдавал. С каждым месяцем ему становилось труднее учиться. Он все ожидал другого. Был похож на семью, ждущую ребенка: «покупал коляску», «мастерил кровать», пополнел. "Роды" не прошли, ожидание затянулось. А раз так, можно махнуть рукой. Он ушел, был отчислен. …Круглые обессмысленные глаза. Человека не было. Существо, лишенное смысла, назначения. Расплывчатое тело. Есть, спать, плакаться на судьбу. В спорте, литературе, живописи он потерпел фиаско. Он не чувствовал призвания, поэтому бросал все при первом же испытании. Все и сразу – формула для него, ее он пил вместо молока. Незаметно для себя, немного захмелев, из состояния яви, Леха выходил в состояние сна. Он смеялся на это, говоря, чист как ребенок, все дела. Штаны от брата, куртка тоже. Уйдя из ВУЗа, он захотел спецназ, но не прошел по здоровью: спина. Махнув на все, он, безусловно, опустился бы, стал бомжом. Но пока он не мог докатиться до крайности, хотя жизни не знал в другом. От этого были мама, дом.
Весной нас понесло на набережную, встреча "друзей". А на остановке понесло Леху, одного: мы остались одни, и он залепил, оборачиваясь к витринам:
– За что? Кто это, я не могу поверить! Герой комиксов, а не я. Дайте одну возможность, скажите, что это была шутка. Ну ошибся, ну с кем не бывает, простите меня…
Оторвавшись от преследующих дней, я внезапно повернулся к Лехе, словно я видел его второй раз (первый – шесть лет назад). И был обновлен: ничего подобного я не видел. Я никогда не видел его таким. Эта бесстыдная заплывшая масса, без свойств и качеств, шла за мной. Взгляд не выражал ничего: ни присутствие, ни отсутствие в мире. Просто тело, уходящее в ноль. Оно вызывало злобу, казалось причиной многих неудач, повторением прошлого. – И этого человека я ценил. – Такое отношение к нему не мешало приходить к нему, есть, пить у него, грешить. Я не понимаю, зачем я живу, но глядя на него, я вообще ничего не понимаю. Все-таки он добился своего. Главное, что он не мог принадлежать остальным; не сумев достичь позитивного величья, он примкнул к негативному. Что, в общем-то, даже удобно. Раз он ничтожен, он может жрать, спать и ничего не делать, обязательно говоря об этом, чтобы не сказали другие, порушив сарай непочатой обломовщины. Он не горячий и не холодный – теплый, не злой и не добрый, но при этом другой (Россия, воронка, вставленная в Москву, – пришло в голову), совершенно.
– Женщина тоже человек: ждать от нее большего бесполезно. Но я жив, так как не дописал себя. -
Алексей молчал, поставленный в угол, к стенке. Он написал "Памяти Сиорана", длинное разухабистое произведение, напоминающее русские дороги. Слова, эти отечественные машины, шли вразнобой, опережая и врезаясь друг в друга. То там, то здесь попадались трупы раздавленных муз.
Раньше Алексей был студентом, теперь его мечта – ВГИК.
3. Ляленя
– Не нравится мне твоя затея писать о Лялене, – начал Леха. Я сидел за столом и курил. Сначала ему польстило внимание, но потом: – Это за упокой. Подводит черту какую-то.
– Да ну, я вот в овечьей шкуре – сколько можно? – ухожу из аспирантуры. И что? Находясь на этом берегу, ты не почувствуешь в ногах другой.
– Да-а, если бы это было так.
Леха пил пиво, снова закуривал. Рваная майка, лысая голова. Здесь рождалось безумие.
– Лех, но ты не мог придумать Оксану, судя по смс. Может, она была?
– Нет, я все сочинил: саму, про нее – и сам в это поверил. У тебя тогда столько происходило, что я не мог ничего не придумать. Я впал в сочинение смысла, отнял от судьбы привет.
Одно из его посланий так и начиналось: "Раньше я никогда не встречал таких, как она. "Летящая" – вот точное слово; ее нельзя было остановить, она жила сегодняшним днем и завтра для нее значило никогда. Она дарила себя целиком тому, кто оказывался рядом; он был любым искренне и до самозабвения.. Для нее не существовало запретов и несмотря на это, во всем что мы вытворяли не было ни грамма пошлости. Она была похожа на сгорающую звезду, которую я не смог удержать в руках… Мне никогда не забыть ее бесстыжий взгляд, ее кричащую, вульгарную красоту, воздушное отношение к жизни и ту легкость, с которой она простилась со мной навсегда… (кстати, я нашел кроссовки)".
Утром Леха встал, сходил в туалет. Из кухни принес кофе, сел, закурил. Мы пили кофе, молчали. Вскоре я подумал: смерть – это крик Киркорова "я вас всех люблю", смерть – это показуха. Настоящая смерть невидима. Леха вздрагивал, отходя от сна. Ночь я провел на диване, а теперь надо было идти. Уходить – уже который год – словно Наполеон из России.
P.S.
– Морозов, – говорила Лариса, а она была, – тебе необходимо сравнение. – И сравнивала его со щенком, добавляя заодно и меня.
Мы часто сидели в библиотеке втроем. Говорили, страдали. Но были счастливы, точно.
окт. 2007.
13. Человек в тельняшке
ЖИЗНЬ
Был во дворе пацан, звали его Бандор, несокращенно – Бандорин. Крупный, здоровый, честный. Пацаны боялись, но стебались над ним нередко. Так его довели: …Он бросался на всех, бил мимо, крутил вертушки, молчал. Вскоре он сник. Оцепенение прошло, все смеялись. "Пятиминутка Бандорина"– так за ним и осталось.
ЖЕНЩИНА
Сердце мужчины – червивое яблоко.
СМЕРТЬ
Дорога, усеянная камнями. Шли по дороге двое. Один споткнулся о камень, отстал. Другой ушел в горы.
БОГ
Дыхание бога – облачко, несущееся над землей. Оно обнимает горы.
СМЕРТЬ
Витя:
– Когда были студентами, не могли представить кандидатскую, а теперь… такая же ерунда.
ЛЮБОВЬ
–Забери солнце с собою… -несется с динамиков. Мокрая, исчезающая толпа на остановке. Мне двадцать четыре. Это самая вершина. Бьют куранты. Люди спешат.
СЕКС
Древние люди, извлекающие огонь. Пещера наполнена дымом, но огня нет. Сыро.
БОГИ
Капли из глаз, крана, неба. Солнце из глаз, неба. Солнце из глаз неба. Нас не будет, поэтому нас нет.
Умирает всегда больше, чем рождается.
АВТОБУС
"Выходите на улицу, убивайте, что хотите делайте, только нас не трогайте. Мы – счастливы".
ГЛАЗА
"Хачи, вон из России Смерть скинам Россия для русских Гопы лохи Черные всюду".
МАРЛЕН
Глаза, не ведавшие греха, чище и прозрачней другого. – Марик, – говорит ему пацан по работе, – сядь, покури. Что ты все время работаешь? – Не оборачиваясь от пня: – Ты доживи сначала до моих лет, когда у тебя будут жена, дети, когда ты будешь видеть, как они испытывают голод, или, скажем так, нехватку, – вот посмотрим, что ты будешь говорить. – Марик женат на страшненькой, тридцати пяти лет, Эллочке с чужим – для него – ребенком. Живет у нее, душа в душу, работает без выходных, а еще – дворник.
МУХА
Больше двадцати четырех кадров в секунду: мы движемся, движемся, прибавляя скорость, нельзя приостановиться, выйти, отдышаться, забыть. Убийства на дорогах.
БАЙБУЗА
Позвонил сам. Сказал, вышла книга, в Москве. Нужно забрать. Он оставит ее в библиотеке, я же зайду. – Человек в тельняшке, но я один… Все, не унывай, обнимаю.
ЯНКА
Она и Цветаева – единственные женщины, написавшие громко, с достоинством. Не прошли мимо бога, слуха. Года два или три назад я познакомился с ними, до этого что-то слышал, читал. Новосибирск, Казань.
МУЗЫ
Маяковский дал две формулы поэзии: "война объявлена", "от отчаяния".
"ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ…"
Нет ничего унизительней молитв. Молить о пощаде, трястись, ползать. Зачем вообще мольбы? Человек мешает земное с небесным. Мы не просим любви, признания, мы их заслуживаем. Просят незаслуженное. Деревья сбрасывают одежду. Скоро зима, холод. Словно смерть они встречают без лишнего. Деревья стоят голые, падшие. Пахнет смерть. Тропинка, усеянная трупами листьев, птиц. ТЭЦ 5, дышащая трубой, в детстве объясняющей роскошь облаков. Гора Жарин бугор, или холм. Костер пацанов. Мы.
НОЧЬ
Люди, дома, боги, заселяемые людьми. Крестик на плацкарте груди. Горы как картины любви. Сон.
ВЕНА,1903
Изначально женщины – все. Мужчинами не рождаются, ими становятся."Во всяком случае, тот хаос, упорно борясь с которым, он поднял до блещущих светом высот, в конце концов его одолел", – М. Раппапорт.
ЭРА
Красный, налившийся глаз в полуутреннем небе. Но сегодня он спит, прикрываемый веком, новым надвинутым веком.
БЕТХОВЕН
Крики воды, грохот пуль. – И никогда – как прежде! – Смерть корабля, "мы не дети", смерть без огня, шлюпки, шторм. Вдруг –тишина. Ничего. Ясное солнце, теплые брызги, океан. Ветер молчит или легонько вьется, словно девичий смех. Взлетают весла и рыбы.
СЕЙЧАС
Века, века. Растоптанные, напрочь, имена. Никому не нужные тряпки. Обращенный к прошлому – бомж, побирающийся на свалке. Остальные смело проходят, предлагая смести, зажимая нос. Кто-то находит золото. Кто-то его найдет.
ЛЮМЬЕР
Цой напоминает рождение. Простые истины. Открытие. Незанесенность миром.
ВЗЛЕТ
Ницше вовсе не сошел с ума, как принято считать. Он стремился к познанию. Мы видим нарастание, взлет. Он стал воплощением знания. Свои открытия он описал на себе, отказав бумаге.
М.В.
Только изменяя чувствуешь поток нежности и страдания к преданному – навеки.
Я
Проза, кровавое мясо. Писать – продолжать начатую рану.
СТОЙ!
Что было – того и не было. Хоть "боль не прошла до сих пор". Майк?
Вечером, проходя по улице, я увидел ее, мне показалось – она. Московская, оживленная в субботу, – я, проходящий по ней, студент. Одежда, прическа, выдавая ее, казались при этом иначе. Поздоровавшись, через мгновение я увидел ее лицо. Не она, но другая девушка. Она знала меня, одна. Мы стояли на углу Вольской, говорили. Так, незаметно, в процессе разговора, мы не спеша пошли, удаляясь к набережной. Скоро наши силуэты исчезли, а там, где мы стояли, припарковалась машина. (СМЕРТЬ)
14. Гаррота
Онанизм воскрешает величие. В последний момент вспоминаешь все: храмы, женщин, правителей.Женщина не дает всего. Она окунает в мякоть, зеро. Отсчет начинается с единицы.
Проза не должна быть ровной. Словно в ступеньки, ты должен упираться в нее или подниматься выше. Выше! – приманка умалишенных…
Ветер, переписка природы, общение. Нежные любовные послания – грубая безудержная страсть. Капли дождя, валерьяны, первые, чтоб усыпить дрожь.
Снова, который раз, жизни, безадресные, идущие, равнодушные, злые. Но им хорошо – они есть.
Кажется, смерть не конец – недописанность. Лермонтов красив, богоподобен, вполне. Выстрел, достигающий цели: он был направлен вверх, хоть и другой – в грудь.
Вечер, мысли о себе, падающие в колодец; занавеси среди бетонок; ночь.
– Щедр как никогда, – говорит человек. Глаза его смотрят на меня. Трудно быть щедрым, как никогда. Человек лжет, но выходит красиво.
– Ты приколи, – поворачивается опять, а мы рыли траншею. – Муравьи определяют по запаху. Из-за него они извлекают мертвых. Но не дай бог, кому-то остаться с ним из живых. Сколько бы он ни пытался вернуться, его все равно извлекут – как мертвого…
Поговорив еще, мы перешли к работе. Дела те прошли, а слова остались. Слова, уложенные поперек, прочны: по ним тянет время рельсы.
Помню: разбитый дом, весна, холод. Студеный март. Дом двухэтажный, сонный. Жизнь в нем теплилась в виде бомжа, жившего на полу. Мы разрушали дом, получали деньги. Старые куртки, фекалии. Утром бомж просыпался, кряхтел, кашлял, а после уходил. "Я просто охуеваю, – говорил Марлен, – как он здесь живет?!" Раз он разбудил дедка, предложил работать. С полчаса проработав с ним, дед сбежал, чтобы выпить чай. Николай же, с кем я работал и друг, пошел со мной в магазин, вечером. Там он купил батон и вернулся.
– Дед, – прокричал он, ставя на подоконник покупку, – заберешь, для тебя здесь хлеб. – Бомж отвечал невнятно, доносил ответ. Утром, придя на объект, мы застали батон нетронутым. Теперь на дворе ночь и звуки дневного прошлого стихли. Слабые звезды отстали. Я слышу отчетливый звук. Отчет за проделанную работу. Я бы давно забылся, жил, если бы не эта мелочь. Моим богом стал стук, что встречал по утрам, что туманил работу. Я не понимал – откуда? – тогда. Но позже, заглянув в каморку, я увидел деда, трясущегося с бутылкой. В бутылке была вода, замерзавшая ночью. Старик колотил ее, приводя в чувство. Отложив лом, я представлял его другим… Молодость, обрывки газет, летающие с ветром, ими не воскресить костер, чтобы приворожить будущее. Но я иду дальше, где каждый мой шаг повторяет стук – стук, ждущий ответа.
Солнце, зимнее солнце, или человек в старости, сгорбилось, быстро клонясь к закату. Листья с почерневшими от горя лицами припали к земле. Я бегу по земле полосою пульса. Солнце садится, солнце, аккумулятор. Женщина поворачивается, смотрит на мужчину, мужчина отворачивается, смотрит на женщину. Мышление относится к бытию – словно луна к солнцу. Солнце катится по небу каплей слезы. Ветер, платком утирая его, бежит дальше; облака, расстеленные, мятые, приближают ночь. Отработав удары на "груше", я возвращаюсь, иду, словно стрелка, показывающая часы.
Бог, или удар по носу, зимой. Движение общества напоминает возврат. Оно отошло от природы и хочет вернуться. Государство проводит политику –муравьев. Слова образуют круг. Воронка, закрученная вглубь. Каждый круг стремительней и короче, ровно под головой. Гаррота, истина происходящего мира.
. Прочти
Жизнь нашу знает бог, а ночь в наших руках, – написал Эмиль.
Человек – это боль, которую испытывает земля.
Нужно заставить себя жить или умереть.
16. Гортань
Ночь. Я просыпаюсь. Приступы удушья, словно волны прибоя, идут один за другим. Страх перехватывает горло. Я вскакиваю, рука машинально тянется к столу, шарит. От волнения не сразу, но все-таки находит маленький препарат, встряхивает, подносит ко рту. Глубокий вдох, впрыскивание; тишина, такая, что кажется слышным стук колотящего грудной ковер сердца. Оцепенение проходит; придя в себя, включаю свет, ложусь.
Прожитая мною жизнь не имеет значения. Имеет значение ночь, которую я хотел воскресить. Сон – живая вода, которую я никак не могу извлечь из колодца, чтобы оживить действительность. Ребра батарей дышат теплом, неведомое сердце гонит по ним кровь. Вдохновение, думаю я, баня, открывающая поры, отчего легко заболеть… Сколько можно бросаться словами, этими тухлыми яйцами, на сцену провинциального театра, где идет прошлогоднее действо?
– Я должен собраться с силами, я должен… – Стихи бьют: стихи – кровь, льющая из отрубленных мест; они появляются, когда человек теряет жизненно важный орган. Вся жизнь есть попытка вернуться назад, в маму, совершение действий, ведущих к дородовому состоянию. Люди, максимально приближенные к состоянию смерти, живут продолжительно, они сливаются со смертью, долгое время она их принимает за своих. Отличных она убивает первыми.
Встав, выхожу на балкон, дышу, достаю с полки бутылку виноградного, возвращаюсь к теплу. …С каждым глотком густого тяжелого вина я пьянею, чувствую, как оно течет по жилам. Писать такие, как последняя, строки невозможно: они похожи на человека, вышедшего воевать обнаженным.Жизнь – раздевалка.Слова – песок, из которого я пытаюсь изготовить стекло, через которое можно было бы без искажений заглянуть внутрь. Я боюсь даже заглядывать к себе, не то что ступить: минное поле, сплошь изрытое воронками – тем, что осталось от прошлого.
Есть люди, душа которых находится снаружи, а не внутри, принимая печали, а если есть, и радости на себя. Я ощущаю глаза улицей, по которой проходят ежедневно тысячи ног. Кожа трепещет, как зонт на ветру, порывается улететь; я выбираюсь, напрягая силы, выползаю на открытую поверхность, но снова поскальзываюсь, лечу, падаю, увязая в себе. Мне чертовски хочется выбраться, но нет сил, нет… Подождите: «Этого не может быть! Это выше сил! – кричал "вверх" (я шел один, в поле горели звезды)». Тем более это буду уже не я. Ад, вот чем называют индивидуальность.
Ночь, демократия со множеством звезд, потому она ближе. Люди похожи на камни, осколки гор, позабывших величие; осколки с острыми краями, не подходящими, жесткими. Гениальность, пугало на огороде свободы, где произрастают разнообразные культуры… Общение – выхваченный взгляд, голос в привокзальной толпе. Исчезновение. Кажется, Трифонов определил человека, дал определение самого. В толпе каждый поодиночке. Попробуй сцепить руки… Письмо – соломинка, за которую я держусь, через которую хочу выпить море.
…Включаю телевизор, перебираю каналы, но везде наталкиваюсь на одно. Сегодня мой день, думаю я, глядя на экран и видя себя. Но все равно не весело. Зевнув, я понимаю, что меня не могут показывать по телевизору, что меня не знают. Я выключаю его, ложусь, а в голове проскальзывает, что телевизор – зеркало, показывающее одиночество.
Во сне я захожу на участок, где стоят старые дореволюционные дома в один, максимум – в два этажа. В них никто не живет, кроме бомжей и иногда – собак, которыми питаются первые, если они им встречаются. Дома, в основном без стекол, с разбитыми дверями, напоминая головы бывших людей, скалятся, изредка завывая от ветра. Штукатурка давно отвалилась от времени, обнажив красное гниющее мясо. Кирпич, каленый, николаевский, почерневший, сырой… Мне нехорошо, я иду дальше, выхожу на пустырь, встретив двух заросших мужиков, подозрительно поглядевших на меня; на пустыре валяются смятые «полторашки», упаковки от сухариков, чипсов и много другого. Зябко. Поэтому я нахожу несколько гнилых досок, складываю над грязной газетой и, поискав спички, решаю все-таки поджечь. …Так разгорается костер, зачатый не с первого раза. Вдали тяжело, неуклюже бредут облака. "Здесь им больше нечего ловить", – выдыхаю я, садясь к костру, вытягивая холодные руки…
После куда-то иду, пейзажи меняются, людей нет, но звучит голос.
– Оганес, что ты делаешь?
– Рассказ размером в десять килобит…
– Ты согласен, что в повествовании больше свободы, чем в стихах?
– Да, но там, где меньше свободы, достижения очевиднее.
– Ты веришь в бога?
– Главное, чтобы бог верил в меня.
– Ты это не писал в других "рассказах"?
– Не помню. Не имеет значения. Главное – боль, звезды,ответственность. Маленький человек понтуется. Он боится показать себя. Поэтому в его словах грязь, туман и сырость. Он боится, потому примыкает к стаду.
– Но посмотри на дорогие "тачки", клубы, жизнь. Тебе не смешно от таких разговоров, от себя самого?
– Когда я иду по городу, видя все сказанное и новое, красивых телок, к примеру, я не могу сказать свое безразличие. Наоборот. И миры, которые не пересекаются, – сталкиваются, и один уничтожает другой…
Я чувствую, что начинаю задыхаться, что иду слишком быстро, что необходимо остановиться, что…
Проснувшись, долго лежу.
Земля внезапна, небо естественно.
17. Лежа на полу, зимой
Выходя из трамвая, проходя через землю, нарытую впереди, останавливаюсь, молчу. Глаза, идущие изнутри, отслаиваются от этих, видящих дорогу, пустыри по бокам, звезды – все эти интерьеры жизни. Мир останавливается. Сцепления нет. Зверек, затаившийся изнутри, поднимает голову. Он выгрызает мрак. Выглядывает. Чуть очертимый холм. Гул, темный неясный гул, как пробегающий ропот. Вспыхивают огоньки, гаснут. Дым. Старые желтые зубы. Кашель. Вращение головы. Скрип. – Сигареты не будет? – Подобие. Оно уменьшается. Скрип сокращается, уходя под ноги. Свет, поделенный на тот, что стоит, и на тот, что движется. Холод. Предполагает вернуться. Незаметно подкравшись, он застиг врасплох. Возвращаются: дом, разрывая туман, квартира стеною, сплошная полоса настоящего – между прошлым и будущим.
Я не видел мир сознанием других людей. Я думаю, сознания делятся на разные комнаты. И если бы мне довелось побывать внутри "обычного", то я бежал бы оттуда, как из общественного туалета, в который заглядывают по нужде.
Человек – дезертир из рядов природы. Он освоился так, что постепенно природа бежала от него. Человек – это побег. Мы знаем физические вулканы, через которые бьет избыток земной породы. Но что касается избытка невидимой природы, она выходит через голову. Человек появился тогда, когда энергии стало много и ей необходим стал выход. Человек открыт: это вывод.
Творец, вечно недовольный написанным, отметающий черновик за черновиками, муками лучшего, остывая, вспоминая разорванное, возвращается к нему еще раз на страницах новых листов… Таким я вижу творение, поэтому я вернусь.
Человек уподоблен плахе, залитой кровью, на которой казнят живое.
Недовольны жизнью те, кто ее не знают, те, кто ее знают, – мертвы. Холод осуждает революцию. Хочется тепла, уюта, но в то же время – выскочить голым на мороз. Нельзя жить, если вы не умерли.
Бесконечность вселенной непредставима. Нам не с чем сравнивать. Она появляется так, как Чичиков в доме Коробочки.
"Право, – говорит человек, – лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам".
– По крайней мере, знаете Манилова?
– А кто такой Манилов?
– Помещик, матушка.
– Нет, не слыхивала. Нет такого помещика.
Жить хотят те, кто хотят умереть. Смерть – это финиш, и те, кто участвуют в гонке, так или иначе спешат к нему. Смерть – правое полушарие мозга. Чтобы жить, нужно многое убить в себе, а потом – снаружи.
В детстве жизнь – просто страшное кино, которое мы смотрим и от которогоможно уйти, отвлечься. Потом его героями становимся сами. Поэтому лучше родиться в трущобах, чтобы нельзя было вниз. Кто-то живет в трущобах, в ком-то трущобы поселяются сами.
Люди, тяжелые, вырванные. Из единой тетради вырвали листы, бросили на ветру. Вот один летит, кружит, трепещет, в то время другой – упал, отяжелел. Сырость, чернота, попавшего под колесо листа. Автобус переполнен, стеснен, медлителен. Все необщительны, замкнуты: каждый знает, через полчаса, час он выйдет. Так же и я – по жизни. Я стою, прижатый к поручням, представляя себе, как от удара извне они будут входить в меня, разрывая, разламывая.
Свобода и пустота одно. Потому боятся "обеих". Чтобы творить, нужно место. Чтобы творить, нужен страх. Слово – ладонь, которая гладит, или впадает в кулак. Слово – движение. Но большинство стоят и его протягивают, получая мелочь.
Сон означает покорность. Смерть приручает. Если время есть, значит, нас нет. Время и мы несовместимы.
Рай придумали люди, которым, в общем-то, было плохо. К примеру, они лежали на полу, чувствуя, что им нереально плохо.
И рождение, и смерть ребенка причиняют боль матери. При родах боль причиняет сам ребенок, а при смерти – его отсутствие. Рождение и смерть – амплитуды маятника. Женщина рожает, не понимая, что если достигнута одна высота, обязательно взойдет и вторая. Тем не менее: смерть – уравнение, иначе одно ведро перетянет спину.
Горы стоят мрачные, серые. Нет, они не поют, а рычат подворотнями. В них ведут разветвленные пещеры, исписанные в разные времена иероглифами. Вообще неочевидное очевидно. Сколько раз замечал, солнце, смерть люди не видят – чувствуют: печалятся, радуются. А попробуй на ногу наступить. Очевидно, что ты умрешь, что тело обезглавят, а солнце даже не поморщится. Ясно, подобное мышление несовместимо с жизнью, но жизнь допускает такое: ей необходима оппозиция. Иначе ее обвинят в автократии. Поэтому она уступает Западу и впускает институты смерти.
Как неприятно, наверно, брезгливо ворочающим нос, идущим в теплые квартиры, представить, что итог одинаков. Не отсюда ли стремление фараонов забрать прижизненное с собой, чтоб и там различаться, чтоб другим не досталось. Не отсюда ли ведут свою родословную Плюшкин, Гобсек, другие.
Пессимизм, или реализм другими словами, просрочен; что-то наподобие селедки после революции; самое начало двадцатых, селедкой пропахло все, нодругой еды нет; можете не есть, но иначе – смерть.
Слова потеряли действие. Они ищут его, как ребенок маму, в толпе. О господи, и всегда мне хотелось жить – оптом, не в розницу; так ведь дешевле – сразу. Так почему же ты так загнул? И тем, кто гибнет на войне, есть оправдание, а нам – нет. Но ведь на Марсе тоже нет войны, почему же там не живут? Мир есть, мира нет.
Сердце, я думаю, белка в колесе, книга – реферат человека. Ветер, почтальон, он приносит сухие письма, листья которых говорят не всегда разборчиво что. Листья их ложатся на душу, а после их покрывает новый день, белый, холодный, ко всему равнодушный. Если ты их успеваешь сжечь, день ложится ровным, также воздушным. Деревья, нарядившись снегом, только стоят; лишь верхушки некоторых украшают гирлянды гнезд, мрачных предвестий праздника. Люди будут пить, блевать, запускать ракеты – просто сигналы sos – людей, потерпевших бедствие.
Слишком плотно движутся автомобили слов по узким дорогам извилин. В каждом необходим зрелый водитель. Боги ДТП ждут нас. На моей шее повесился спаситель, я аккуратно похоронил его в сердце, рядом с обычными смертями. Но когда обхожу могилы, над этой – выпиваю больше. И тихие слезы смирения бегут по щекам…
Открываю гараж. Захожу. Ухожу в погреб. В нем темно, сыро; запах, ему одному свойственный. Ящики с картошкой, яблоками. Вино, соленья. Я зажигаю свечку. Стою. Надо мной повисают капли. Перед гаражом – снег, трубы, над – волосок, день; солнце распускающееся – цветок. Я представляю себе, как лечу на него, собираю пыльцу, возвращаюсь… назад, к солнцам. Наверно, я слишком пьян. Так невозможно. Крылья опалены, я ползаю по земле с обгорелым торсом.
Мертвый – вода, потому что растаяла… Потому что наступил день. Солнце взошло. И мертвый – тот, кто не успел скрыться.
18. Словарь
Армения тот же поэт: плюсов не быть гораздо больше минусов жизни.
– Ба, сопляки курят! – услышал я, подходя к дому. Мне десять лет, я ходил за хлебом. Баба Надя стоит у подъезда рядом с двумя пацанами моего возраста, дымящими в открытую. Этим летом она умерла. Перед тем приходила проститься. Во сне проходило прощание. Она позвонила сама. Дыша смертью, с дико вытаращенными глазами, изуродованная годами, болезнью, тянулась ко мне… Больше я ее не видел, а через месяц она умерла. Она знала меня, я не раз менял ей выключатель, розетку, в ответ она приносила "плитку". Женщина сильная голосом, телом, душой. Она знала меня, значит, и меня стало меньше.
Безумие – улицы. Грохот, машины, люди. Свобода от квартир рассудка. Холод, гибель.
Весна – безумие.
Воробей. Стиль воробья, присущий мне: как нетерпение, волнение.
Всплеснешь руками: солнце, небо… Так пришло в голову, спустя столько лет.
Государство – некрасивая одежда в целях безопасности в темные времена. Чтобы не изнасиловали.
Гроб – камера хранения. С тяжелыми вещами трудно гулять по городу – по новому городу.
Деревья, гигантские перья, воткнутые в чернильницу. Трудно сказать, кто ими пишет.
Дом – место, которое будет.
Мысли среди чувств – дороги. Дороги – мысли, ставшие чувствами.
Ельцин стал первым президентом России. Первый блин комом. Но с ним у меня связано только лучшее.
Ёлка. В двенадцать часов валяются на улице, эти золушки, никому не нужные. Купив вина, мы проходим мимо, поминутно скользя и не падая. Толя несет пакет, глядя вперед, подбирая шаг.
Женщина – варежка, в отличие от перчатки – мужчины. Теплая, общая.
Жизнь – туалетная бумага. Тонкая, отрывная. Каждый день по куску, неровному, разному, отлетающему в урну. Не то, что другие календари, с их листами, одинаковыми всюду…
Звери стали людьми. Их не истребили люди. Можно уничтожить тела, а не души. Ничто не исчезает. Звери среди нас. Это не плохо.
Искусство – это естество для тех, кому естественное стало искусственным. Искусство – это ходьба по земле.
Инопланетянин – счастье. Как неестественна радость, словно преступление: постоянно оглядываешься, не заметил ли кто… Его отнимут по закону, если найдут.
Копейка поистине атом, стала им. Сейчас ее никто не видит. Расщепление атома.
Лермонтов, "насмешка неба над землей".
Любовь – познание, отличное от другого, как горная река от равнинной.
Мама, слово, соперничающее со вселенной.
Марадона есть ускорение. Символ большого движения, быстрого прохождения. Новый мир и старый, Пеле.
Ненависть – атрибут скорости.
Огонь. В общем, мы обязаны ему всем, филиалу солнца. Но некоторых интересует только центральный офис.
Память оскорбительна. Говорить о человеке за его спиной. Плохое легче всего маскируется хорошим.
Преступление – не совершать преступлений.
Произведение. "В этом городе есть метро, много культурных диковинок наряду с обычными домами. Улицы чисты,
нет нагромождения машин, пробок. В таком городе нравится жить.
Реальность, это еще ночь, перед рассветом. Реальность – столкновение, авария.
Россия… Напрасно равнять географическую территорию страны с ее размерами. Это значит судить человека только по ширине, не по росту. Дух России возвысился поздно, в городах, где почувствовал неплохое стеснение. Выстрелил сигналом крушения.
Свобода – только сейчас вспомнил, что не обедал, а на часах четыре.
Сегодня – все, что у нас есть.
Смерть – пар, а вода вернется. Солнце, пуговица, стягивающая обе полы пуховика, расходящегося по бокам.
Тайсон, Марадона в боксе.
Творчество – это письмо.
Телевизор не смотрят, так ошибочно думать: телевизор – смотрит, он один, ровно глаз циклопа.
Усталость, черепки.
Фашизм – краткий курс истории человечества.
Фотография. Для меня никогда не было разницы между старыми фотографиями – с войны или с мирной жизни. Если им за сто лет, суть у них всех одна.
Хлеб, он стал почти как мама.
Хуй – и он смотрит в небо.
Цвет. Не надо его недооценивать. Из-за него лишаются жизни.
Церковь и публичный дом принимают отягощенных, от них выходят налегке. Не думая больше о части души и тела, то есть о боге и женщине.
Че, категорический императив Канта.
Шолохов – образец неписателя. У него нет судьбы человека. Когда-нибудь его имя станет нарицательным.
Щи, пирожки, мама…
Эволюция, замедленный повтор революции, вскрывает подробности. Мы все видим, но жить так не хотим.
Юристы – священники, только они исповедуют закон, а не людей.
Я могу существовать в какой-то отчаянной, только крайней плоскости.
Язык – коврик, брошенный в прихожей. Или красная дорожка, по которой ступают ноги избранных слов.
19. Трафик луны
Я до сих пор не приземлился. Я кружу над аэропортом. Мое топливо кончается. А меня не принимают, не принимают, не принимают.
По образу жизни, выбранному мной, я мог бы жить в тюрьме. От телевизора бы отказался – в пользу уставших глаз. Пора пробуждения. Человек соскакивает с кровати, на жесткий пол асфальта, бетона и слов. Это первые шаги. Он еще в полудреме. Ну, пробуждение как… похороны после свадьбы. Жизнь сама тоже. Идет распад личности. И вот – продукты распада. Природа, задуманная как кровать, с простыней и матрасом, с подушкой в виде сознания, отходит назад. Проглотив капсулу Омепразола, запиваю прямо из банки. Наливать не лень, просто не нужно. Высыпав в унитаз кожурки, сажусь у окна, не включая свет, тупо думаю. С виду думаю, а так – ни о чем. Просто сижу. Под окном машины. Вместо людей. Людей стало меньше. Просто выросли дома, машин стало больше. Люди как-то притихли. Стушевались на фоне. В своей крепости каждый почувствовал себя князьком. Наливаю кипяток в стакан. Пакетик чая. Ложка сахара. Дни бегут, дезертиры. Отсюда и Страшный военно-полевой суд. Зверь и бог по весу равны: только их баланс на чаше весов позволил человеку быть. Но "бог умер". И чаша справа перевесила. Мысли двухлетней давности… Типа: человек нарыв земли: ее вершина, боль, отчаяние. Или: жизнь мне видится плавающими после кораблекрушения людьми. Кто-то схватился за обломки, кто-то плывет по себе – таковых большинство. Помочь – значит подставить плечи тем, кто устал. Тем, кто устал. Редактор относится к тексту, как проститутка к мужчине. Кто перевел Чаренца на армянский? Сейчас бы я так не писал. Но это сейчас. Сейчас надо искать в прошлом. То есть настоящее ближе к прошлому, чем к будущему. Кровать, шкаф, телевизор, DVD. Кулак – по стене, белье на балконе. Бельевые прищепки, хищные муравьи, вцепились в жертву. Белье вырывается, словно гусеница, летит. Но не вырвется. Острый под солнцем день. Вечность, самый вчерашний день. В детстве я думал, что луна – это тоже солнце. Просто его вывернули наизнанку и повесили сушиться. Неужели я так думал? Но я точно помню, как мы, дети, смотрим на луну… Я ем суп. С хлебом и зеленью. Мне неприятно есть, когда рядом люди. Пища, входящая в тебя или выходящая из тебя, – не так велика разница. Трудно определить эту грань, но она, безусловно, есть: когда человек идет в этот мир и когда человек уходит. На детей, выходит, не стыдно смотреть. Да, дети чавкают. И дом престарелых – туалет. Доев суп, я кладу кастрюлю в холодильник. Тучи облаков идут с горизонта. Обращаясь назад, с недавних пор я заметил, что не могу отличить прожитый день от другого. Природа дала сбой, начав рождать одних близнецов. Но самое страшное, что тело замкнуто на себе. Что помощи ему ждать неоткуда: оно в тупике. Люди живут так, будто это так естественно родиться, будто они каждый день рождаются…Солнце прижимается ко мне, гаснет. Я аккуратно стряхиваю его в карман. Виселица, дневной проем. Дверь никогда не заперта. Дерните за шнурок – и вам откроют. Солнце течет по щеке, капает. Небо теплое, ватное; старое, уютное, с клочьями вылезшей ваты. В последнее время в нашем болоте много развелось аистов. Стоят на одной ноге, выпирая: поселок растет, строится; ездят мамы с колясками. Жить не значит видеть себя со стороны. Жить – значит, совсем себя не видеть. Человек начинен страданием, будто тротилом бомба. Человек всегда середина. На краю опасно. Волны, познание. Солнце. Вот и все. И старение. Небо, это только мгновение. Человеку принадлежит только одно. Настоящее или прошлое с будущим. Настоящее – Одиссей между двумя сторонами Мессинского пролива. Трудно поверить, что ты жив, если еще не умер. Завтра мы встанем с колен. Завтра мы выйдем из пещер. Завтра у нас будут цветы. Кто-то назовет это смерть, мы назовем это просто: победа. Голова, одиннадцатый автобус в час пик… вечером… вечером, а не утром. Безусловно, я бы прикончил себя, если бы это тело имело значение. Многочести. Надо продолжать. Жить так, будто ничего не произошло, будто ты не родился. Транспорт едет по тоннелю. Темно. Но сначала робко – туманным облачком, – потом заметнее, старухой, разговаривающей вслух, появляется свет. Слышен вздох облегчения. Дорога кажется веселей. При первом приближении свет оказывается лампочкой, свидетельствующей о повороте. Есть проза – ладонь, есть проза – кулак, сжатый до предела. Есть время – мозги, есть время – живот, стянутый к позвоночнику. Но я не об этом. Птицы кричат. Псы забывают. Я в бешенстве. Слова вылетают, следом – брызги слюны. Слова, это пробки шампанского. Пот течет градом. На бутылке испарина. Я взрываюсь, лечу. Невозможно остановиться. Что вы хотите? Еще недавно я был свеж, влюблен, на меня смотрели девушки, каждые. Если нет мечты, мир опасен. Вместе с тем и ты.Мелькают: боль, злоба, разочарование. Но надо плыть дальше. Затаив дыхание, сжав зубы, все лучшее –вперед, только вперед, умножая скорость… Кровь это уже злоба; бешенство чистой воды. Материк условное понятие. Точно рай. А живут на островах или лодках. Кто-то плывет по себе, но недолго.Мы не знаем всей суммы денег. Родители не показывают детям. Они выдают немного, по дням, деньги кончаются, мы так и не узнаем, сколько их было. Лермонтов забрал их сразу, прокутил. Раньше было отчаяние. Мы ходили на улицы, пили. К утру оно превращалось в усталость, желание уснуть. Было представление: что там, впереди, безусловно ждут; что там, впереди, безусловно будет. Я равнодушно жую хлеб. Вернее, я здесь ни при чем, жуют челюсти. Строки, маленькие, незаметные, растут. Одна из них заменила небо. Теперь отчаяние осталось, приумноженное годами, этой кладовкой "нет", но ни на улицу идти, ни знакомиться. Оно целиком внутри, а ночью, кажется, разорвется. Напоминает ком в талую погоду, который катят дети. Но вот ком возрос и остановился. Вставать незачем, нечем жить.
20. Ногой в лицо
Зима, чудо какое, благодатное, юное. Холод, снег, мамы с детьми, снежки, горки, гибель бомжей в подвалах, цветы. Вообще, что мы называем "смертью"? Это до опыта. Если у вас есть такой опыт, значит, вас нет. Или вы, или опыт. Но я не об этом. Весна, незафиксированный вес штанги, весна, плач матери по умершему ребенку, весна – удар сапогом в лицо. Боже, зачем ты дал меня так много, так сразу. Подкинул кукушонка в чужое гнездо. Я выскакиваю из дома, бегу, на мне нет шапки, куртка на голое тело, сланцы. За дом, за гаражи, там прошло мое детство, там прошел я. Я выключаю небо, прислушиваюсь к земле: она беспорядочно шумит, не настраиваясь на нужную волну. У посадок я падаю, спотыкаясь о покрышку, врытую в землю. Когда-то при ней кто-то ездил. Но об этом не приходится жалеть. Людей на прилавках полно. Времена дефицита, слава богу, прошли.
Ты подходишь ко мне, прикасаясь ладонями, кожей, прячешь глаза: угадай, кто это! Слегка прижимаясь, беззвучно смеешься, потом – громче, подаваясь телом. На тебе – юбка, колготки. Смех рассыпается беззвучно, будто падают бусинки, разбегаясь к стенам. Нам семнадцать лет, и, весна для самой весны, ты бежишь, легонько прикасаясь к полу. И наше солнце – не за горами. Мы встаем и тянемся, прикасаясь к небу. Имя тебе – любовь – подступает к горлу. Имя тебя – свирель – капает в голове. Весна – дед Мороз – и его не будет. Боже, еще вчера я верил в тебя, а сейчас – уверен. Пишут от насморка. У кого-то просто течет вода, кто-то – чихает смертью. Кто-то в движении, кто-то застыл. И то, и другое не соотносимо с жизнью. Люди игнорируют жизнь, иначе бы она всех убила. Она набрасывается на тех, кто ей смотрит в глаза. Жизнь – творчество, потому не должна повторяться. А вы ругаете смерть. Я выхожу на улицу, словно выбрасываюсь в окно. Иду, перебитый, задранный. Кровь течет, сторонятся прохожие. Сажусь в "восемнадцатый", на заднее сиденье. Опершись о колени, молчу. Все, все – позади. Ничего и не было. Пятнадцать тысяч строк, одиночество, сон.Так, незаметно для себя, я состарился. Я и раньше-то был не в тему, а теперь тем более. Некоторые говорят: здравствуйте. Я иду со своей студенткой. Говорит. «Все-таки решила кровь сдать, поехать по детским домам, посмотреть, каково другим». Мимо проплывают девушки. У одной нет ноги. Каждый раз она тонет, делая невероятные усилия, чтобы выплыть обратно. Стоим возле голубятни. Любуется, я же предельно мрачен. «Не возникает желание вырваться, Катерина Островского, крест…» – «А зачем? Нет, не возникает. У меня семья: муж, дети, а еще работа, учеба. Ни секунды времени». Внезапно она исчезает, я остаюсь один. Старухи, сбербанк, "Гроздь". Несколько сотен, очки, телефон. Голуби взлетают, тут же садясь. Я чувствую себя стариком, гуляющим с ребенком. Другими словами, дед с внуком, или я. Люди необычны, все. Обычное состояние – безумие. Ресницы вспархивают, как стрекозы над озером. Не работой ума, а давлением свыше, отчаянием плоти достигаются строки. «У тебя слишком болезненная амплитуда колебаний, я бы сказала даже – несовместимая с жизнью, моей уж точно. И тотальное бездумное неуважение ко всему живому. В общем, иди ко всем чертям и не пиши мне больше». Белый шоколад, поделенный на квадратики, – потолок, компьютерный стол, телевизор, входная дверь, мусорное ведро, лифт; площадка, мамы с детьми, библиотека, почта, ларьки, бабки, торговки семечками, люди, еще раз люди, боль. «Братишечка, выручи, срочно надо…» Еще не рассвело. Я всматриваюсь в лицо. Дима. Он не помнит. Сеструха Маша, двор. Мы, дети, и он, по словам, разбойник. «Да тут темно, видишь, не разберешь». Худой, несчастный, он бежит к круглосуточному ларьку. Я давно не ездил на трамвае. Я даже отвык от его людей, разнообразных, цветных, как экран современного телефона. Встав возле поручня, на средней площадке, провожаю взглядом пейзажи, отпускающие трамвай. …И было лето, и мальчик – да, мальчик! – шестнадцати лет проезжал здесь же, и все, все казалось другим, и все казалось "впереди, Оганес! В твоем возрасте непризнанность? Это смешно!" Это смешно: все твои сверстники на машинах, при деньгах. Ты наплевал на это. "И я был богом и боксером", а теперь последнее чмо на машине, а ты специально не захотел этого. И сейчас еще можно исправить все, но ты не уступишь. "Раз меняется, значит сдается", но так больше нельзя. Слышишь, нельзя! И все твои друзья несчастны, один несчастней другого. И девушки вокруг, которым нужна душа, понимание, но которые хотят одного: мяса. Чтобы было мясо, а душа придет, никуда не денется. Этот путь обещал все, в пятнадцать лет, было ясно, все, иначе не может быть, будущее внутри, в кармане. Что же случилось, Оганес!!! Что звезду с высоты свело?.. А теперь только и остается –харкать строчками. Тебя ценят, в литературе ты чужой. Сейчас, когда за окнами ночь, а в комнате – светло, только электричество разделяет вас, чтобы темнота не стала сплошной.
22. Небо шахида
Изнасиловать себя, чтобы жить. Я забросил бег, тренировки. Я хватаюсь за голову, голова выстреливает пробкой от шампанского. Я бегу по лесу, пересилив себя. Кое-где, как обрывки ваты, лежит снег. Ветер, набирающий
обороты, прогоняет снег. И, почернев лицом, тот уходит. Может, последний снег.
Не хочу, тупо не хочу, понимаешь. Почему люди не летают, думаешь, не умеют? Нет, на земле надежней. Любой может взлететь, если захочет. Но его место займут.
Земля греет солнце. Земля породила солнце. Крестьяне земли воспитали солнце. – Я не могу с вами жить! – заявляет солнце, уезжая в город.
Тяжелые бои на подступах к сердцу. Оборона прорвана. Монотонная стрельба из ручных орудий. Мощный залп. Город вздрагивает. Разрывы гранат возле самого сердца.
Тело не двигается, молчит, боясь спугнуть жизнь. Вдруг поплавок вздрагивает, уходит. Рывок! Слишком резко. Сорвалась.
Дыхание осени. Рев турбин. Усталость, поле, листва. Осень. Сердитый парикмахер проезжает по полю. Ветер обирает деревья. Голые, они склоняются, чтобы как-то прикрыть наготу.
Сегодня день пустой, как тетрадь двоечника. Не выполнив задание, он пришел на урок. Занимается чем угодно, только не делом. Я беру его тетрадь и расписываюсь: два. – Завтра с родителями. Он приходит с мамой, мрачной, почерневшей, злой. – Что вам сделал мой ребенок? Почему вы его не любите? – кричит она, зажигая глаза гневом. – Я растила его одна, работала чтобы жить, он рос один, по себе. А вы вместо понимания ставите свои глупые двойки, отрывая меня от дела!..
Эти дни моросят, моросят… Мы играем во дворе, дети. Ленина бабушка, сама мама, Лена, Сергей, Таня… Солнце восемьдесят девять над крышей. Я катаюсь на "Школьнике". Таня говорит: чтобы перед школой не заболеть…
Я соскакиваю с кровати, выбегаю на улицу. Те же: бордюр, лестница, двор. Вот и дорога, по которой весной таял снег, здесь мы пускали кораблики… Белые, бумажные, а чаще – просто спички. Уезжают, уезжают потому, что нельзя вынести пытку. Жить там, где похоронен человек – самое главное, где так дорого все, что почти не было. "Здесь меня брали на руки…" Как легко соскользнуть в прошлое и как тяжело из него выбраться. Мы словно меняемся местами с тем мальчиком, бывшим я…
Царствовать или умереть, говорит Екатерина. У нас мир, значит, мы побежденные. Кто носит крестики, а кто – кресты, говорю я. Произведение, мобилизация слова, краски, звука. Все – на защиту своего существования. Говорить всегда преждевременно. Для чего эти просторы? Будто чего-то ждут.
Звезды, элементы сознания, прорезают мозг. Я слушаю ночь. Чьи-то звезды в ночи. Вой собак, свет от фар – в поле. В ней мы с Лехой одни. Пьяные, поджигая стоги, мы летим навзрыд. Что-то с нами будет. Полутени, машина в кустах, сверчки. Когда мы умрем, наши тени вернутся, чтобы сжечь оставшиеся снопы. Начало сентября. Мы лежим в центре поля, одни. Проезжает "копейка". Молчим. Месяц только начат, открыт. Прямо перед лицом звезды. Грозные, прожигая мысль. Бутылки с вином кончены. Мы лежим, потеряв нить. Градусники безумия. Нет, чтобы спать, с утра зарабатывать деньги, жить как нормальные люди… нет, надо заниматься херней, просаживать молодость. Молодость, которая не в тему. Молодость, красную тряпку. Эти звезды и пустые карманы, просто чудо. Мы вернемся сюда, чтобы умереть – снова и снова. Чтобы упасть – как ни один самолет до этого. Фонари вдали, словно желтые зубы, выстроились в ряд. Ночь, это гигантский фон для действия, именуемого жизнь.Я должен выжить в этой мясорубке. Доказать жизнь. Вывести из "дано". Лица: старика, бегущего к булочной, девушки, поправляющей джинсы, пацана, спросившего закурить… Зачем тебе меня читать? Что ты во мне забыл? Я человек без «крыши». У меня просто нет крыши, и звезда, смерть, безумие – всегда над моей головой.
23. Иисус Ленинград
1.
Сердце мое разрывается, и осколки летят, может один из них заденет и тебя, попадет в твое сердце.
Нужен взрыв. Искусство – огонь, и огонь на поражение.
Слова те же женщины: их нужно оплодотворить.
Тело укутывает душу. Чтобы не замерзла в пути. Дома, в тепле, оно не нужно. Сон – прожитый день в невесомости.
Поначалу чувства вытекают наружу, словно из бочки, еще сухой. Потом уже нет. Если же их много, рано или поздно, они начнут выплескиваться через край…
Тонкая долька лимона, слова эти подтверждают влияние текста на психику, организм.
Небо, это настроение. Оно бывает спокойным, гневным, но не бывает радостным. Человек изобрел радость.
Жить можно и в прямом эфире. А не только по записи. Нет, серьезно, большинство – это запись.
Боль только поверхность айсберга.
Я слишком ушел в себя, потеряв выход. Я не могу выбраться, чтобы жить.
Во дворе никого нет. Несколько людей, теряющихся у машин, а в основном ноль.
Асфальт не принимает следов. Он сделан для того, чтобы было легче идти. Было легче уйти. Не задерживаясь ни на чем, уйти.
Падают женщины, воздушные, холодные, тающие, текущие, перемешанные с грязью.
Страдания редактируют жизнь. Они убирают все лишнее.
Я чувствую, как женщина, у которой вырвали плод.
2.
Зима, или утро. После воскресенья следует жизнь, понедельник. Стягиваются войска, окружая крепость. Годы берут в кольцо. Их все больше и больше. Это не Ленинград.
Жизнь, еще только дым.
Памятник напоминает о смерти.
Сирота, внутреннее состояние.
Подражать мне – попасть в воронку тонущего корабля.
Все, что я делаю, просто макаю перо в ночь, выводя по рассвету пепельные слова. Издаю журнал "Смерть", черно-белый. Белое – только фон.
Читаю программу передач как молитву.
Телевизор уменьшает страдания, уменьшает жизнь. Он поистине "ящик". Попасть в него умереть: распасться на атомы.
Письмо провожает реальность.
По рекам плывут буханки автобусов.
В бегущей строке машин читаю усталые лица как содержание купленных слов. Смысл слов сокращен из-за формата рекламы.
Знакомство с человеком – звонок в дверь. Ночью люди чаще в квартирах. Днем никого нет или только дети…
Никогда не умел отдыхать, просто радоваться. Бросался в улицы ожиданьем большего. Судорогой проходил по ним. Изнутри заполнял мрак. Круглосуточная работа звезд. Ясная ночь. Или туманный день. Просто тает снег, теплеет… Все это смерть зимы. А весны настоящей не было. Смерть зимы и весна – разные вещи.
Сердце кровоточит, и на него сбегаются хищники. Ночью становится невыносимо. Оно еще живо, в нем горит еще пламя, способное отпугнуть гиен… В автобусе я сажусь сзади. Десять часов в пути – ощущение жертвы. Удавка на вянущей шее. Земля над головой, небо – под нами.
Чего ты напрягаешься, малыш, делаешь не свою работу. Она сама все сделает. За тебя.
Полунебо. Острие осени. Запахи ветра. Итальянская защита – лучшая в мире.
Клочья сознания пролетают по небу. На уме только ветер. Пролетают по небу. Юля, грянет ночь, размывая планету. Юля, грянет ночь, отпевая планету. Юля, гаснет ночь, освещая планету. Подул ветер, оживляя угли и сдувая пепел. Жизнь одна, первая ласточка. Жизнь – зима, тепло еще будет.
24. Мой Сталин
Напряжен даже мозг – в смысле мускулов. Я не успеваю расслабиться.
Я и не подозревал, какая она сиротская, жизнь. Вышел погулять, попал под машину, дальше. А что ты, когда тебя нет.
Солнце, оно как Сталин в Великой отечественной. Все благодарны ему за победу. Но какова цена победы, какова сама победа и действительно ли она над тьмой – эти вопросы начнут задавать позже… Когда не станет солнца. "Но тогда не станет и нас" Так говорили при Сталине. И при смерти думали так же. Я держу в голове волка.
Свечи горят мучительно. Огонь не привык опускаться. Огонь ползет по канату –вниз.
Пульс – это чередование, жизни и смерти, жизни и смерти.
Тот, кто не желает жизни, спокоен, зная, что получит свое; олимпиец. Кто хочет смерти – рвется жить. Всаживать пулю за пулей, бесперебойно – жить.
Жизнь – то же дело. Чтобы открыть свое дело, нужен первоначальный капитал – хотя бы желание жить.
"Сталин" чеканит бог. Сталин, восклицают улицы. Слова, вырванные с мясом, – вот что я люблю.
Ничего не изменится. Сегодня бьют тебя, завтра тобой – других. И теперь, когда свое величие в веках я чувствую так же четко, словно пачку зеленых в кармане…
Искусство ведет бои, партизанские, тайные. Каждый день это вызов. И промедление с ответом равносильно смерти.
Все попрятались. Реальность, вторжение немцев на Советскую землю… И я, измученный Сталиным всех последних лет, я найду силы дать ответ. Он же, мой Сталин, поведет меня в бой… Я надеюсь, последний.
Земля, точка вопроса – меня, гнущегося над ней.
Творчество берется от безудержного, к примеру, желания жить. Если такового не получается (как правило, в силу самого характера жизни), возникает крайнее желание – смерть, ибо недурна собой. Но, как и со всеми красивыми, не всегда хватает смелости. Взор устремлен на восток: Москва. Третий Рим.
Мой Сталин, знает одно слово: вперед. Нет в мире таких крепостей, которых большевики не могли бы взять.
Живите так, будто вы умерли. Целуйте прах дочерей: гимн Серафите. Живя, как всегда, живя в mp3 формате…
Ты выходишь на балкон, снимаешь с веревок белье, выворачиваешь назад, расправляешь… Смерть означает, что белье загрязнилось, пора в стирку.
Время взошло. Солнце, которое здесь, солнце, которого нет, солнце всегда со мной. Что будет с людьми, если не станет солнца. Ничего не изменится. Просто не станет солнца. Еще одного солнца. Я же живу без солнца. Перегорит еще лампочка. Но ведь это последняя лампочка. Признание измеряется в плевках. Время взошло, осветив труп. Труп – остальной – любви.
Я лежу на земле, укрытый облаком, и по мне, как мурашки, пробегают машины.
25. Осень, зима-лето
Жизнь – попытка жизни. Критика характеризует критика. В сутках свои времена года. Вечер в ладах с осенью, утро – весна.Человек похож на муравейник, издалека он стоит, хотя вблизи становится ясно, все кишит, движется, раскаленными частицами приближаясь к тебе. Время, слюна, ссохлось во рту, течет по губам. Время скитается во мне, ждет приюта. Стон карабкается по спине. Душа, вся нарыв (я выдавливаю ее), брызжет гноем. Земля подступает к горлу. Подступает ночь. Ножницы ног разрезают пространство. На уроке труда разрезают пространство. Уроки труда выгребают ночь. Запятые бровей продолжают наш разговор. Но глаза молчат, глаза, точки. Принимайте жизнь как таковую. Но жизнь только холст. "Он и хорош тем, что чист". Но он пуст. И время, враг белого, сделает заметней грязь завтра же.По моим ощущениям: зима – это утро. Лето – день, только. Осень – безусловно, вечер. Необъяснимо, но я убежден. Будущее отличается от настоящего тем, что изменить в нем ничего нельзя. Любое изменение есть уже настоящее. Прошлое всегда между настоящим и будущим. "Холод, мрак, одиночество, – открываю Козина. – Одиночество не потому, что люди оставили, нет! А потому что люди не стоят этого сближения. Нет людей. Не стало людей. Нет веры в людей. И оттого на душе мрачно. Не от старости мрачно, а от черноты души человеческой…". Проснулся с утра, чувствуя себя нормально, но вставать, двигаться, а тем более жить не хочется. – А вы войдите в этот сюжет, как тень отца Гамлета, – вспомнил слова Виктора Николаевича, сказанные женщине, остановившейся между фотографом и людьми. Стоя в поликлинике в очереди за инсулином. «И премии, кому премии вручают, – осыпают слова, – все своим, когда последний раз рядовым вручали? Сказки. Лапшу вешают. Все против нас». Какие-то старухи пролезают без очереди. Проплывают медсестры.Тяжело быть пьяным среди трезвых. Как это гадко вообще жить, отстаивать свои две ноги, две руки и голову. И теперь –надо жить, хотя все аргументы против. Нет, жизнь не зебра, то черная, то белая, которую быстро переходишь – и вот, ты на другой стороне, свободной от сбиваний. Жизнь сама дорога, долгая, мучительная, темная, разбитая от ожиданий. Ты останавливаешься перед ними, которые изредка переходят дорогу, изумленно смотришь, как они перешли, и трясешься дальше, без конца и без края. Прошлой ночью я проснулся от ужасного сердцебиения. Будто в груди разрывались снаряды. То ли сон, то ли, в самом деле. Но разницы не было. Если даже был сон, то не уступал реальности, становясь ею.Я бежал на балкон. Солнца, утешавшего небо, не было. Лицо неба заплыло от слез, скрыв глаза. Небо казалось безутешным. И, несмотря на это, тополя, бормоча молитвы, протягивались к нему… Земля просит у неба, небо – у земли.Настоящее творчество – завтрак, обед, ужин для желудка. Остальное, как правило, только для забавы и удовольствия.…И иногда смерть мне представляется маленькой девочкой, тропинкой между непроходимой жизнью. И уже не слезы – само время бежит по щекам. Я чувствую бога в непрерывной череде трагедий. Сейчас, когда я отливаю в туалете, я вполне вижу небо, под которым меняуже нет. Гибель в моих руках. Каждодневная боль от неслиянности с жизнью. Встречный воздух – как удар в лицо. Все внутри воспалено, открыто. Где бы я ни шел, где бы ни был, я встречал людей – только встречных.
Города стоят, будто кучи прошлогодних листьев, собранных дворниками, чтобы их сжечь.
26. Камень, роса
Я потерял свое тело, как голос. Оно не поет, а хрипит. В детстве умирают, как на улице отказывают. Вы подваливаете, вам отказывают. Ничего страшного нет. Если я еще жив, то почему же не умер. Если я умер, то почему еще жив. Я смотрю в остекленевшие глаза жизни. Приближаюсь к ним. Они открываются передо мной. Я прохожу через них – и снова на улице, серой, холодной, злой. Весна, ветер, молчание. Улицы готовятся плыть. Всех понесет по течению. Пацанов, девок, старух. И тебя, моя жизнь. Юридически ты и так со мной, ты – права и свободы граждан, но фактически тебя нету, и нету, и нету. Я сбылся. Машины, деньги, в чистом виде они – спирт. Никто их просто так пить не будет. Надо разбавлять водой. "Я его люблю", государство, дети. Почему я увидел под собой. Я устремлялся ввысь, пока удар не вырубил меня. Очнувшись, я застал свою голову белой, надо мной потолок, полет прерван. Я взлетал в доме. Теперь я увидел под собой. На меня давят. Я сгибаюсь, все больше и больше. Скоро я выпрямлюсь под потолком. Если не задохнусь, поползу к окну. Там будет ждать настоящий полет или обессиленное падение. Жизнь, та же раздетая женщина, прелесть ее в том, что ее раздевают. Полуголая, она хороша наиболее. Происходит момент, когда мы сближаемся с ней. Потом лежим рядом. Я– потеряв интерес, она – только заинтересовываясь мной. Знакомство, секс, расставание. Жизнь в любом случае рана. Но, вопрос, куда. Характер и особенность человека зависят от места попадания пули. От того, рана сквозная или нет. Сквозная и есть трансценденция. Вам, наверное, доводилось видеть круглосуточные ларьки гениальности. К ним подкатывают машины. В них предметы первой необходимости. Основное дают супермаркеты. Ночью они закрыты, и выходят ларьки, эти звезды. Резко выхватывая пространства, словно кинжал из ножен, пролетают машины. Эти автомобили, загородные дома – в первую очередь баррикады, которые человек возводит между собой и миром. По своему образу и подобию творит человек. И все это изнутри. Только потом мы видим. Став машиной, человек изобрел машину. Солнце: красный цвет светофора загорается передо мной. Вскоре он станет желтым: заморгают глаза, но он – никогда. Так и не пропустит. Человек лучше всего восприимчив к боли, как ребенок к матери. Человек из боли. Нужно писать только на пределе, все равно, что накачивать шины. Только упругие шины довезут до цели. Я должен умереть, чтобы вы стали. Пока я на земле, вас никогда не будет. В сексе недопустимо все. Секс – это вступление. Вернулся дождь. По крайней мере, за окнами именно он. Что-то бормочет себе. То еще будет. День впереди; утро. Небо, зеленовато-прохладное, осень, река. Сырость, еще вчерашняя, дни, проходимцы. Ноги, искусанные комарами, – по влажной земле, лету. Ничего еще не было. Облака предлагают выпить. Солнце сморкается в облака. Гром. Я с такого неба падаю на землю – так, что лечу очень, очень глубоко. Так глубоко, что не могу подняться на землю. Быть человеком, просто человеком, просто им. В стихотворении идет подгонка атомов. Чем "атомы" ближе, тем оно сильней.Время, сплошное, безумие. Место под солнцем, место под солнцем, место под солнцем. Место под солнцем. Хочется есть. Не выкидывайте крошек, не выкидывайте. Дайте голодным. Прошу. Это же хлеб. Ради бога. Мама, не может быть. Такое позерство. Смерть – величественная наука, для постижения ее нам дается учитель – жизнь. Учитель стар, ученики разыгрались… Ощущение будто я траванулся чем-то на долгие годы. Детство знает все. Оно начинается с неба. А заканчивает хлебом. Кто не меняет неба, получает взаимность. Оно забирает. Два минуса создают плюс. Герой знает жизнь понаслышке. Солнце перекатывается в постели, нежась. – Еще рано вставать, – ленится солнце, укутываясь с головой. Такой женщины не хватает мне. За окном дождь. Боже, как мне сейчас хочется, чтобы и грудь могла впитывать – как земля. Но она не может, хотя вся пересохла, горит. Дождь не идет, он бежит по полю, мелкими шажками убегая прочь. Машина забирает жизнь на дорогу. Кто сказал, что человек хочет быстрее доехать. Кто сказал, что "место" лучше дороги. Любое место – дорога. Увеличив скорость, ты выигрываешь время, но проигрываешь жизнь. Все выглядит как бегство. "Дальше, здесь мы уже все видели". Сев в машину, человек побежал. Утром ощущение, будто вернулся с работы. Кровать – место сражения, а не сна. Осень, целый год времени, а не время года. Хорошо, что ничего нет. Только сейчас вспомнил о своих мечтах о любимой девушке. Как я себе представлял! Когда шел на работу, забирался на мост, все такое. Кто же знал. Нет, плохо было, но оно касалось настоящего, кто же знал, что пророчество будущего. Явь будет смертью по логике. Писать – перестраивать реальность по последней моде. Кто насколько может. Комната может стать красивой, но темной. Или же не очень, но с окнами. Чтобы и то и другое, бывает редко. Крайне редко. В общем, можно поменять обои или покрасить стены, прибрать, пригладить. Или заняться перепланировкой, заменой мебели, штукатуркой и сменой дверей с окнами. Я не хочу даже думать о смерти, не то, что жизни. Земля повзрослела. Скоро она даст отпор жизни. Такой жизни. Почти уже лето. Весна подает в отставку.