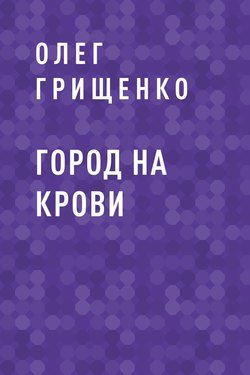Читать книгу Город на крови - Олег Грищенко - Страница 1
ОглавлениеПролог
Год войны, бушевавшей на западе Советского Союза, почти не изменил внешний облик и ритм жизни города Воронеж, укрывавшегося между рекой Дон и рекой Воронеж, недалеко от места их слияния. В июне 1942 года линия фронта проходила относительно далеко – примерно в 150 км от Воронежа и в 62 километрах от Курска, по линии с севера на юг у небольшого города Щигры.
Вот уже несколько месяцев этот участок фронта был стабилен, и потому жители города надеялись на лучшее и старались не поддаваться паническим настроениям.
В начале июня 1942 года Воронеж, наконец, снова обрёл свою летнюю красоту, солнечную, воздушную, расцвеченную зеленью садов и рощ и изменчивыми узорами цветочных россыпей на многочисленных безлесных участках. Это был спокойный тыловой город, чистый, опрятный, ухоженный. Установленные на его улицах ещё в прошлом году противотанковые «ежи» нисколько не мешали его жизни. Городские электростанции и водопровод работали, ходили трамваи, делали своё дело государственные учреждения и коммунальные службы.
Ранее, в сентябре-октябре 1941 года, из Воронежа на восток страны были вывезены все его промышленные предприятия, но после поражения гитлеровцев у Москвы, Государственным Комитетом Обороны было принято решение вернуть в Воронеж часть эвакуированных предприятий. Возобновили работу его крупнейшие заводы: имени Дзержинского, имени Тельмана, «Электросигнал», Синтетического каучука.
И всё-таки война цепко держала Воронеж в своих руках. Многие жители города были призваны в армию и воевали теперь на фронтах. А в сентябре 1941 года из отказавшихся от призывной отсрочки горожан был сформирован Воронежский добровольческий полк, который вошёл в состав 100-й стрелковой дивизии. В больницах города были организованы специальные госпитальные отделения, где лечились раненые солдаты. На железнодорожных станциях Воронежа день и ночь сгружали привезённые для ремонта подбитые танки и другую военную технику. Каждый день к донским переправам отправлялись на дневные работы горожане, чтобы строить там оборонительные сооружения.
Первая бомба упала на Воронеж осенью 1941 года. Сразу же после этого в городе был режим светомаскировки и установлены сигналы ПВО. Населению было рекомендовано заклеивать окна крест-накрест бумажными полосками, чтобы от сотрясения зданий при бомбёжках не лопались стёкла. Начали регулярно объявляться по уличным громкоговорителям учебные воздушные тревоги, проводились гражданские учения, по радио велись инструктажи о действиях населения при авианалётах.
У Воронежа и над его ближними и дальними пригородами зимой и в начале весны появлялись, в среднем, три-семь бомбардировщиков в день; в мае их число увеличилось до пятнадцати, участились появления в окрестностях города самолётов-наблюдателей «Фоккевульф-189» – «рам», как их называли за форму. Однако, в течение всего прошедшего периода войны немцы ни разу не бомбили жилые кварталы, совершая редкие налёты лишь на промышленные предприятия и железнодорожные объекты.
Из-за некоторых разрушений в результате авианалётов, время от времени то одно, то другое предприятие ненадолго прерывало свою работу. Порой случайные бомбы разбивали проложенные возле заводов трамвайные пути, столбы уличного освещения, находившиеся рядом, и линии электропередачи. Но эти напасти почти не сказывалось на общем ритме городской жизни. Получавшие письма с фронта жители, уже знали, что такое настоящие бомбёжки, и воспринимали налёты без особой паники.
Надежда на то, что их город так и останется тыловым, у воронежцев появилась осенью 1941, после того, как туда временно переместился штаб Главного командования Юго-Западного направления во главе с заместителем наркома обороны СССР маршалом Тимошенко. Окончательно же все поверили, что немцы до города не дойдут, когда 7 ноября 1941 года по указанию Верховного главнокомандующего Сталина в Воронеже был проведён парад войск в честь годовщины Октябрьской революции. Таких парадов в стране тогда было проведено всего три – в Москве, в Куйбышеве и в Воронеже.
В январе 1942 по городу стал ходить слух, что наши уже накопили военную силу, и что в Ставке Верховного главнокомандования разработан план окончательного разгрома немцев не позднее начала 1943 года. Эти слухи были приятны людям, вселяли уверенность, придавали силы.
К весне 1942 года исчез трагический надлом в статьях городских газет. В домах культуры возобновились выступления ученых с публичными лекциями по разнообразным научным темам.
Начали себя спокойнее чувствовать и дети, с лиц которых, наконец, сошёл страх. Школьники стали снова обсуждать между собой темы, не относящиеся к войне, секретничать по мелочам, обижаться просто так. Дети, конечно, продолжали помогать родителям по хозяйству, разгружая матерей и отцов, рабочий день которых был увеличен в связи с военным временем – но, когда родители приходили со смен, дети, как это было до войны, снова начали стайками бегать к реке Воронеж, что бы там поиграть в спортивные игры, искупаться или порыбачить.
Многие школьники, правда, любили также развлекаться возле казарм и военных заводов, любуясь через дырки в заборах на военную технику и на стрелковое оружие. Их удивляли и восхищали своей мощью орудия, танки, бронепоезда; вызывали любопытство укрытые брезентом установки «БМ», которые сначала делали на заводе им. Коминтерна, а после его эвакуации – на заводе им. Э. Тельмана. С особым интересом дети разглядывали висящие за спинами бойцов ППШ и ППД с удивительными дисками-обоймами, на которые горожане не успели насмотреться, так как автоматов в стране выпускалось мало, и большая их часть отправлялась в зону военных действий. Что касается зенитных пушек и пулемётных установок, в большом количестве расставленных по всему городу, то к ним школьники давно привыкли и особого интереса уже не проявляли.
И юные, и взрослые воронежцы не знали, что в далёкой Москве, в Генеральном штабе обстановка в это время была не слишком оптимистичной. Продвижение наших войск от Москвы на запад было остановлено сильнейшим встречным ударом немцев под Харьковом, в результате которого к концу мая 1942 года в районе Барвенково попали в окружение 6-я и 57-я армии. Убитыми и пленными там было потеряно около 270 тысяч советских солдат. Стратегическая инициатива вновь оказалась в руках врага.
К началу июня в Генеральном штабе были уверены, что скоро немцы снова начнут наступление на Москву. Для этого противник сосредоточил в районе Харькова и Курска крупную группировку в составе 70 дивизий. Допускалось также, что немцы одновременно могут двинуться и на юго-запад, в направлении Воронежа и Сталинграда, но это наступление, по общему мнению, имело бы вспомогательное значение.
Часть 1. Шквал
Глава 1. Эпизод войны
13 июня 1942 года, в субботу, для воронежских пионеров был устроен долгожданный праздник в честь окончания учебного года. Во всех 63 школах города прошли торжественные линейки с награждением учеников, активно участвовавших в пионерских мероприятиях. Затем в актовых залах школ состоялись праздничные концерты детских коллективов и аттракционы, организованные учителями. В городских театрах, музеях, кинотеатрах, в филармонии были даны бесплатные представления для школьников.
Во Дворце пионеров в этот день прошёл слёт, посвящённый героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками. На мероприятие были приглашены пионеры, показавшие лучшие результаты в учёбе. После окончания слёта его участникам раздали приглашения в находившийся недалеко от Дворца пионеров небольшой детский парк – Сад пионеров, расположенный между улицей 11 мая и проспектом Революции. Такие же приглашения получили многие «хорошисты», хорошо проявившие себя в городских кружках. Всего в Саду пионеров собралось более 300 детей.
Праздник, устроенный там, был самый настоящий, с музыкой, весёлыми играми, многочисленными конкурсами, проходившими на площадках для игр. На летней эстраде один за другим свои программы представляли детские хоры. А преподаватели музыкальных кружков из разных школ показывали различные танцы, пробуя танцевать их вместе со зрителями. Дети, конечно, двигались невпопад, тыкаясь друг в друга, кружась в разные стороны, но это их только веселило. В киоске «Игротека» пионерам из младших классов выдавали маленькие велосипеды, чтобы они могли покататься по дорожкам или вокруг находившегося в парке красивого фонтана, бронзовая скульптура которого представляла собой малыша, державшего в руках рыбину. Изо рта этой рыбы вверх била широкая струя воды, от которой во все стороны разлетались сверкающие брызги. И, конечно, особым подарком были испечённые специально для гостей Сада пионеров сладкие пончики. Из-за многомесячных перебоев в снабжении Воронежа сахаром, дети не ели сладкого уже давно.
Кроме вожатых, назначенных от школ для проведения праздника, других взрослых в Сад пионеров не пускали. Поэтому родители, которые привели детей на мероприятие, были вынуждены наблюдать за ними из-за ограды.
Также за оградой, у входа в парк дежурили комсомольцы, назначенные Горкомом Комсомола приглядывать за порядком на мероприятии. Правда, на этот раз дружинникам ни с хулиганами, ни с пьяными иметь дело не пришлось, но у ворот Сада пионеров комсомольцам с красными повязками на рукавах то и дело приходилось отваживать тех школьников, которые пытались пробраться на мероприятие без приглашения. Дети обижались, хлюпали носами, некоторые пытались уговорить дружинников, обещая в дальнейшем получать на уроках только хорошие отметки – но стражи ворот были непреклонными, так как парк был и так переполнен детьми.
Лишь в конце дня, когда часть приглашённых школьников, нагулявшись и наигравшись в парке, ушли, дежурные комсомольцы перестали останавливать желающих войти туда без приглашения. А трое дружинников из последней смены, начавшейся в 6 часов вечера, даже не стали подходить к воротам, а просто уселись поодаль на лавочке.
Один из этих комсомольцев, Иван Савкин, у которого в Саду пионеров с самого утра находилась восьмилетняя сестра Светка, всё-таки время от времени поглядывал в парк, а мысли его товарищей, Эльзы Шмидт и её сводного брата Севы Шанина были заняты более серьёзным вопросом. Их друг Иса Мажиев, только что закончивший школу младших лейтенантов, уже получил назначение и скоро должен был отправиться в часть. Иса целый день пропадал в военкомате, пытаясь поскорее оформить назначение на передовую, чем сильно обеспокоил своих друзей. Он обещал прийти в парк после шести, и все трое с нетерпением его ждали.
Особенно волновалась Эльза, которая подозревала, что давно уже влюблённый в неё Иса специально стремится на фронт, чтобы своими подвигами показать себя перед ней. Эльзе больше нравился Иван, спокойный, сильный, уверенный в себе парень, работающий начальником сектора технического контроля ходовой части установок «БМ» на заводе им. Э. Тельмана. Но к невысокому искреннему Исе она тоже относилась очень тепло.
Друзья жили недалеко друг от друга – в районе проспекта Революции. Уже пять лет прошло, с тех пор, как они окончили одну школу, но каждый из них хорошо помнил время учёбы, особенно седьмой класс, когда они сдружились по-настоящему. В тот год двое их одноклассников – Черепков, сын расстрелянного за убийство бандита, и драчливый Головач, вместе с учившимися в параллельном классе хулиганистыми парнями Сурминым, Тащановым и Паляевым, образовали шайку и начали после школы подкарауливать ребят из разных классов и отнимать у них карманные деньги. Вскоре шайка Черепкова обрела бандитский авторитет. Сам Черепков при всей его злости и хитрости был довольно хлипок на вид, зато его подельники умели нагнать страх: Сурмин был высок и грузен, Головач любил драться по поводу и без повода, а Паляев и Тащанов имели наклонности настоящих садистов.
Ни школа, ни милиция с черепковцами сделать ничего не могли, потому что они приставали к жертвам без свидетелей, а сами ребята на них не жаловались – уж так принято было, что для подростков позором считалось доносить.
Утвердив себя на улице, члены шайки решили распространить своё влияние и на территорию школы. Но после первого же отъёма денег, который черепковцы провели на перемене, отличник Трунов, председатель совета отряда класса, в котором учился Черепков, подошёл к нему для серьёзного разговора. Едва он пригрозил Черепкову исключением из школы, как был сбит на пол. Не стесняясь стоявших вокруг учащихся, члены шайки стали избивать ногами лежавшего на полу парня. Поражённые происходящим школьники подались в стороны.
–Здесь теперь мои правила, слышь! – крикнул Черепков, кося глазом в сторону лестницы, откуда могли появиться учителя. – Все будете теперь под нами!
И тут на него бросилась Эльза. Все в классе знали, что у занимавшейся плаванием красавицы Эльзы крепкая рука, но до этого момента никто не подозревал в ней такой ярости. Черепков отшатнулся, но не упал, начал сучить руками, стараясь ударить сам. Но Эльза всем телом сбила его на пол и принялась лупить кулаком куда попало, шипя словно кошка. Один из не ожидавших такого отпора черепковцев неловко ударил её в спину. Эльза лишь вскрикнула, но избивать вожака не прекратила.
Наконец, вышел из ступора толстяк Сева. Защищая сестру, он кинулся на ударившего её Тащанова. Тот попытался оттолкнуть Севу и вдруг упал как подкошенный, получив удар в челюсть от крепыша Савкина, имевшего разряд по боксу. Растолкав товарищей, в драку встрял и маленький жилистый Иса, выбрав себе противником Головача. Затем пятящегося уже Паляева настиг Савкин. Обескураженный пятый участник шайки – Сурмин в драку не встрял.
Одноклассники и прибежавшие на шум учителя с трудом оттащили Эльзу и её защитников от посрамлённых хулиганов. Воспользовавшись присутствием учителей, Черепков, по шпанской привычке, стал сыпать угрозами в отношении Эльзы. Но тут на него обрушился кулак Савкина.
Это был конец школьной шайки. На педсовете с участием представителей милиции, учителя все как один постановили изгнать черепковцев из школы и поставить их на учёт в милицию. Сам Черепков, а также Головач пошли работать на завод, а остальные члены шайки разъехались по сёлам, к родне.
Однако за невыдержанность и жестокость получил выговор по комсомольской линии Савкин.
С тех пор Иван и Иса стали закадычными друзьями Эльзы и Севы.
Иса появился у парка в половине шестого. На нём была новенькая форма с петлицами пехотного младшего лейтенанта. Новоиспечённый офицер был заметно возбуждён, глаза его были полны азарта.
–Взяли взводным в 121-ю дивизию 40-й армии! Она на передовой у Щигров, – громко объявил он, глядя на Эльзу. – Теперь всё! Теперь я – фронтовик!
Но товарищи его тон не поддержали.
–Всё-таки зря ты так спешишь, Исайчик! – со вздохом произнёс Сева.
–Да, это не игра, – сказала Эльза. – Будем теперь за тебя всё время волноваться.
–Волнуйтесь! И посмотрите, что я могу! – горделиво произнёс Иса. – В моём роду было много воинов. Все!
А Иван ничего не сказал другу, только молча похлопал его по руке.
Между тем, недалеко от ворот снова пробежала Светка. Теперь она весело гонялась за каким-то мальчиком, который, шутливо дразнясь, бежал от неё. Девочка догнала его у фонтана и принялась брызгать в него водой. Отскочив в сторону, мальчик тут же исчез, но через минуту снова появился у фонтана и протянул Светке бумажный кулёк. Девочка заглянула в кулёк, выхватила его из рук мальчишки и понеслась к воротам.
Подбежав к скамейке, на которой сидели Иван и его друзья, девочка сунула кулёк в руку брату.
–Я ещё немного погуляю, да? – весело произнесла она и, не дожидаясь ответа, побежала обратно в парк.
Там снова сменился хор, и началась новая песня – на этот раз, правда, взрослая, из кинофильма «Весёлые ребята»:
…Сердце, тебе не хочется покоя.
Сердце. Как хорошо на свете жить.
Сердце. Как хорошо, что ты такое!
Спасибо сердце, что ты умеешь так любить!…
Дети пели с выражением, но немного не попадали в такт. Это было так трогательно, что Эльзе вдруг расхотелось улыбаться. Чтобы спрятать глаза, она заглянула в пакет, который принесла Светка. Там оказались два тёплых пончика. Разломив каждый пополам, Эльза раздала половинки друзьям.
–Война, наверное, кончится не скоро, – серьёзно произнесла она. – Фашисты – страшные существа. Жалко, что они – немцы. Мой папа ведь тоже был немец, из Поволжья.
–Твой и мой папа были герои! – тут же ответил Сева. – Командир и комиссар полка, защищавшего Царицын! Они погибли тогда, в один день, и мама твоя. И теперь мы все просто воронежцы!
–Точно, просто воронежцы! – сказал Иса, покачивая головой с такт песни. – Мы ведь победим, правда, Эльза?
–Конечно, победим! – воскликнул Сева.
Но Иса и Иван продолжали вопросительно смотреть на Эльзу. Хотя она никогда не задавалась перед ними, друзья считали её умнее себя.
–Мы отбили врагов под Москвой, но у Харькова вышло плохо, – сказал девушка. – Ты, Иса теперь будешь на самом опасном месте. Если Гитлер вдруг задумает наступать в сторону Кавказа, чтобы захватить нашу нефть, первым под удар может попасть Воронеж.
–А, может, и Сталинград, – вставил Иван.
–Если наступать будут от Курска, Воронеж им не обойти! – твёрдо произнесла Эльза.
–Нет, сестрёнка, Воронежу всё равно ничего не угрожает! – возразил Сева. – К нам в Горком Комсомола неделю назад приезжал лектор из Москвы. Он сказал, что поражение у Харькова – стечение обстоятельств, и что больше такого повториться не может. Пусть только попробуют! Красная Армия им покажет!
–Конечно победит, раз я иду на фронт! – со смехом произнёс Иса.
–А я вот, подожду, пока, – сказал Иван. – Когда надо, тогда и пойду. Бронь мне на заводе дали не просто так. Из всех приёмщиков техники, только я не даю гнать брак. Даже начальник ОТК Старков меня за это гнобит.
–Ну, Старкова тоже можно понять, – примирительно произнёс Сева. – Ты же, и правда… иногда палку перегибаешь. А фронт ждёт военную технику. Старков даже в Горком Комсомола жаловаться на тебя приходил.
–Пусть жалуется! А если тебе на бээмке с расшатанной трансмиссией воевать придётся?
И всё-таки у них здесь, возле праздничного Сада Пионеров не было настроения спорить всерьёз. Тем более что теперь вместо детского хора на сцене парка играли известные всему Воронежу два юных баяниста, постоянно побеждавшие на пионерских музыкальных конкурсах.
Наступило семь вечера, праздник близился завершению. Было ещё достаточно светло, но дети за оградой, уже сильно устали. Набегалась и наигралась и сестра Ивана Светка. Она уже несколько раз подходила к воротам парка, но каждый раз передумывала и бежала обратно.
Вспомнив о ещё одном нерешённом с военкоматом вопросе, ушёл Иса, обещав перед отъездом обязательно зайти в гости к Эльзе и Севе, чтобы побеседовать с их мудрой мамой Софьей Петровной.
Затем Иван начал делать знаки Светке, вызывая её из парка. И девочка неторопливо пошла к воротам, поминутно оглядываясь на весело кричавших ей мальчишек.
В этот момент Эльза заметила в отдалении знакомые фигуры и, к своему неудовольствию, узнала Черепкова и Головача. Конечно, она не раз видела их в городе и после школы, но здесь бывшие школьные хулиганы были совсем не к месту.
Баянисты закончили играть детские песенки и перешли к лирической мелодии. Мягкие успокаивающие звуки поплыли по парку, смиряя усталых озорников, растворяя в себе детские голоса, напоминая всем о скором завершении праздника. Кажется, даже шум фонтана стал как будто тише.
Слушая чудесную музыку, Эльза мысленно перенеслась в недалёкое довоенное прошлое, когда городские парки были местом отдыха и свиданий, а парковая музыка играла не для утешения уже уставших от войны людей, а просто для того, чтобы доставить людям радость.
И вдруг у Эльзы заболело сердце – сжалось на мгновение и неровно забилось в тревожном ритме. Окружающие картинки застыли, движения людей стали странными – плавными, словно у персонажей замедленных кинокадров. Вечер был светлый, уличные фонари ещё не включали, но фигуры детей в парке стали погружаться в сумрак, словно над ними поднималась широкая тень.
Маленькая Светка, со счастливой улыбкой идущая к воротам парка. Мужчина в рабочем комбинезоне, пришедший, видимо, только что со смены, зовущий из парка своего сына. Женщины на улице 11 мая, глядящие в небо. Музыка, которая становилась всё тише и тише.
Почему-то Эльзе захотелось закричать, но она не могла произнести ни звука. Подняв взгляд, она лишь стояла и смотрела на появившуюся только что над крышами домов большую серую птицу, которая летела вниз, прямо на парк.
Страшно завыл ветер вокруг стремительно проносящегося над парком самолёта. Несколько огромных бомб выпали из его брюха и с отвратительным свистом обрушились на детей.
«Этого не может быть! – успела подумать Эльза. – А воздушная тревога? Её же не было!»
Земля вздрогнула так, что многие из людей, стоявших у ограды парка, упали. Тех, что в первую секунду устоял на ногах, расшвыряло в стороны взрывной волной. Грохот от нескольких одновременных взрывов был таков, что во всех окрестных домах посыпались заклеенные бумагой стёкла.
Эльзу сбил с лавки Савкин, потянув за руку к земле и Севу. Огненный смерч пронёсся над ними, осыпав пеплом, горячей землёй, изранив руки острыми мелкими камешками. Эльза закашлялась от накрывшего их порохового смрада. У неё заболело всё тело, но она и не подумала проверить, нет ли на ней серьёзных ран. Быстро поднявшись, она встала перед тем местом, где раньше был Сад пионеров, и где теперь клубилось полное красных всполохов дымное облако.
Гул огня, скрип ломаного дерева в глубине облака, перестук мелких камешков, продолжавших падать на землю. И ни одного вскрика, ни звука человеческого голоса в первые секунды после взрыва.
Влажная капля потекла Эльзе по лицу. Она смахнула её, но это оказалась не вода. Пальцы Эльзы были в крови. И это была не кровь из покрывающих её ладонь царапин.
–Хейнкель-111 – немецкий средний бомбардировщик, – пробормотал Сева обморочным голосом. – Помещается восемь осколочно-фугасных бомб по 250 килограммов.
И вдруг он завыл, хватаясь за лицо.
–Тихо, Сева! Не так! – прохрипел Савкин, с трудом поднимаясь на ноги.
В этот момент со всех сторон понеслись крики.
–Туда! – решительно произнесла Эльза. – Там должны быть живые!
Она всё-таки заплакала, но заставила себя идти.
Между тем туманное облако быстро теряло густоту, и пространство парка начало открываться взгляду. Истерзанные детские тела в пионерских галстуках лежали повсюду. Брызги крови покрывали здесь всё: землю, упавшие стволы деревьев, их листья, цветочные клумбы, гнутые металлические столбы фонарей. Словно это был кошмарный сон – на тех деревьях, которые устояли, висели части тел и клочья одежды.
Маленькая Светка лежала у самой ограды. Её мертвое лицо всё ещё улыбалось. Из под её платьица высовывалась только одна ножка. За спиной Эльзы раздался болезненный стон, но она не стала останавливаться, предоставив Ивану скорбеть над любимой сестрой.
«Нужно помочь живым! Нужно помочь живым!» – мысленно повторяла Эльза.
Крики стали громче, надрывнее, со всех сторон слышался топот бегущих к парку людей. С трудом заставляя себя смотреть, Эльза пошла по парку, обходя мёртвые тела, ища живых.
Она увидела медленно бредущую навстречу девочку лет двенадцати. Словно рыбка, вытащенная из воды, девочка судорожно глотала воздух, не издавая при этом ни звука. Эльза быстро шагнула к ней, но девочка зашаталась и упала, суча ручкой по огромной рваной ране на боку.
Шедший за Эльзой Сева прихватил было её на руки, но Эльза крикнула ему, что их помощь нужна другим.
У посечённого осколками старого дуба они, наконец, нашли живых. Раненый в руку мальчишка пытался зажать другой рукой рану на плече лежащей без сознания девочки. Её кровь сочилась у него меж пальцами, и от этого мальчишка жалобно стонал. Своей же боли он словно не чувствовал.
Полоской, оторванной от школьного фартука девочки, Эльза перевязала ей рану. А Сева снял с мальчика пионерский галстук, быстро скрутил жгут и перетянул ему руку.
–Ты иди! – сказал мальчику Сева. – Только вниз старайся не смотреть. Я за тобой.
И поднял девочку на руки.
–Дети плачут. Я слышу, – сказал он Эльзе и пошёл навстречу вбегавшим в парк людям.
А Эльза двинулась дальше, осматривая каждое лежащее на её пути тело. В какой-то момент её эмоции словно бы начали выключаться. Теперь она смотрела на кровь, по которой ей приходилось ступать, отстранённо, как смотрят на нарисованную картинку. Словно всё происходило с кем-то другим.
Ускорив шаг, она пошла к развороченной эстраде. На чудом сохранившейся лавке застыло несколько мёртвых детских тел; их спины были изрешечены осколками. Недалеко от эстрады, рядом с погибшей вожатой Эльза нашла двух живых девочек, на которых ран не было. Девочки посмотрели на неё наполненными ужасом огромными глазами.
–Идите к домам! – приказала им Эльза. – Вы – пионерки, вы обязаны ничего не бояться!
У огромной воронки от бомбы она поскользнулась в луже крови и упала, вымазав лицо. Но ту же быстро встала.
–Все, кто может идти, вставайте! – крикнула она. – Идите к выходу… туда, где были ворота! Там вам помогут!
И сразу же в парке началось шевеление. В разных его концах начали вставать дети. Их было не много, не более полутора десятков, у большинства из ран текла кровь. Но, увидев здесь столько живых, Эльза едва сдержала радостный возглас.
Перегоняя друг друга, по парку быстро шли горожане. Мужчины брали на руки поднявшихся с земли детей и несли их из парка, а женщины, стеная и плача, занялись лежавшими на земле.
Вскоре вдалеке послышалась сирена «скорой помощи».
«Почему-то у некоторых мёртвых одежда чистая», – подумала вдруг Эльза и поняла, что долго уже не сможет удерживать в себе спокойствие. Но она продолжала идти, решив обойти весь парк.
Возле фонтана Эльза нашла ещё одну уцелевшую девочку. Она была без сознания, но ручки её всё время мелко подрагивали.
–Я помогу, тётя Эльза, – сказал подошедший паренёк.
Она посмотрела на него непонимающими глазами и, наконец, узнала. Это был Миша Фетисов, шестиклассник из её школы, постоянный участник её университетского факультатива по немецкому языку.
Миша зачерпнул горстью воду из разбитой чаши фонтана и плеснул девочке в лицо.
–Сюда! – крикнул мальчик. – Здесь ещё живая!
В этот момент среди жалостливых вскриков людей, выносящих из парка раненых и убитых детей, раздался страшный вопль. Молодая санитарка в белом халате бежала к выходу на негнущихся ногах.
Эльза заставила себя подойти ко второму парковому дубу, от которого бежала медсестра. Там на нижней ветке, на длинной светлой косе, зацепившейся за сучок, раскачивалась окровавленная девичья головка.
–Надо её снять! – выдавила Эльза, обращаясь сама к себе.
И тут её вырвало. Когда она снова выпрямилась, головы на ветке уже не было, а Миша Фетисов прикрывал что-то лежащее на земле у дерева подобранным здесь же куском материи.
–Идите, тётя Эльза! – сказал он. – Вы уже не можете.
В глаза Фетисова, полных ярости и гнева, не было слёз.
Потом Эльза, как ей показалось, бесконечно долго шла из парка, стараясь не забыть, где была та лавка, на которой она сидела до начала бомбёжки. Ей почему-то хотелось теперь оказаться именно там, чтобы хотя бы на мгновение вернуть себе сладкое ощущение надежды на лучшее, которое она недавно ощущала.
Она заметила в стороне Севу и Ивана, склонившихся над телом, но продолжила идти к заветной лавке. Ей почему-то не показалось странным, что впереди она увидела Головача, несущего на руках раненого ребёнка.
Потом она долго сидела, пытаясь стереть с лица платком засохшую кровь, ожидая когда вернуться её друзья.
В ближних к парку домах продолжали выпадать стёкла из развороченных взрывной волной оконных рам. К трамваям, которые на время стали выполнять функцию санитарных вагонов, на носилках и на руках несли из парка раненых. Тела погибших рядами укладывали у остатков парковой ограды, чтобы родители и родственники могли их опознать. Вокруг стоял крик, стон, сновали врачи, заводские санитарные группы; росла толпа пришедших сюда жителей окрестных домов.
Вскоре приехали на машинах сапёры, чтобы обследовать парк на предмет неразорвавшихся бомб. Подошли и несколько девушек в военной форме, видимо, зенитчиц.
«Зря они сюда пришли, – подумала Эльза. – Люди их могут обвинить в том, что наблюдатели ПВО не заметили появления бомбардировщика».
Снова у ограды, где лежали мёртвые, раздались громкие стенания. Обняв детское тельце, женщина в дорогом платье, пыталась поднять её на ноги.
–А вот, немка сидит! – раздался рядом знакомый голос.
Это был Черепков. На его лице застыло выражение праведного гнева. К лавке сразу же подступило несколько человек.
–Она такая же как те, что бомбили! – крикнул Черепков. – Я её знаю! Она всегда была на стороне фашистов!
Эльза быстро поднялась, но уйти ей не дали. Её быстро окружили со всех сторон, толкая, крича оскорбления и угрозы. Особенно покоробило Эльзу то, что громче всех кричала на неё её соседка по дому Дробкина – та, что была вечно пьяной, и, по общему мнению других соседей, вороватой.
Эльзу ударили в плечо, потом, откуда-то сзади ей нанесли удар кулаком по шее. Она снова попыталась вырваться, но люди стояли вокруг неё твёрдо.
И вдруг окружавшие её люди начали быстро расходиться. Исчез и Черепков, который, видимо, и ударил её кулаком сзади. Высокий капитан-пехотинец с недобрыми внимательными глазами молча взял Эльзу за руку и повёл к домам. Эльза увидела, что вся его форма выпачкана в крови. Очевидно, он тоже помогал выносить тела из парка.
–Немке помогаешь, солдатик! – зашипела ему вслед Дробкина, но, стоило офицеру чуть повернуть голову в её сторону, она тут же замолкла.
У стены кинотеатра «Пионер», Эльза остановилась.
–Спасибо вам! – сказала она капитану. – Это несправедливо, они не должны были так. Они же ничего не знают!
–Вы, я вижу, сильная, – ответил офицер, разглядывая пятна на своём рукаве. – Я видел вас там, в парке, когда вы помогали раненым. Но пока, советую, туда не ходить. Люди в горе часто становятся неразумными.
Тут капитан фыркнул, убедившись, что платком кровавые пятна не оттереть. У него, видимо, были очень крепкие нервы.
Только в этот момент Эльза обратила внимание на орден Красной звезды на его груди.
–Пойдёмте, мы с мамой почистим вашу гимнастёрку! – решительно произнесла она. – Мы живём здесь недалеко, на проспекте Революции.
Софья Петровна не удивилась тому, что Эльза пришла с незнакомым военным. Но в дом его сразу не пустила. Открыв дверь, она встала у порога, испытующе глядя в лицо гостя.
–Капитан Ермаков Николай Сергеевич! – представился тот.
Тон его был более мягким, чем у кинотеатра «Пионер», когда он в первый раз заговорил с Эльзой.
–Шанина Софья Петровна. Университетский библиотекарь. Мать этой прекрасной девушки.
И продолжила, обернувшись уже к Эльзе:
–Значит, ты, рыбочка моя была там? А у нас весь дом гудит про эту бомбёжку. Боже мой, какое там несчастье с детьми! Многие соседки ходили туда помогать, а я вот не смогла.
Она тихо всхлипнула. Эльза, не стесняясь Ермакова, обняла мать.
–Он к нам ненадолго, мама. Пусть умоется, а мы отчистим его одежду.
–Я понимаю, что ненадолго, – ответила Софья Павловна. – Но мундир ты ему чисть сама, а я попробую покормить его ужином. Вы ведь едите картофель с рыбой, молодой человек?
В сумрачных глазах капитана заиграли весёлые искры.
–Почту за удовольствие! Как бы мне только мало не показалось, а вкусным обязательно покажется.
–Это очаровательно! – серьёзно произнесла Софья Павловна. – Значит, в Красной армии и сейчас хорошо воспитывают офицеров.
Через полчаса капитан сидел в отчищенной спиртом гимнастёрке за круглым столом напротив Эльзы, а её мама раскладывала со сковородки по тарелкам рыбное жаркое, бормоча, что надо обязательно четверть выделить Севе, так как иначе он останется голодным и обидится.
–Сева – брат Эльзы, – пояснила Софья Павловна, и грустно улыбнулась, заметив, как при слове «брат» с лица капитана ушла только что возникшая мина беспокойства. – Кушайте на здоровье, товарищ офицер! Но раз вы – хороший человек, ответьте мне на один простой вопрос. Я не собираюсь выпытывать у вас военную тайну, но скажите, что это за бомбёжка была такая? Случайно, да?
Ермаков опустил взгляд, немного подумал, потом ответил, чётко произнося слова:
–Совершенно очевидно, что данное бомбометание было прицельным. Немецкая авиация базируется в Курске, оттуда они периодически совершают налёты на предприятия Воронежа. Маршрут они знают хорошо, поэтому бомбардировка детского парка не могла быть случайно ошибкой.
–Так зачем им это? Мы что здесь, в Воронеже, не знаем, что началась война?
–Зачем они это сделали, не знаю. Это же фашисты.
Эльза внимательно смотрела на мать, удивляясь её необычному напору.
–А не следует ли из этого, что они скоро они надеются явиться сюда? – спросила Софья Павловна.
–Никаких объективных признаков скорого наступления на Воронеж нет. Скорее всего, они снова попробуют штурмовать Москву.
–Да-да, признаки… Но есть ещё и внутреннее чувство. Знаете, сразу после этой бомбёжки одна моя подруга зашла ко мне, чтобы поделиться радостью. Не удивляйтесь, молодой человек – радостью! Она ведь тоже собиралась вести свою дочку в Сад пионеров, у них было приглашение. Но не повела, потому что дочка в праздничном платьице села порисовать и нечаянно опрокинула на себя баночку с акварелью. Теперь, думаю, та баночка будет в их семье главной реликвией.
Капитан внимательно слушал Софью Павловну, а Эльза с неожиданным для себя интересом наблюдала в этот момент за гостем, сама не понимая, чем он так её заинтересовал.
–Фашисты придут в Воронеж – теперь это ясно, – задумчиво продолжила Софья Павловна. – Гитлер все свои зверства делает осознанно. Наверное, он хочет облегчить путь сюда своим солдатам, чтобы от страха перед ними воронежцы не могли сопротивляться. Но он глуп, этот Гитлер, так как перед лицом опасности многие, наоборот, укрепляются. Я помню это со времён Гражданской, когда мы обороняли от беляков Царицын. Правда, есть другая напасть – рядом с реальной опасностью люди очень меняются. Сильные, – тут она бросила быстрый взгляд на Эльзу, – душой черствеют; слабые, как мой Сева, становятся жестокими; а уверенные в себе – такие, как Иван Савкин, могут попросту себя потерять. Даже такие, как Иса Мажиев, который думает, что он сильнее войны, узнают, как война ими самими легко может управлять. Сопротивляться войне или играть с ней нельзя – надо жить по её законам, а у тех, кто этого не сможет, она быстро жизни отнимает.
Было видно, что на Ермакова слова Софьи Павловны произвели сильное впечатление. Под взглядом Эльзы и её матери он молча доел свой ужин, поблагодарил их за приём и поднялся. Он уже шагнул было к дверям, но все же остановился.
–А такие, как я? – спросил он Софью Павловну. – Как таким, как я, с войной обходиться?
Софья Павловна явно ждала этого вопроса.
–Ты, дружочек, видно, с ней о чём-то уже договорился, раз орден имеешь. Не бойся её, но не позволяй себе думать, что всё о ней знаешь. И, главное, умей голос её слушать, чтобы врагам обмануть себя не дать.
Когда гость ушёл, Эльза и её мать долго ещё сидели за столом, думая каждая о своём. Потом Софья Павловна сказала Эльзе, что, видимо, ей, а также родителям Исы и Ивана нужно начать собираться в эвакуацию.
–Я завтра же зайду и к тем, и к тем, – сказала Софья Павловна. – Отец Исы – инвалид, мать – корректор в газете, родители Ивана – школьные учителя. Для этих категорий граждан эвакуация разрешена. Ну а мне, тем более.
Тут по лицу Софьи Павловна потекли слёзы, и она, махнув дочери рукой, быстро ушла в свою комнату.
Через час, когда, наконец, вернулся, Сева, мать так и не вышла из комнаты, поэтому Эльза сама кормила брата ужином. А он, злой и решительный, клял фашистских палачей и уверял, что они скоро с лихвой заплатят на все свои злодейства.
Назавтра город погрузился в траур. На каждом предприятии, в каждой семье как личную трагедию восприняли убийство фашистами 300 детей в Саду пионеров. Чтобы хоть как-то снизить остроту переживания горожанами этой трагедии, первый секретарь обкома ВКП(б) Никитин, возглавлявший также Воронежский городской комитет обороны, разослал в городские газеты распоряжение: официально никак не упоминать о бомбёжке Сада пионеров. Даже главная воронежская газета «Коммуна» вышла без траурных заголовков. Но люди успокаиваться не хотели, и состоявшиеся 14 июня похороны погибших детей вылились в массовую процессию на проспекте Революции. В ней приняли участие большая часть жителей города. Дорога, по которой везли гробы с погибшими, была усыпана цветами.
Тогда прямо у кладбища по инициативе первого секретаря обкома был проведён общегородской траурный митинг, на котором, кроме него, выступили и другие члены Воронежский городской комитет обороны: заместитель председателя ВГКО Яковлев, председатель облисполкома Васильев, начальник воронежского гарнизона полковник Глатоленков и начальник областного Управления НКВД Голубев.
Глава 2. Торжество фюрера
Когда 14 июня, в начале совещания в Германском Генеральном штабе рейхсминистр авиации Геринг сообщил, что, в соответствие с приказом фюрера, акция устрашения в Воронеже проедена, Гитлер отреагировал в точном соответствии с моментом – на его лице мгновенно возникла наиболее любимая им маска безжалостного божества.
–Вот видите, я делаю для вас, всё что необходимо! – сказал он, обводя участников совещания величественным взглядом. – Теперь наступление победоносных германских войск будет на направлении главного удара подкреплено особенным страхом русских. Со вчерашнего дня они знают, что ко всем, кто не покорится Рейху, смерть будет безжалостна. Она не пощадит даже их детей! Животный ужас сделает русских слабее перед нашими ударами! Главное: акция проведена 13 числа – в мистический для русских день!
По знаку Гитлера, Геринг продолжил:
–Мои асы попали точно в цель! Летчики считают, что на детском мероприятии в парке Воронежа вряд ли кто-то уцелел. Отличился экипаж из первой группы 27-ой бомбардировочной эскадрильи «Бёльке». Хейнкель-111.
–Мой фюрер, три сотни русских детей разорвало в клочья, – добавил начальник службы военной разведки и контрразведки адмирал Канарис. – Но несколько раненых там всё-таки есть.
–Жаль! Война против России должна быть как можно более жёсткой! Это борьба между двумя различными идеологиями и двумя расами, поэтому её необходимо вести с неслыханной доселе жестокостью. Я ведь прав, Кейтель? Ваш приказ войскам от 16 сентября 41-го года о беспощадном уничтожении партизан хорош! Ну–ка!
И генерал-фельдмаршал Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта, радостно кивнув, процитировал по памяти:
–«Следует иметь в виду, что человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены, и что устрашающего действия на непокорное население можно добиться лишь с помощью исключительно жестоких мер. Искуплением за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна служить смертная казнь 50–100 гражданских лиц. Изощрённые способы этих казней должны увеличивать степень устрашающего воздействия».
Наконец, все присутствующие перевели дух. Потому что на лице фюрера появилась скупая улыбка.
Это было особо представительное совещание, так как на нём должны были быть окончательно зафиксированы параметры предстоящего генерального наступления. Кроме Геринга, Кейтеля и Канариса здесь были: начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер, начальник штаба оперативного управления Верховного командования вермахта генерал-лейтенант Йодль, начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Хойзингер, Генерал-квартирмейстер Вагнер, начальник 12-го отдела Генштаба «Иностранные армии востока» полковник Гелен. Кроме того, на совещание были приглашены все армейские высшие чины, которым предстояло воплотить в жизнь план наступления: командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Бок, начальник штаба группы армий «Юг» генерал пехоты фон Зоденштерн, командующий 1-й танковой армией генерал-полковник фон Клейст, командующий 2-й полевой армией генерал-полковник барон фон Вейхс, командующий 4-й танковой армией генерал-полковник Гот, командующий 6-й армией генерал танковых войск Паулюс, командующий 17-й армией генерал-полковник Руофф, и от военно-воздушных сил – генерал-полковник фон Рихтгофен, командующий 4-м воздушным флотом.
Обстановка на фронте благоприятствовала новому немецкому генеральному наступлению. Были одержаны победы у Харькова и Курска, близилось взятие Севастополя; продвинулись вперед румыны; окруженная группировка у Волхова доживала последние дни. Исходя из этой ситуации, Германским генеральным штабом в строжайшей секретности была разработана трёхэтапная наступательная операция «Зигфрид», которую Гитлер из суеверных соображений велел переименовать в «Блау».
Фюрер был уверен в успехе наступления, но после досадной неудачи у Москвы, которая должна была быть захвачена в соответствие с планом «Бабаросса», считал неправильным называть военные операции именами героев эпоса. Название же «Блау» вполне подходило, потому цель её первого этапа – город Воронеж, находился меж двух рек – синих стихий, Дона и реки Воронеж.
Воронеж был важным военно–промышленным и экономическим центром, а также узлом транспортных коммуникаций Центральной России. Через него проходили шоссейные и железные дороги, а по рекам – водные пути, идущие в направлении с севера на юг, от Москвы – к Азовскому, Черному и Каспийскому морям.
–И всё же мы должны учитывать возможный обратный эффект на бомбёжку детского парка в Воронеже. Теперь многие наши солдаты рискуют быть истребленными там разъяренными горожанами.
Это был известный своими бестактностями начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер. Фюрер, всегда терпимо относившийся к фрондёрству полезного своей въедливостью Гальдера, лишь повел бровью в его сторону и брезгливо поморщился. В данном случае это означало: «Великий Рейх и его солдаты сумеют взять за горло эту слабую нацию».
Адольф Гитлер не вёл счёт своим маскам. Их у него были десятки, на все случаи жизни. В течение своей непростой политической карьеры, которая, по его личному мнению началась ещё в окопах 1-й мировой войны, он научился умело маскировать свои страхи и неуверенность произвольными выражениями лица, приличествующими моменту. Со временем маски стали не просто его помощниками, а частью его сознания и, «надетые» в нужный момент, мгновенно настраивали его самоощущение на нужный сценарий: особенно проницательного, особенно умного, особенно благожелательного к тем, кто искренне повиновался его воле. Единственное человеческое чувство, для которого у Гитлера маски не имелось за ненадобностью, была жалость. Он знал, что даже если одна из его любимых кошек посмеет его укусить, он без малейших сомнений прикажет её убить.
Гитлер уважал и ценил себя, считая, что все его планы и решения внушает ему высшая земная сущность, более влиятельная, чем тот бог, которому поклоняются обычные люди. И всё-таки, время от времени, страх и неуверенность, жившие в глубине существа фюрера, давали о себе знать, мучая его тело недомоганиями, рождая в его мозгу сомнения в своей гениальности и безнаказанности.
После поражения под Москвой у Гитлера начали даже время от времени появляться не подкреплённые настоящими болезнями боли в животе, тошнота, головокружения, он стал периодически страдать от бессонницы, испытывать общую слабость. Всё чаще у Гитлера стали отекать ноги и руки. Поэтому, чтобы избежать неловкой ситуации во время выступлений, он завёл правило перед публичными мероприятиями принимать уколы экстрактом белладонны. Это было хорошей профилактикой от психосоматических болей и также способствовало приливу энергии, необходимой фюреру немецкого народа, чтобы речами, больше похожими на непрерывный крик, приводить толпу в патриотическое возбуждение.
Правда, приёмы белладонны иногда приводили к тому, что фюрер вдруг начинал искать в себе несуществующие болезни. Так, в конце прошедшей зимы ему вдруг стало казаться, что он начал полнеть, и что врачи, чтобы ему польстить, фальсифицируют результаты взвешивания. А лишний вес он считал недопустимым, так как его образ, любимый народом, не должен был изменяться ни в малейшей степени.
«О моей полноте не может быть и речи! Только представьте меня с пузом! Это поставит крест на моей политической карьере!» – заявил он тогда Герингу, не обращая внимания на явную комичность ситуации, так как рейхсмаршал давно уже растолстел до неимоверных размеров.
Несколько дней Гитлер ежедневно запирался в своих покоях и, раздевшись догола, рассматривая в зеркале своё худое тело, ища признаки ожирения. Он их так и не обнаружил, но всё равно решил, что не просто так чувствует в себе процесс набирания веса. И с этого момента он стал более внимательно относиться к своему питанию.
Гиммлеру было приказано устроить шеф-повару фюрера автомобильную катастрофу, а остальных поваров отправить в концлагерь. Новый штат кухни главы нации составили профессиональные диетологи. Затем, по приказу Гитлера, его личные врачи приготовили для него очень сильное слабительное, гарантирующее быстрое сбрасывание веса в том случае, если бы он начал полнеть.
И всё равно, частенько во время приёма пищи, фюрер приказывал убрать то одно, то другое блюдо по причине того, что это кушанье ему слишком нравилось.
Несмотря на все принимаемые меры – соблюдение диеты, создание в его покоях специального климата, введение порядка позитивного информирование фюрера о делах государства, он так и не смог обрести устойчиво комфортного душевного и физического состояния. Что приводило к резким перепадам его настроения.
С весны 1942 года Гитлер чаще стал испытывать непонятные для него самого приступы ярости. Эти эмоциональные всплески не было следствием депрессивных состояний, так как объективная ситуация на фронтах и в Рейхе давала ему все основания считать 1942 год годом предстоящих решающих побед. Просто у Гитлера вдруг возникало неодолимое желание карать.
Сначала это казалось ему слабостью, с которой он не мог справиться. Но затем ему пришла в голову утешительная мысль о том, что эти импульсы – тоже свидетельство его божественного предназначения. Ведь, как и каждому воплощённому божеству, и ему должны были приноситься жертвы.
В такие моменты он вызывал к себе Гиммлера и своих астрологов и после «математического совещания», как он это называл, назначал количество внеплановых ликвидаций в концлагерях.
–Вы отметились очередной бестактностью, Гальдер! – сказал Гитлер, чуть повышая голос. – Вы должны брать пример с генерала Хота! Никакой пощады врагу! Никогда! Больше жестокости, генерал! Мы, избранный народ, исполняющий божественное предназначенье. Уничтожая непокорных Германии, мы выполняем волю высшей силы!
Гитлер окинул собравшихся быстрым взглядом. Лица присутствующих выражали полное согласие с его словами. Фюреру этого было достаточно, так как на искреннее единомыслие с ним большинства генералов Генштаба он давно уже не рассчитывал. Так, Гитлеру были известны от Гимлера некоторые их частные разговоры, в которых осуждалась чрезмерная жестокость солдат Вермахта к населению завоёванных территорий. Кое-кто даже допустил презрительные высказывания в адрес бывшего командующего 17-й армии Хота, который в 1941 году подписал приказ для своих офицеров, согласно которому, «здравое чувство мести и отвращения ко всему русскому должно не подавляться у солдат, а напротив, всячески поощряться». Узнав об этом, фюрер воскликнул тогда: «Молодец Хот!» и приказал министру пропаганды Геббельсу сообщить об этом всему народу.
Несмотря на выволочку Гальдеру, Гитлер, считавший его высоким профессионалом в деле военного планирования, дал ему возможность сделать доклад.
Открыв папку, полную бумаг, генерал своим обычным скучным тоном принялся излагать пункты плана «Блау». Как всегда его доклад был чётким и логичным.
«Блау-1» – первый этап операции «Блау», который должен был начаться 27 июля, заключался в наступлении войск левого фланга группы армий «ЮГ» генерал-фельдмаршала фон Бока с целью захвата Воронежа и взятия под контроль средней части реки Дон. Задачи этапа «Блау-1» поручались наступавшим из района Курска немецким 4-й танковой и 2-й полевой армиям и 2-й венгерской армии. Эта часть группы «Юг» получила наименование группа «Вехйс», так как её было поручено возглавить командующему 2-й полевой армией генерал-полковнику фон Вейхсу. Авангардом и главной ударной силой операции «Блау-1» являлась 4-я танковая армия генерал-полковника Гота.
Город Воронеж, в рамках общей операции «Блау», должен был стать опорным пунктом фронтового прикрытия войск правого крыла группы «Юг», которым предстояло осуществить следующий этап наступления – операцию «Блау-2». Основой этой группы была 6-я полевая армия генерала Паулюса, которую поддерживали 8-я итальянская и 3-я румынская армии. Группа выдвигалась из района Харькова в направлении Острогожска, а затем – Сталинграда.
Что касается этапа «Блау 3», целью которого является захват Кавказа, его проведёт группа генерал-фельдмаршала Листа, состоящая из немецких 1-й танковой и 17-й полевой армий. После взятия Сталинграда и установления контроля над перевозками по реке Волга, в подкрепление группы Листа должны быть отправлены танковые части, подчинённые генералу Паулюсу.
Подготовка к началу операции «Блау» завершена. В район Курска, уже выдвинуты шесть немецких дивизий, переброшенных на советско–германский фронт с запада: 323-я, 377-я, 383-я и 387-я пехотные дивизии, 24-я танковая дивизия, моторизованная дивизия «Великая Германия», а также 2-я венгерская армия. Сюда в ближайшие дни будут переведены из группы армий «Центр» 11-я и 9-я танковые дивизии и 3-я моторизованная дивизия.
В район же Харькова переброшены с запада 23-я танковая и шесть пехотных дивизий – 305-я, 336-я, 370-я, 376-я, 384-я и 389-я, а из группы армий «Центр» – 29-я моторизованная дивизия.
Динамика начала операций «Блау-1» и «Блау-2» заключалась в нанесении двух ударов по частично сходящимся направлениям, в результате чего должны были быть в течение трёх недель окружены и разгромлены советские войска на воронежском направлении, взят город Воронеж, и к югу от него, на протяжённом участке Дона – до Новой Калитвы захвачены плацдармы. Это обеспечит поворот танковых дивизий группы «Вейх» на юг и присоединение их к войскам генерала Паулюса.
План был прекрасен. Гитлер едва удержался от радостного восклицания. Но остальные участники совещания, увидел довольную гримасу на его лице, дружно зааплодировали.
–Вот видите, Гальдер, теперь вы и сами понимаете, что ошибались, когда ранее предлагали мне немедленно повторить наступление на Москву! Захват средней части Дона, а затем Сталинграда и Кавказа являются гарантией успеха последующего наступления на Москву. После их захвата, мы именно из района Воронежа нанесём сокрушительный удар в северном направлении. А те войска, которые сейчас находятся у Смоленска, эффективно поддержат этот удар. Стратегическая инициатива есть и будет в наших руках!
–Мои данные свидетельствуют, что русские не смогут быстро создать против 4-я танковой армии концентрированный кулак, – доложил Канарис. – К тому же большая часть их авиации сосредоточена на аэродромах в отдалении от линии Курск – Воронеж. Все сообщения наших резидентов в тылу противника однозначно свидетельствуют, что русские не смогут противостоять удару на Воронеж.
–План «Блау» несомненен, мой фюрер! – вставил Кейтель. – Советский Союз будет, фактически, обескровлен и сломлен, когда мы возьмём под контроль Волгу и Дон и захватим Кавказ.
Насчёт возможности полностью обескровить Красную Армию в результате операции «Блау» Кейтель солгал, и Гитлер это знал. Он был прекрасно осведомлен о конфликте в разведывательном отделе Генерального штаба. Часть генералов даже приняли решение подать фюреру докладную записку, в которой утверждалось, что без взятия Москвы и всех городов на северо-западе России немецкие войска не смогут ослабить Красную Армию до такой степени, чтобы наступил её военный крах. Гальдер лично остановил эту фронду, порвав докладную записку, однако, разделяя мнение сторонников нового наступления на Москву, он не раз отстаивал эту идею в разговорах с фюрером.
–Мне нужна нефть Кавказа и Волги! – бросил Гитлер, внимательно наблюдая за спокойным лицом Гальдера. – Я неоднократно говорил об этом и повторил её первого июня на совещании в штабе группы армий «Юг» в Полтаве. Районы добычи и транспортировки нефти жизненно необходимы русским. Лишившись их, они лишаться и своей промышленности. Она попросту встанет, и нам не потребуются затем слишком большие усилия, чтобы истребить их армии, оставшиеся без танков и транспорта. Операция «Блау» – смертельный удар по Советскому Союзу. Когда мы её завершим, Сталина некому будет защищать. Мы посадим его в клетку и выставим на всеобщее обозрение в Берлинском зоопарке! Что скажете, Гелен?
–Русские не готовы к нашему удару на Воронеж, – ответил полковник Гелен, стараясь придать живость своему взгляду. – Они как раз и ожидают нашего удара на Москву.
В этот момент Гелен искоса посмотрел на Гальдера. Игра взглядов продолжалась. Гитлеру показалось, что на лице полковника мелькнуло остерегающее выражение.
–Мы пытаемся точно определить вражескую группировку перед Москвой, – продолжил Гелен. – В обеспечение операции «Блау» Генеральный штаб выполняет большую работу по дезинформации русских о предстоящем наступлении на Москву. В том направлении отправляется много порожних воинских эшелонов, в немецких радиосетях допускается ведение в открытую разговоров о планах этой мнимой операции. Есть, правда, сведения о том, что русские намереваются и сами атаковать нас на центральном участке фронта. Но это не может произойти ранее 27 июня.
–Генерал Йодль 10 мая высказывал опасения, что русские могут нанести удар на севере, сразу же после того, как узнают, что немецкие танковые части будут отправлены на юг.
Эти слова Гальдера вмиг обрушили настроение фюрера. В зале совещания установилась тишина. Все ждали, гневной реакции фюрера, которая могла выразиться и в немедленной отставке начальника Генерального штаба сухопутных войск.
–Извините, мой фюрер, но вы должны знать, – хладнокровно продолжил Гальдер. – Задержка с захватом Москвы, то есть с разрушением единого управления Россией, может быть очень опасна для Германии, даже если будут захвачены нефтяные месторождения юга. Генеральный штаб располагает множеством свидетельств с фронтов о том, что эти гунны готовы воевать с нами даже голыми руками. А в наших войсках после потерь в зимних боях уже слишком много слабо обученных новобранцев. Не хватает и техники, в том числе танков. По расчёту Генерального штаба, чтобы окончательно разгромить все оставшиеся у русских войска, мы должны довести количество наших танков на русском фронте хотя бы до уровня 1941 года – то есть до трёх тысяч единиц. И, главное, необходимо быстрее восполнять недостаток танковых и иных снарядов, расходуемых в боях.
–О снарядах, это правда, генерал Вагнер? – жёстко проговорил Гитлер.
Генерал-квартирмейстер, благостное лицо которого напоминало лицо бухгалтера, тут же принялся докладывать о состоянии дел в войсках. В отличие от Гальдера, его голос был хорошо поставлен.
–Мой фюрер, положение со снабжением армий на всех фронтах весьма удовлетворительное. Лимит горючего для наступления сформирован в соответствии с обозначенным лимитом. Что касается боеприпасов – действительно, запас снарядов на складах недостаточен. Особенно танковых. Но это – вина промышленности. Если она будет так же медленно восполнять израсходованные в боях ресурсы, то, по всем расчётам, нужный объём снарядов для операции «Блау» удастся поддерживать только до середины сентября. Это значит, интенсивность наступательных операций после сентября будет ограничена.
–Людские силы?
–Что касается восполнения людских потерь, то мобилизация в Германии идёт в плановом порядке. Полностью восполнены потери немецкой армии на русском фронте, которые в период, которые в период с 22 июня 1941 года по 12 июня 1942 года составили 1 299 784 человек…
–Эти цифры меня не интересуют! – Гитлер резко махнул рукой. – Ещё Фридрих Великий говорил, что немецкий солдат должен быть готов умереть без всяких условий! Вы, Вагнер, настоящий мерзавец! Вас нужно повесить! Но не за то, что вы говорите, а за то, как вы это говорите. Силу Рейха нельзя считать, как зерно в амбарах! Наши солдаты, даже плохо обученные новобранцы, на порядок сильнее всех этих варваров! Мы только что преподали им очередной урок, под Харьковом. Русские войска слабы, в самой их тактике с начала войны ничего не изменилось. Они не умеют организовывать взаимодействие пехоты и танков. Русские ведут бой живой силой и достигают успеха только за счет колоссальных людских потерь. Это не армия, а стадо баранов! Наше дело лишь правильно организовывать войска, продумывать действия танковых сил, которые должны преследовали отходящего противника даже по ночам, не давая ему опомниться. Слышите, Вагнер? Вот стоят командующие танковыми армиями – они подтвердят мои слова!
–Да-да, по опыту танковых боев с русскими стало ясно, что тактика выжидания и заманивания противника в огневой мешок гораздо эффективнее, чем стремительные атаки, – сказал генерал-полковник Гот. – Теперь мы учитываем и то, что при наших прорывах, русские пытаются устраивать танковые и артиллерийские засады. Этой тактике мы противопоставляем фланговый охват.
И снова в зале совещания установилась тишина. Даже Гальдер больше не пытался выступить со своим мнением. Гитлер ждал, что начальник Генерального штаба напомнит ему о том, что, вопреки всем прогнозам немецких военных аналитиков, русские продолжают увеличивать количество выпускаемой военной техники, что вместо каждого их сбитого самолёта на фронт отправляется два, что выпуск русскими танков достиг уже 1200 единиц в месяц – намного больше всех танков, выпускаемых за месяц промышленностью Германии и её союзников. И, главное, о чём мог сейчас сказать Гальдер, чтобы заслужить немедленную отставку – то, что, судя по полученным из разных источников разведданным, согласно планам советского командования, в 1942 году, в районах севернее Сталинграда и западнее Волги будет сконцентрирована группировка войск численностью в миллион солдат, и ещё пятьсот тысяч будет собрано на Кавказе.
Но Гальдер благоразумно молчал, и Гитлер, не очень хотевший отправлять в отставку полезного ему генерала, сделал вид, что удовлетворён ходом обсуждения. Он снисходительно относился к таким людям, которые хорошо умеют считать и планировать, но не способны понять великую божественную предопределённость, которой нет дела до размеров армий и количества боеприпасов. Лишь план небес определял теперь путь, успех, славу, которые предстояли Германии и её фюреру.
Дальнейший разговор об операции «Блау» проходил в деловой форме. Теперь он касался её деталей, и не затрагивал вопросов общей стратегии Рейха.
Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Бок попробовал убедить фюрера в том, чтобы в случае затяжки боёв за Воронеж, немного задержать там танки Гота и отправлять их к Паулюсу лишь после полного захвата Воронежа. Но Гитлер, у которого уже не было настроения что-либо доказывать, попросту проигнорировал слова фон Бока и перешёл к другому вопросу.
С разрешения Гитлера слово снова взял Генерал-квартирмейстер Вагнер. Совершенно спокойным голосом клерка – словно и не его фюрер только что обещал повесить, Вагнер сообщил, что войска уже обеспечены большим количеством специального психостимулятора первитина, который в период боевых действий могут принимать все солдаты, желающие «подавить свой страх и укрепить решимость сражаться».
–С надёжностью солдат всё в порядке, – добавил Вагнер. – А вот насчёт надёжности техники. В моторизованных дивизиях группы «Вейхс» из-за не слишком бережливого отношения к автотехнике, она часто выходит из строя, поэтому выход этих дивизий на рубежи наступления отстаёт от графика на один день.
–Задержка произошла из-за союзников! – резко произнёс генерал-полковник Вейхс.– Нам постоянно приходится помогать венграм автотранспортом для подвоза их войск. Только благодаря нашим тыловикам венгерские войска уже почти сосредоточились в указанных им районах.
–Если будет необходимо, мы сдвинем дату наступления на один день – к 28 июня, – Гитлер махнул рукой. – А что касается союзников, уверен, они нас не подведут! Хорти хорошо воспитывает своих солдат. Они умеют приструнить местное население. Не немцам же заниматься всей грязной работой, не так ли?
Глава 3. Дело разведки
Место на опушке леса, выбранное капитаном Ермаковым для наблюдения за дорогой на Волчанск было удобным и безопасным. Отсюда до тракта, проходящего у расположенного на западном берегу Северного Донца городка Рубежное, было около километра – слишком далеко, чтобы солдаты из движущихся мимо колонн 2-й Венгерской армии бегали сюда по нужде; вражеские же части были видны с опушки как на ладони, даже несмотря на зарядивший с утра моросящий дождь.
Группа фронтовой разведки Брянского фронта в количестве 6 человек была отправлена в этот район, чтобы проверить информацию об усилении венгерскими частями немецких войск, находящихся на линии фронта. Было известно, что к началу весты 1942 года в оккупированных немцами районах СССР, в основном на южной Украине находилось большое количество войск их союзников: 8-я итальянская армия, 6-я румынская армия, хорватские и словацкие части. А в апреле, вместо разбитой в ноябре 1941 года венгерской армии, на территорию СССР была введена из Венгрии новая армия, более многочисленная и лучше вооружённая. Войска союзных немцам стран теперь, как правило, выполняли полицейские функции в немецком тылу. Однако по поводу 2-й Венгерской армии у советского командования появилась информация о том, что она начала выдвигаться к линии фронта – на участке советской 40-й армии.
Командиром разведгруппы был назначен капитан Ермаков, так как он знал венгерский язык – выучил его до войны, вместе с немецким, во время учёбы на филологическом факультете Московского Государственного университета. Когда в июле 1941 года журналиста Ермакова мобилизовали и направили в школу разведки, её начальник спросил у него, почему он выбрал именно венгерский язык. Ермаков честно ответил, что им двигало любопытство, так как где-то он вычитал, что венгерский считается третьим по трудности языком в мире – после китайского и русского.
За весь прошедший период войны венгерский язык Ермакову ему не понадобился; в разведывательных рейдах по тылам противника ему помогало лишь хорошее знание немецкого. Поэтому, это новое задание пришлось Ермакову по душе.
В ночь на 18 июня 1942 года их выбросили с парашютами в тыл немцам, в лесной район к западу от райцентра Волчанск. Все разведчики Ермакова были в полевой форме венгерских пехотинцев; вооружены они были немецкими автоматами МП–38. Их командир был одет в форму венгерского майора; автомата он с собой не взял – только немецкий пистолет «Вальтер» в кобуре.
Это была уже шестая группа Ермакова. Предыдущие истаивали после второго–третьего задания, которые у фронтовых разведчиков чаще всего бывали сверхсложными. Ермаков и сам не знал, почему он, не самый умелый боец, каждый раз возвращался из разведки целым и невредимым, а его люди, сильные, хладнокровные, хорошо подготовленные один за другим натыкались на пули, подрывались на минах, погибали от удара штыком в рукопашных схватках. Порой, его за везение называли счастливчиком, что очень злило капитана, так как он всегда болезненно переживал гибель товарищей.
После разговора с мудрой Софьей Павловной, матерью Эльзы, лучшей девушки на свете, Ермаков как будто понял, что за удача его берегла. Он, действительно, как-то умел слышать ритм войны, сердцем чувствовал его каждую секунду, каждое мгновение, предвидя направленный в него удар; знал наперёд, где его должна была ждать опасность.
Пятеро его новых товарищей нравились ему, казались вполне опытными, надёжными, понимающими все писаные и неписаные правила разведки. Ходили они тихо, мгновенно реагировали на шум, оружие держали в руках так, чтобы в любой момент применить его в случае необходимости. Здоровяки Степан и Серго; красавец Иннокентий, подвижный как хорь; радист Павлик; улыбчивый Клим, мастер спорта по боксу – они были отличной командой. Ермаков очень надеялся, что его новое задание, которое не казалось слишком уж сложный, для каждого из них окончится благополучно.
Войска у Рубежного шли, шли и шли. Советские самолёты здесь не появлялись, и потому ничто не прерывало ровное движение солдат, одетых в венгерскую форму, артиллерийских тягачей с разнокалиберными орудиями и групп танков, маленьких даже по сравнению с советскими лёгкими танками Т-60.
По мере того, как Ермаков в бинокль наблюдал за солдатами Хорти, он убедился, что они ведут себя на марше не как немцы. Те всегда держались уверенно, почти деловито; даже когда солдаты Вермахта пересмеивались, или пели песни, было видно, что на чужой для них территории они просто делали свою работу, словно подёнщики, идущие на сельскохозяйственные работы. Лишь немцы–эсэсовцы, как правило, имели строгий, надменный вид, держались горделиво, как хозяева. Большинство же венгров, хотя и старались выглядеть уверенно, смотрели на окружающие их чужие поля, леса, дома с плохо скрываемой опаской или с заметным удивлением.
Ермаков отметил для себя, как заметно оживлялись некоторые венгры в те моменты, когда они слышали расстрельные залпы, раздающиеся с территории завода, находящегося на краю Рубежного. То, что это были именно расстрелы, и венграм, и Ермакову было ясно по поведению немцев зенитного поста у дороги, которые на выстрелы никак не реагировали.
Рубежное, как и Волчанск, немцы захватили недавно, 10 июня, и видимо, всё ещё занимались выявлением там коммунистов, комсомольцев и евреев. Может быть, там расстреливали и пленных.
За день 18 июня и в течение ночи на 19-е, мимо Рубежного прошло около трёх бригад 2-й Венгерской армии. А в середине дня 19 июня пехотных частей на дороге стало заметно меньше – теперь там, в основном, двигались гужевые обозы и отдельные грузовые машины. Всё это означало, что к передовой, к участку обороны 40-й армии Брянского фронта проследовал только один из трёх венгерских корпусов, по поводу каждого из которых было известно, что в его составе только две неполные пехотные бригады, гордо именуемые дивизиями.
Где теперь находились ещё два корпуса 2-й Венгерской армии было непонятно. Они могли двигаться к передовой с отставанием, или, возможно, командование направило их к каким-нибудь другим участкам фронта.
Ситуация требовала, чтобы разведчики взяли на дороге «языка». Эту часть разведрейдов Ермаков не любил. «Языков», даже самых откровенных, разведчикам после допросов приходилось ликвидировать, чтобы затем группе можно было тихо уйти.
В три часа дня Ермаков и Клим спокойно вышли к дороге в стороне от их недавней наблюдательной позиции. Здесь до леса было всего около пятидесяти метров.
Управлявшие возами солдаты равнодушно смотрели на стоявших под дождём майора и рядового. Честь майору, правда, они отдавали.
Напустив на лицо раздражённую мину, кутаясь в венгерскую камуфлированную плащ-накидку, Ермаков оглядывал проезжавшие мимо машины, выбирая нужную. Проверок в случае появления армейских жандармов он не боялся – документы у него и у Клима были вполне надёжные, да и в своём знании венгерского он был уверен. Более того, находясь теперь среди многочисленных врагов, которые мгновенно убили бы его, узнай, кто он на самом деле, Ермаков испытывал не очень правильное для разведчика чувство азарта, возбуждения игрой на грани.
Лицо Клима было равнодушно, как и положено опытному солдату, однако, Ермаков был уверен, что это спокойствие даётся парню нелегко.
Снова со стороны дальней окраины Рубежного донёсся залп, почти слившись с грозовым раскатом. Не сдержавшись, Клим едва слышно матерно выругался и зло тряхнул автоматом. Заметив, что солдат, управлявший ближайшей телегой, покосился на него, Ермаков тут же с довольной улыбкой обернулся к Климу и небрежно махнул рукой в направлении завода.
–Ты лучше стой и молчи! – сказал он ему. – Нервничать будешь потом.
–Я понял. Извини, командир! – ответил Ким и растянул бледные губы в улыбке.
Вдалеке над лесом прогрохотал гром.
–Хорошо хоть в дождь их самолёты над головой не носятся! Да, господин майор? – по-немецки сказал Клим.
–Дождик – это хорошо! И диверсантам в лесу в дождь тяжелее.
В этот момент, Ермаков увидел, то, чего ждал. Вдалеке среди обозных повозок показался маленький итальянский грузовичок SPA SL39, в кабине которого рядом с водителем сидел офицер. Такие грузовички Венгрия в больших количествах закупала у Италии для использования в войсках.
Когда до машины оставалось два метра, майор сердито махнул её водителю рукой. Машина остановилась, из неё выскочил молодой пехотный лейтенант в высокой пилотке и отдал честь, вытянувшись в струнку.
Водитель остался сидеть в кабине. Судя по чёрно-зелёному султану его кепи, металлической горжетке – полумесяцу с гербом Венгрии и двум маленьким белым шестиугольным звёздочкам на красных петлицах, это был капрал военной полиции. На груди капрала висели на треугольных планках два венгерских наградных знака времён 1-й Мировой войны: наградной крест «За нахождение на фронте и непосредственное участие в боевых действиях» и медаль «За храбрость».
–Я – офицер связи штаба армии! – отчеканил майор, гневно косясь на Клима. – Но мой водитель вгонит меня в гроб! Мне нужна помощь, лейтенант. У меня красивая машина – немецкий «Опель», и этот олух уверил меня, что для скорости можно и в дождь по опушке леса колонны объехать!
–Завязли? – спросил лейтенант, с уважением глядя на штабной аксельбант, выглядывающий из-под края плащ-накидки майора.
–Засели там, как гуляш в ж…! Нужно вытянуть мою машину на буксире. Если, конечно, ваша потянет «Опель».
Почему-то Ермакову вдруг до тошноты в груди захотелось, чтобы офицерик назвал причину, по которой они с капралом не смогут оказать требуемую помощь. Но лейтенант с готовностью уступил майору место к кабине и, поманив «немца» пальцем, полез в укрытый брезентом кузов.
–Туда, капрал! – приказал Ермаков водителю, показывая на опушку леса.
Машина, немного повозившись, повернула, тяжело съехала с дороги и, перекатываясь через луговые бугорки, двинулась к лесу.
–Хорошие медали, капрал! – сказал Ермаков. – А у меня пока только офицерский знак.
–Тоже красиво, – без улыбки ответил капрал.
Кажется, он хотел ещё что-то сказать, но промолчал.
Вскоре машина въехала в дубовый бор. Она продавилась через мокрые кусты в ту сторону, куда указывал майор и встала.
–Дальше не едем, – спокойно сказал Ермаков, поднимая к виску водителя пистолет. – Выходи!
Тот, кажется, ничуть не испугался. Понимающе кивнув, капрал вышел из кабины, оставив там свой карабин, и встал возле машины под дулами вышедших из-за деревьев разведчиков. В этот момент в кузове началась какая-то возня, кто-то гневно вскрикнул, и тут же голос надломился.
Тяжело дыша, из кузова выбрался Клим.
–Как рысь на меня прыгнул! Я не ожидал. Худой, а такая хватка. Простите, командир, нет у нас языка!
И бросил на землю окровавленный нож.
Ермаков перевёл взгляд на капрала. Тот по-прежнему был невозмутим. Его взгляд был теперь направлен мимо людей, скользил по листьям ближайшего дуба, на которых играли проникающие через густые кроны многочисленные солнечные лучики.
–Забавный дядька! – сказал радист Павлик. – Что будем с ним делать, капитан?
–Имя, фамилия, часть! Быстро! – приказал Ермаков капралу по-венгерски.
Тот глянул на него исподлобья и чётко ответил по-русски:
–Капрал Ласло Таваши. Венгерская военная жандармерия. Денщик подполковника графа Ференца Сабо. Приписан к 7-й Венгерской пехотной дивизии 3-го армейского корпуса. А лейтенант – взводный из 35-го полка. Когда я по делам графа разъезжаю, он всегда посылает со мной младшего офицера. Я ведь всего лишь капрал.
–Знаешь язык противника? – Ермаков одобрительно кивнул капралу.
–На той войне выучил. Мы с графом тогда на русском фронте служили, тоже по жандармской линии. С пленными часто разговаривать приходилось.
–Ответишь нам на несколько вопросов, капрал?
–Отвечу. Почему нет?
Через час трофейная машина, с трудом вместившая в себя семь человек, с Климом в роли водителя, была отведена вглубь леса, на пять километров от дороги. Степан и Серго по приказу командира, сразу же ушли в разные стороны, в дозор. Клим выгрузил из кузова десять ящиков с бутылками и какими-то итальянскими консервами, потом снял с борта грузовичка закреплённую на нём лопату и в стороне принялся копать могилу для лейтенанта. Павлик начал настраивать рацию. А Иннокентий снял с пленного ремень с патронной сумкой, быстро обыскал его, усадил на пенёк и встал рядом с автоматом в руке.
В карманах капрала оказались военная книжка, карандаш, транспортная и складская накладные и перочинный ножик.
–Что за вино? – спросил Ермаков, усаживаясь напротив пленного на кочку.
–токайское. В Харьков из имения графу прислали. А итальянскую ветчину я заодно получил там, на складе, по сертификату хозяина.
–Подполковника?
–Да. Я из крестьян имения Сабо, с Ференцем в денщиках с 1914 года, когда ещё старый граф был жив. Ференц из имения лейтенантом кавалерии за приключениями на русский фронт отправился и меня с собой взял. Он всегда был слабоват, а у меня кулак тяжёлый, со мной на войне поспокойнее.
–Ты, видно, хозяина своего не слишком любишь.
–За что мне его любить? Злой он к людям и меня за человека не считает. Хотя служу я ему честно – на той войне он без меня, пожалуй бы, не выжил.
–А на этой?
Чёрные глаза капрала чуть прищурились, словно он сдерживал улыбку.
–Ференц уже знает, что на войне небезопасно. Хотя за идею великой Венгрии он горой. Он уже сам граф и в 41-м году нашёл себе должность в Будапеште. Но теперь Хорти всех подряд во 2-ю армию направляет. Так мы с графом снова на войне и оказались.
Да, этот пленный был даже более интересен разведчикам, чем сопровождавший его лейтенант. Неглупый денщик, а на самом деле, личный слуга влиятельного подполковника жандармерии, не мог не быть в курсе всех его дел и, наверняка, при нём граф не боялся вести самые секретные разговоры. Но чем дольше длился этот разговор, тем мрачнее Ермаков становился. Венгерский капрал, спокойный, разумный, вызывал симпатию, но это не могло спасти ему жизнь. Причём, и сам он это, видимо, хорошо понимал.
Прервав допрос, Ермаков направился к Климу, который уже заканчивал свою работу. Тело лейтенанта же было почти полностью прикрыто землёй, лишь пергаментное лицо и одна рука были ещё видны.
–Дурное дело, – сказал Клим командиру. – Мальчишка ещё. Не повезло ему.
–Нам всем с этой войной не повезло!
Ермаков прошёл дальше, остановился на небольшой полянке между тремя дубами и поднял лицо под дождь. В этом месте шум дождя немного усиливался, к нему добавлялся резковатое шуршание дубовых крон, удары капель по лужам, натёкшим меж древесных корней и ещё похожие на вздохи странноватые звуки колышущегося под дождём дерна, сквозь который то там, то здесь восходили продавливающиеся из глубин земли воздушные сгустки. Время от времени к этому шуму добавлялись птичьи вскрики.
Ермакову вдруг показалось, что человек словно бы лишний здесь, в этом природном царстве. Однако война тут же напомнила о себе. Где-то вдалеке раздался короткий жёсткий звук, похожий на удар металла о металл.
–Ладно! – пробормотал Ермаков. – Не в первый раз.
Услышав странное шуршание за стволом дуба, он обошёл дерево и остановился, восхищённый открывшейся ему картиной. На сухом участке ствола, куда через дубовую крону не проникали дождевые капли, сидело несколько десятков бабочек, образуя чудесный многоцветный узор. В основном здесь были бабочки «Павлиний глаз», но среди них, раскинув чёрные крылья с жёлтыми полосками, расположились и аристократы «Адмиралы». Украшенный бабочками участок непрерывно менял расцветку, так как они всё время шевелили крылышками и передвигались с места на место. Это был маленький праздник жизни, откровение природы, красивее которого в лесу ничего быть не могло.
Когда Ермаков вернулся к машине, пленный всё также сидел на пеньке, опустив руки к земле, лицо его было спокойным, задумчивым. Он снова начал охотно отвечать на вопросы командира разведчиков, и, хотя временами Ермакову казалось, что думает этот венгр совсем о другом, ответы пленного были чёткими, исчерпывающими.
Что он знает о частях 2-й Венгерской армии, которые были направлены от Харькова в направлении Волчанска? Подполковник сетовал, что к фронту пока идёт только 3-й венгерский корпус, а два других командующий армией генерал-лейтенант Густав Яни приказал пока остановить, так как из-за дурной организации движения колонн и неопытности командиров многие части отстали, повозки и машины поломались, а большое количество солдат попали в лазареты из-за мозолей и больных животов. По мнению подполковника, 4-й армейский корпус мог подойти к передовой лишь к концу июня, а 7-й, видимо, остался в тылу надолго – подполковник сильно ругался, поминая его. Какие части 3-го корпуса прошли к фронту? 22, 52-й пехотные полки 6-й дивизии, 4-й и 35-й пехотные полки 7-й дивизии и 17, 47-й пехотные полки 9-й дивизии. 1-я венгерская бронетанковая дивизия? Артиллерийские полки тоже уже прошли к фронту, ну и некоторые части венгерской 1-й бронетанковой дивизии. Венгерские танки? Все знают, что они ни в какое сравнение не идут с немецкими танками. Венгерская броня как ореховая скорлупа, потому пехотинцам в венгерской армии быть безопаснее, а танкисты там – настоящие смертники.
Еще через полчаса, когда после осмотра окрестностей к машине вернулись Степан и Серго вопросы Ермакова подошли к концу. Прочитав полученный от командира текст сообщения, Павлик просиял и склонился к рации. Задание было выполнено; теперь группа могла, наконец, двигаться на север, чтобы там выйти к заранее согласованному с разведотделом месту перехода линии фронта.
–Собираемся, командир? – спросил Серго, косясь на пленного.
–Да, скоро.
Ермаков вынул из валявшегося на земле винного ящика бутылку Токайского, а из другого – банку ветчины. Вложив бутылку в руку венгра, он принялся быстро открывать ножом консервную банку.
Капрал банку бросил на землю, а Токайское взял.
–Лучше мне теперь не есть, – спокойно пояснил он Ермакову. – Но хозяйское вино попробую. Теперь можно, чего уж!
Он ловким ударом о донышко выбил пробку, поднял бутылку к глазам, удовлетворённо крякнул и отхлебнул большой глоток.
–Хорошо! – сказал он. – Семьи я так и не нажил. Хоть вину ещё порадуюсь.
Бутылка вскоре опустела. Повинуясь взгляду командира, подошёл Степан и принялся вязать руки пленного.
–Пойдем, что ли! – сказал Степан, поднимая капрала на ноги.
Но в этот момент вдруг ойкнул Павлик, закончивший расшифровывать полученный из Центра ответ на посланное только что сообщение. В лице радиста, протягивающего командиру бумажку с текстом, не было ни кровинки.
Незадолго до этого, около четырёх часов дня 19 июня произошло событие, вызвавшее затем настоящую панику в немецком генеральном штабе. В районе Волчанска потерпел крушение вылетевший с харьковского аэродрома в расположение штаба 23-й немецкой танковой дивизии лёгкий самолёт «Физелер Шторьх», в котором находился начальник оперативного отдела штаба 23-й дивизии майор Райхель. Управлял самолётом обер-лейтенант Дехант. Это был опытный пилот, поэтому Райхель смог договориться с аэродромными службами дать ему разрешение на взлёт, несмотря на моросящий дождь. Но когда самолёт был примерно в 60 км к северо-западу от Харькова, уже недалеко от Волчанска, где располагался штаб дивизии, дождь вдруг резко усилился, а всё пространство над лесом накрыл плотный туман. Вскоре радиосвязь с самолётом Деханта прервалась.
Артиллерийские наблюдатели находящейся на переднем крае немецкой 336-й пехотной дивизии заметили над лесом к юго-западу от Волчанска резко снижавшийся самолёт, но «Физелер Шторьх» это, или нет, было непонятно.
Нервную реакцию в генштабе вызвало то, что у майора Райхеля был с собой портфель с полученным им в Харькове пакетом для штаба 23-й дивизии – от начальника оперативного отдела штаба 40-го танкового корпуса подполковника Гессе. Плотный конверт со знаком высшей степени секретности содержал план действий корпуса в рамках операции «Блау-1», а также графики и направления предстоящего движения частей, начиная с 28 июня, обозначенного в этих документах, как день начала генерального наступления. В пакете находился и приказ командира 40-го танкового корпуса генерала танковых войск Штумме о приведении частей в готовность к наступлению.
Сообщение, переданное из Центра группе Ермакова, было, явно, составлено впопыхах, так как, вопреки правилам формулирования текстов для разведгрупп, оно содержало фразу о «небывалом гвалте» в немецком радиоэфире по поводу аварийной посадки в лес на юго-западе от Волчанска самолёта немецкой штабной связи. Разведгруппе предписывалось отыскать этот самолёт и любой ценой захватить находящиеся там документы. Затем группа должна была выйти на связь, и к ней по указанным разведчиками координатам немедленно будут посланы самолёты У-2.
Один У-2 мог взять лишь одного пассажира. Сколько самолётов должны были прилететь за разведгруппой, не сообщалось. Но судя по фразе «любой ценой», в Центре не рассчитывали, что в этой операции уцелеют все члены группы.
Прочитав вслух сообщение, Ермаков обвёл взглядом стоявших перед ним товарищей. Но никто из них, даже всё ещё бледный радист, не выказал ни сомнений, ни, тем более, страха.
–Не знаю, что там за пакет, но я никогда не слышал, чтобы немцы из-за упавшего самолёта так волновались, – сказал Ермаков. – Видно, там действительно, очень важные документы.
–Я, кажется, слышал недавно, какой-то гулкий шум, во время дозора, – сказал Серго. – По звуку – километрах в шести–семи. Наверное, это был упавший самолёт.
–Значит, двинем туда, – тут же решил Ермаков. – Поедем на этой машине – как раз пригодилась. Лес здесь – дубовый, через него можно проехать.
–А, если там уже немцы или венгры? – спросил Павлик.
–Значить, хана им всем! – зло произнёс Клим. – Лишь бы эти, из самолёта не решили сами до своих добираться. Через лес недалеко.
–Не должны, – возразил Ермаков. – По правилам, секретчики, в случае аварии, ранены они или нет, должны оставаться возле самолёта. Так их легче найти поисковым группам.
–Вот мы их и найдём! – сказал Степан.
Лицо его приняло азартное выражение, что немедленно вызвало улыбки разведчиков.
–На нас венгерская форма – сможем подойти поближе, – вставил слово и Иннокентий. – А в ближнем бою нам легче.
Ермаков коротко кивнул, и разведчики, расценив это как команду, пошли к машине. На связанного капрала, которого Степан усадил спиной к дереву, никто даже не посмотрел. Все понимали, что раз командир никому не приказал заняться пленным, он решит всё сам.
–Когда я скажу, падай на бок! – сказал Ермаков, склоняясь над капралом. – Повезло тебе, брат. Теперь не страшно, если о нас расскажешь. Пока до своих доберёшься, о нас и так уже вся округа знать будет.
–Спасибо, русский! – прошептал удивлённый капрал. – Бывают такие чудеса.
Ермаков заслонил венгра от взглядов сидевших в машине бойцов, резко провёл ножом перед его лицом. Капрал упал на бок и закрыл глаза.
То, что происходило с ними в последующие полтора часа запомнилось Ермакову плохо, потому что с того момента, как Клим снова повёл машину через лес, Ермаков, как это бывало у него всегда в минуту реальной опасности, вдруг стал воспринимать окружающее лишь как набор связанных между собой задач.
Когда через полчаса движения вглубь леса, Ермаков вдруг почувствовал в воздухе горелый запах, он немедленно отдал группе приказ приготовиться к штурмовым действиям. Но возле небольшого самолёта, упёршегося носом в край заросшей кустарником прогалины, не было поисковой группы противника. А люди, летевшие в самолёте, никуда не ушли – один, укрывшись от дождя лётной кожаной курткой, стоял у самолёта, второй сидел в кабине на пассажирском сиденье за креслом лётчика.
Немцы радостно замахали руками, увидев венгерских союзников в выехавшей из леса машине. Обер-лейтенант люфтваффе пошёл навстречу вышедшему из машины Ермакову.
–Идентификация! – неожиданно для Ермакова произнёс лётчик. – Позывные майора Райхеля!
–Не знаем никаких позывных! – с обидой проговорил Ермаков по-немецки с венгерским акцентом. – Мы из Рубежного. У меня приказ командира 7-й венгерской пехотной дивизии проверить, что случилось с упавшим самолётом.
–У нас свои правила, господин майор. Согласно инструкции обращения со сверхсекретными документами, офицер, их перевозящий, может общаться только с лицом, которому сообщён идентификационный пароль.
Ермаков непонимающе уставился на люк самолёта.
–И что нам тогда делать?
–Прошу сообщить о нас в ваш штаб. Наверняка там уже знают, где находятся немецкие поисковые группы, которым сообщён пароль. А вашим людям прикажите взять самолёт под охрану.
Вдалеке явственно послышался шум нескольких моторов.
–Ну вот, ваша помощь нам, видимо, не понадобится, – сказал лётчик.
Ермаков с сожалением пожал плечами и кивнул Климу.
Коротким точным ударом тот всадил нож в грудь обер-лейтенанта и сразу же бросился к самолёту. Пилот, на лице которого застыло удивлённое выражение, упал вперёд, прямо на Ермакова, которому пришлось отшагнуть в сторону.
В этот момент из кабины самолёта раздалась автоматная очередь. Клим охнул и осел на землю. Позади Ермакова кто-то зло вскрикнул, но тот даже не оглянулся. Одну за другой он всаживал пистолетные пули в кабину. Раненый в руку немец выронил автомат, но тут же в другой его руке появилась граната на длинной рукояти.
–Огонь по кабине! Он сейчас уничтожит документы! – закричал Ермаков, пистолет которого был пуст.
Офицер уже срывал кольцо с конца деревянной рукояти, что-то бессвязно крича разведчикам через разбитое окошко самолёта. Но он не успел. Сразу десяток автоматных пуль впились в кабину, не менее половины из них ударился в немца.
В лесу протяжно завыла сирена. Ермаков вспрыгнул на подножку кабины и выхватил портфель из-под локтя мёртвого немца. Портфель оказался заперт и опечатан – это означало, что документы из него никто не вынимал.
Затем разведчики подошли к мёртвому Климу. По тому, как четверо бойцов Ермакова смотрели на погибшего товарища, было ясно, что они уже не слишком надеются уцелеть.
–Немец попал в мотор нашей машины, – сказал Павлик. – Теперь мы не сможем быстро добраться до западного края леса. А только там нет немецких постов ПВО.
–Значит, придётся обойтись без самолёта, – бросил Степан. – Так, командир?
–Нет.
Ермаков закрыл ладонью глаза Клима, потом взял его автомат, вынул у него из подсумка запасные магазины.
–«Любой ценой»! – напомнил он. – Теперь мы идём к той опушке, откуда вели наблюдение за дорогой. Туда и вызовем У-2.
–В километре от того места, у дороги пост ПВО, – напомнил Иннокентий. – Авиазвено из-за зенитного огня не прорвётся.
–Мы должны уничтожить этот пост! Если приземлиться хоть один самолёт и увезёт пакет, нам и по земле уйти будет легче. Тогда целую дивизию за нами в погоню не пошлют.
Разведчики переглянулись.
–Всё понятно, – за всех сказал Степан. – Приказывай, командир!
Они поспешили покинуть поляну и побежали по лесу. Через десять минут Ермаков остановил группу и приказал Павлику сообщить о месте приёма самолётов.
Подтверждение приёма сообщения пришло мгновенно. Ударом автомата Ермаков разбил рацию, а затем забросил её в кусты. И группа налегке побежала через лес.
Два километра они пробежали быстро. Потом не очень хорошо тренированный Павлик споткнулся о кочку и неловко упал. Он попытался подняться, но тут же со стоном опустился на землю. Здоровяк Серго поднял его себе на спину, но теперь группа двигалась медленнее.
Между тем, дождь понемногу стихал. Это было плохо, так как делало У-2 более заметным. К тому же вспугиваемые разведчиками лесные птицы теперь выше взлетали над лесом, выдавая направление движения группы.
На то, чтобы пройти ещё три километра, у них ушло почти полчаса. Уставший Серго всё-таки согласился, чтобы дальше Павлика нёс Степан. Но быстрее группа идти не стала. Так что нужного места на опушке леса они достигли всего за десять минут до расчётного времени.
–Теперь слушайте! – сказал Ермаков товарищам. – С пакетом в самолёте оправишься ты, Павлик. Я буду принимать самолёт и подведу его сюда. Ты, Иннокентий останешься с Павликом. Заодно будете приглядывать за лесом. Но нужно сделать ещё кое-что.
–Пост ПВО? – спросил Степан, хмуро улыбнувшись.
–Да. Там автоматическая зенитная пушка – с километра У-2 разнесёт в клочья. Вы с Серго пройдёте туда и снимете пост ножами. Там всего три немца. От поста до дороги двадцать метров – всё можно сделать незаметно. Потом забьёте землей дуло пушки и быстро сюда. Ну, бегом!
Времени было мало, но Степан и Серго всё же обвели прощальными взглядами товарищей. И лишь встретившись глазами с каждым из них, побежали через поле.
Степан и Серго в разведке служили с осени 1941-го и давно научились воспринимать задания просто как необходимую работу. Грань между жизнью и смертью, которую они так часто переступали, стала для них лишь неизбежной составляющей задания, а не источником страха. И теперь, по мере того, как они приближались к дороге, их лица обретали необходимое для данного дела простоватое, расслабленное выражение.
Знакомый звук мотора У-2 они услышали, когда до огороженного мешками поста ПВО с зенитной установкой посередине оставалось метров пятнадцать. Немцы–зенитчики сначала не обратили внимания на далёкий гул самолёта, однако копавшие дождевую канавку вокруг поста двое пожилых мужчин в гражданской одежде, обернулись к лесу. Степану захотелось крикнуть им, чтобы они отвернулись, но немцы уже начали внимательно осматривать небо.
Степан первым начал обходить полутораметровой высоты стену из мешков. Он видел, что зенитчики начали возиться со своей пушкой, но шагу не прибавил. Дойдя до свободного от мешков узкого прохода на пост, Степан вошёл туда, указывая поднятой рукой в сторону У-2. Командовавший постом унтер что-то гневно крикнул ему, очевидно советуя убраться с позиции, но Степан был уже возле установки, а позади него в проход плечом вперёд входил Серго.
Немцы поняли всё в последний момент. Крикнуть успел лишь унтер, и на посту всё стихло. С дороги никто ничего не заметил.
Оба гражданских, рывших канавку, теперь с ужасом смотрели через край стенки на трупы, лежавших возле пушки.
–Уходите отсюда! Только без спешки, – велел им Степан.
И гражданские послушно пошли вдоль дороги, опираясь на лопаты. Тот, что был меньше ростом пошёл быстрее, а другой, с оспинами на лице, то и дело оглядывался.
Между тем, У-2 уже садился у леса, доворачивая в сторону махавшего ему руками человека.
–И всё-таки только один самолёт прислали! – огорчённо сказал Серго.
Он уже набрал горсть земли, чтобы забить его в орудийные дула зенитной пушки, но тут Степан его остановил. Метров в ста от них на дороге показалась группа венгерских танков. Эти бронированные машины были совсем небольшие, их пушки были малого калибра, но всё равно их снаряды могли в клочья разнести фанерный самолёт.
Выстрелы у опушки заставили капитана Ермакова резко обернуться. Он увидел, упавшего навзничь Иннокентия, бегущих из леса к полю немцев с карабинами, Павлика, поднимающего автомат в сторону врагов. Одновременно с выстрелами Павлика вдалеке, у дороги застучала зенитная пушка. И сразу же движущие по дороге танки начали выворачивать с дороги в её сторону.
Несколько пуль, выпущенных немцами из леса, на глазах Ермакова ударили в борт У-2, выбив из него длинную щепу. Но тут же между деревьями взорвалась брошенная Павликом граната.
–Уходи, командир! – закричал радист. – Прощай!
Очнувшись от секундного оцепенения, Ермаков побежал к катящему вдоль леса самолёту. Девушка–пилот, на которой почему-то не было шлема, махнула рукой на место позади себя и начала выворачивать руль.
Ермаков бросил автомат, прижал к себе портфель и всем телом упал на крыло. С большим трудом, действуя лишь одной рукой, он втянулся на заднее кресло кабины. И У-2 начал быстро разгоняться.
Шум винта самолёта заглушил горестный крик Ермакова, увидевший, как Павлик внизу падает всем телом вперёд, как это бывает с человеком, получившим пулю в лицо. Затем Ермаков заставил себя обернуться к дороге. Там, на посту ПВО один за другим разрывались снаряды; два стоявших на дороге танка, горели, окутанные чёрным дымом, но ещё четыре продолжали в упор расстреливать зенитную пушку.
Наконец, самолёт взлетел и понёсся на восток. Из-за повреждений при обстреле он летел неровно – девушка–пилот с видимым трудом удерживала руль в своих руках; к пассажиру она не оборачивалась.
Дождь был теперь уже совсем слабый, и потому, несмотря на приближающийся вечер, самолёт был хорошо виден с земли. Ермаков вдруг подумал, что, пожалуй, им сложно будет преодолеть зенитные позиции немцев на линии фронта. И запоздало удивился тому, что У-2 вообще сумел прилететь к разведгруппе.
Но вскоре он увидел, как впереди десятков штурмовиков утюжат немецкие позиции, очевидно, пробивая для У-2 дорогу. Два истребителя «Як», носились над штурмовиками, отбиваясь от группы «мессершмиттов». Внизу прямо на немецкой траншее горел сбитый «Як».
У-2 снова сильно тряхнуло. Портфель упал с колен под ноги Ермакова. Когда Ермаков поднял его, из открытого «газетного» отделения портфеля выпал лист бумаги. Это была немецкая листовка с обращением к войскам Вермахта.
«Солдаты! За два года войны вся Европа склонилась перед вами! Ваши знамена прошелестели над городами Европы! Вам осталось взять Воронеж! Вот он перед вами! Возьмите его, заставьте склониться. Вперед!…»
Ермаков с трудом удержался, чтобы не выкинуть листовку за борт. Сложив лист, он аккуратно засунул его обратно в «газетное» отделение.
Вскоре У-2, продолжая неровно покачивать крыльями, начал посадку на прифронтовом аэродроме. Пробежав большую часть полосы, он, вывернул в сторону и остановился на лугу.
Мимо по полосе проносились приземлявшиеся самолёты прикрытия. На некоторых из них были заметны пробоины.
–Спасибо, боец! – с чувством произнёс Ермаков, похлопав девушку по плечу. Её тело откинулась назад, и Ермаков увидел на груди у девушки окровавленную рану.
Глава 4. Штабная ночь
На фронтовом аэродроме, даже не дав Ермакову умыться, трое офицеров НКВД буквально запихнули его в пассажирский самолет, который в сопровождении истребителя полетел в Москву. Там, уже около полуночи, в бункере Генерального штаба разведчик из рук в руки передал отбитый у врага пакет начальнику отдела по Брянскому фронту в Главном разведывательном управлении Генштаба полковнику Корневу.
Хмурый полковник, который, казалось, едва сдерживал раздражение, сразу же убежал куда-то с пакетом, а капитана Ермакова, едва стоявшего на ногах от усталости, два молчаливых человека в штатском отвезли в гостиницу Москва, где в просторном номере, он заснул, едва скинув с ног венгерские сапоги.
Но поспать ему долго не пришлось. Через час в номер явился полковник Корнев и принялся подробно расспрашивать его об обстоятельствах захвата пакета. Теперь лицо полковника было более спокойным, однако, во взгляде, явно, читалось недоверие.
Рассказ о гибели бойцов группы Ермакова Корнева будто бы и не тронул. Он всё время в разных вариантах повторял вопрос о том, не показалось ли разведчикам, что немцы специально дали им возможность захватить пакет, а потом улететь с ним. Наверное, командиру группы, недавно потерявшему в бою своих товарищей, полагалось злиться, выслушивая подобное, но Ермаков терпеливо отвечал, в деталях описывая, как героически они себя вели, выполняя задание. Эти вопросы даже приносили ему некоторое облегчение, так как он, наконец, мог рассказать кому-нибудь о людях, спасших его ценой своих жизней. Он говорил, и словно бы снова был со своими товарищами, слышал их разговоры, видел перед собой их лица.
И всё же после очередного неприятного вопроса, Ермаков вдруг вышел из себя.
–Мои ребята погибли, чтобы захватить пакет! – крикнул он. – Может, вы хотя бы скажете, что там были за документы?
Но Корнев лишь кивнул в ответ на грубость и ответил, задумчиво глядя на разведчика:
–Я уже получил сведения о каждом из членов вашей группы. В частях, где они служили, говорят о них только хорошее. Да и ваш орден получен не просто так. На мои вопросы не обижайтесь! Очень серьёзные решения будут приняты на основе добытых вашей группой документов. Их переводили с немецкого прямо в кабинете Верховного. Это делал лично начальник Генштаба Василевский. Вы спасли тысячи жизней, капитан. Знаете, что мы узнали, благодаря вам? Оказалось, немецкое генеральное наступление начнётся не там, где мы ждали. До него всего неделя, но и это позволит нам как-то подготовиться.
–Сам Сталин видел эти документы?
У Ермакова кольнуло в груди. Несмотря на всё, происшедшее с ним в последние сутки, он до этого момента не мог представить, какого уровня сведения привёз в Москву.
–я тоже был там, в кабинете Верховного. Мне по поводу вас, майор, Верховный устроил настоящий допрос.
–я – капитан, не майор.
–Вы повышены в звании и представлены к награде. Будут награждены, посмертно, и ваши погибшие товарищи. Но, так уж вышло, эти наградные листы будут подписаны лишь в том случае, если сведения о наступления немцев подтвердятся.
Корнев внимательно посмотрел Ермакову в глаза.
–Если в указанную в документах дату – 28 июня немцы пойдут в наступление. Вот так всё сложно, майор!
Корнев посмотрел на часы.
–Я вылетаю в штаб Брянского фронта через час, с копиями этих документов. Товарищ Сталин всегда принимает решения быстро. Теперь я непосредственно на месте буду организовывать зафронтовую разведку на брянском направлении. Моя задача – срочно создать группу агентов для их работы в Воронеже, на случай его захвата.
–Товарищ Сталин допускает, что Воронеж может быть взят?
–Такова ситуация. Недели, которую вы нам дали, всё равно мало, чтобы в полной мере подготовиться к отражению генерального наступления. Войск на Воронежском направлении недостаточно, так как мы ждали новый удар на Москву.
Корнев встал.
–Что ж, майор, скоро увидимся снова. До завтра вы ещё побудете в Москве. Несколько часов отдохните, а днем вас отвезут обратно в Генштаб. Нужно будет заполнить кое-какие документы и составить отчёты. Потом вас подсадят на вылетающий на Брянский фронт самолёт «Лётной группы» фельдъегерской связи НКВД. Вы назначены личным порученцем командующего Голикова.
–Офицером связи?
–Нет, личным порученцем.
Взгляд Корнева скользнул по погонам Ермакова.
–Форму с новыми знаками отличия вам принесут сюда утром. Завтраком вас покормят здесь же, а обедать вы будете в столовой Генштаба. Так. Теперь всё!
Полковник отдал честь и быстро вышел.
Этот разговор окончательно вымотал Ермакова. Новостей и впечатлений было много, но, едва за Корневым закрылась дверь, Ермакову ужасно захотелось снова упасть на кровать прямо в форме. Лишь усилием воли он заставил себя раздеться.
Перед тем как улечься Ермаков ещё раз подошёл к окну и взглянул на Манежную площадь. Согласно правилам светомаскировки, все окна в домах вокруг были затенены, однако, у проезжавших внизу машин были включены фары, и их тусклые огни на тёмной поверхности площади казались залетающими сюда искорками от горящего где-то за домами костра.
Той же ночью, около четырёх часов, в штаб Брянского фронта, находящийся Ельце – в 115 км к северу от Воронежа, прилетел только назначенный куратор от Генштаба зафронтовой разведки фронта полковник Корнев. С собой он привёз секретный пакет, в котором находились две копии перехваченных документов с информацией об операции «Блау-1» – на немецком и русском языках, а также подписанная Василевским пояснительная записка на имя командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта Голикова.
Оповещённый о срочном пакете Голиков немедленно явился в штаб, надеясь, что ему всего лишь прислана очередная директива Верховного о передислокации войск. Срочность почты не вызвала у Голикова особой озабоченности. До того, как ему было поручено командовать воинским соединением (в 1941 году это была 10-я армия Западного фронта), он, с 26 июля 1940 года, работал в должности заместителя начальника Генерального штаба – начальника Главного разведывательного управления РККА. За это время он хорошо изучил все алгоритмы реагирования на самые различные срочные приказы.
Но прочитав полученную из рук полковника Корнева русскую копию плана «Блау-1», а также пояснительную записку Василевского, и при этом не найдя в пакете прямого приказа Верховного, Голиков четверть часа сидел неподвижно, глядя в пол, пытаясь понять, что будет грозить лично ему, когда немцы проломят оборону Брянского фронта и устремятся к Дону. В том, что так и произойдёт, он не сомневался. Войск фронта было, явно, недостаточно, чтобы отразить генеральное наступление. А о том, как немцы умеют организовывать прорывы, он знал с 1941 года.
Из переведённых документов следовало, что 28 июня из района Курска в направлении Воронежа нанесёт удар группа немецких войск, основой которой является 4-я танковая армия. Войск и техники в ней, наверняка, намного больше, чем в любой советской танковой армии, так как у немцев был иной принцип формирования войск – каждая немецкая танковая дивизия имела по 147–200 танков, что примерно соответствовало советскому танковому корпусу.
Теперь стало понятно, что вовсе не были ошибочными получаемые с начала июня и игнорируемые Ставкой сведения авиа– и наземной разведки Брянского фронта, свидетельствовавшие о выдвижении крупных сил немцев из района Курска к проходящей у Щигров передовой.
Голиков понимал, почему в полученном им из Москвы пакете вместо приказа Верховного о подготовке к отражению предстоящего удара немцев, была лишь пояснительная записка Василевского. Так Генеральный штаб перекладывал ответственность за возможное поражение на командующего Брянским фронтом, и, скорее всего, и на командующего Юго-Западным фронтом маршала Тимошенко, который, наверняка, тоже получил такой же пакет. Документ, где бы признавалось ошибочным недавнее мнение Верховного о предстоящем новом наступлении именно на Москву, не мог появиться на свет.
Правда в записке Василевского говорилось, что с 21 июня войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов войдут в непосредственное подчинение Ставки Верховного Главнокомандования. Но очевидно было, что это не снимало с командующих фронтами личной ответственности в том случае, если они не смогут остановить удары противника.
А что такое ответственность перед руководством страны Голиков хорошо знал. В 1938 году он по непонятной причине был снят с должности члена Военного совета Белорусского военного округа и избежал ареста лишь благодаря заступничеству народного комиссара обороны маршала Ворошилова. После этого Голикова вернули в войска, назначив командующим войсками Винницкой армейской группы Киевского Особого военного округа – но память о тех событиях, у него осталась навсегда.
Нет, Голиков не боялся – ни в 1938, ни теперь, в преддверии немецкого генерального наступления, противостоять которому войска Брянского фронта были не до конца готовы. Страх он научился не пускать в себя ещё в деревенском детстве, когда ему приходилось, порой, вступать в драки сразу с несколькими парнями. Его задирали за то, что он был сыном фельдшера и любил учиться, то есть, с точки зрения некоторых ребят – слишком много о себе понимал.
Тогда же, с детских времён Голиков стал крайне негативно относиться к грубости, хамству, наглости.
В Рабоче–крестьянскую Красную армию он вступил в 1918, и с тех пор вся его жизнь была связана с военным делом. И во время Гражданской войны, и позже, на военно–политической работе, затем командуя полком, дивизией, механизированным корпусом, Голиков показал себя как успешный командир, способный побеждать за счёт умения эффективно применять доступные ему ресурсы. Но он вовсе не считал себя большим военным талантом и понимал, что не обладает способностями Василевского и генерал-лейтенанта Ватутина действовать на опережение, просчитывать боевую ситуацию на много ходов вперёд. Не мог он, и как генерал армии Жуков, мгновенно придумывать решающие варианты действий в быстро меняющейся обстановке.
Голикову нетрудно было увидеть слабые и сильные стороны позиции своих частей – после тщательного изучения сложившейся ситуации он способен был определить весь набор возможных действий, которые могут быть предприняты против них. Но он не умел точно определить, предстоящий реальный ход противника – и потому в его стратегических построениях часто не хватало войск, чтобы закрыть все возможные угрожающие направления.
Своей главной способностью, как командира, Голиков считал умение «играть до конца». Он умел воевать по-охотничьи, расставляя силки на всех тропах, стараясь быть готовым к схватке с любым зверем: бить волков, крепко держась на ногах; загонять лося или кабана, сторожась ответного нападения; а с медведем или тигром вступать в схватку лишь рядом с выкопанной для них ямой–ловушкой. Теперь же хорошей ловушки для сильного зверя у него не было.
За два месяца, прошедших с начала апреля, когда генерал-лейтенант Голиков, назначенный командующим, прибыл в штаб Брянского фронта, он хорошо изучил ситуацию на этом участке и сумел убедить Ставку в необходимости направить фронту подкрепления. Все пять армий Брянского фронта – 3-я, 13-я, 40-я, 48-я и 61-я, получили дополнительные войска. Но до сих пор в частях не хватало полного комплекта офицерского и сержантского состава, а также боевой и автомобильной техники, оружия и боеприпасов.
Ещё больше Голикова беспокоило то, что многие дивизии нового формирования были плохо сработаны, а их личный состав недостаточно обучен. Причиной этого была слабая подготовкой старших командиров, многие из которых, по мнению Голикова, не вполне соответствовали своим должностям. Несмотря на регулярно устраиваемые командующим военно–штабные игры, часть командиров дивизий всё равно плохо представляли себе, как нужно вести боевые действия против танковых кулаков – главного средства немцев для прорыва обороны противника. Особенно много нареканий было к командирам 160-й стрелковой дивизии 40-й армии и 15-й стрелковой дивизии 13-й армии. Голиков был недоволен даже командармом 40-й армии генерал-лейтенантом Парсеговым, который при всём своём боевом опыте оказался не слишком сильным стратегом.
Что же касается включённых в состав Брянского фронта танковых бригад, то с точки зрения командующего в них было слишком много так называемых «условных» танков – как он называл лёгкие Т-60, которые в силу малокалиберного вооружения и слабой защиты можно было отнести и к броневикам. Да и английские танки «Матильда», несмотря на неплохую броню, по боевым характеристикам ни в какое сравнение не шли с КВ и Т-34.
Очень значимым недостатком организации воронежского участка Брянского фронта являлось почти полное отсутствие авиационного прикрытия. Выполняя ранее приказ Генштаба, 2-я воздушная армия Брянского фронта со всеми своими складами и техническими службами была сосредоточена на московском направлении – на аэродромах, находящихся далеко к западу от проходящей у Щигров линии фронта.
И, наконец, по мнению Голикова, сам Брянский фронт имел очень неудобную для управления конфигурацию. 40-я и 13-я армии прикрывали направление «Курск – Воронеж», а остальные армии фронта обороняли выдвинутое на запад орловско–тульское направление, расходившееся с участком у Щигров почти под прямым углом.
–Недели мало, очень мало! – в сердцах произнёс Голиков.
Тут он вспомнил, что полковник Корнев всё ещё стоит перед ним.
–Вы, полковник, как я понял, посланы на Брянский фронт как представитель Генерального штаба. Мне нужно улучшить организацию взаимодействия дивизий, и я был бы рад, если бы вы мне помогли. Офицеры связи у меня неплохие, но мне нужен человек, которого мог бы быстро оценивать обстановку на сложных участках.
–Генштабом мне поставлена другая задача – срочно организовать зафронтовую разведку в районе Воронежа, – ответил Корнев извиняющимся голосом. – Я сам рассчитываю на помощь – от 4-го отдела УНКВД по Воронежской области. Но вам будет послан нужный человек в качестве личного порученца. Майор Ермаков. Именно его группа сумела отбить у немцев эти самые документы.
–Значит, в Генштабе признают, что Воронеж удержать трудно, – пробормотал командующий. – Поэтому вас направили сюда для организации зафронтовой разведки. Вы курировали в ГРУ Генштаба разведку Брянского фронта, значит, тоже считаете, что сдержать немцев здесь не удастся?
–Имеющимися в наличии силами это будет сложно. Однако Генштаб начинает переброску на Брянский фронт дополнительных больших резервов. Вопрос лишь во времени. Первые резервные дивизии смогут подойти к Воронежу не ранее 2 июля. До этого придётся рассчитывать на стойкость войск и чёткую организацию штабом фронта взаимодействия имеющихся дивизий. Это будет непросто. В условиях концентрированного удара и возможного неравномерного отхода частей, при недостатке в войсках средств радиосвязи, приказы штаба фронта будут запаздывать.
Голиков не смог сдержать улыбку – слишком уж канцелярскими были эти фразы полковника из Генштаба.
Неожиданно у командующего слегка закружилась голова. Он с силой потёр лоб, стараясь отогнать остатки сна. В ближайшие дни ему и всему штабу фронта об отдыхе придётся лишь мечтать.
–Сейчас я прикажу собирать офицеров штаба на совещание. Хотите на нём присутствовать?
–Мне нужно спешить. 4-й отдел УНКВД уже получил приказ срочно организовать разведшколу для зафронтовых агентов. Для этого выбрано Сомово – 42 километра от Воронежа, к северо-западу. Преподавательские кадры, оснащение будут полностью готовы не скоро, но подбор агентов и занятия я должен организовать в ближайшие дни.
Через два часа, в 6 утра 20 июня в кабинете командующего началось совещание. На него были вызваны начальник штаба генерал-майор Казаков, член Военного совета фронта корпусной комиссар Сусайков, командующий 40-й армией генерал-лейтенант Парсегов, командующий 13-й армией генерал-майор Пухов, командир 16-го танкового корпуса генерал-майор Павелкин, командир 284-й стрелковой дивизии фронтового резерва подполковник Батюк, командир 232-й стрелковой дивизии подполковник Улитин. За десять минут до начала совещания прибыл и начальник Воронежского гарнизона полковник Глатоленков. Голиков хотел обсудить вопрос противодействия наступлению врага по линии Щигры – Воронеж, поэтому командиров дивизий, оборонявших западные участки Брянского фронта, он собирать не стал.
Сообщение командующего фронтом о том, что 28 июня немцы начнут генеральное наступление в направлении Воронежа вызвало тягостную реакцию. Никто не был готов к тому, что совсем скоро они окажутся на острие немецкого главного удара. Эти командиры уже успели повоевать – но, так уж устроены люди, находясь достаточно долго на второстепенном участке фронта, они уже отвыкли от безнадёжных боёв, в которых нельзя было победить, а нужно было лишь стоять насмерть.
Участники совещания сидели неподвижно, глядя на командующего фронтом с таким выражением, словно он лично был виноват в сложившейся ситуации.
–Бывает, что не везёт. Но чтобы так? – в сердцах бросил командарм-13 Пухов.
–Боишься, что ли? – небрежно произнёс Парсегов.
Пухов, давно уже привыкший к его бесцеремонности, в ответ лишь махнул рукой.
Голиков ещё раз внимательно обвёл присутствующих взглядом. Настроение людей читалось по их лицам. Они и не пытались скрывать свои чувства. Теперь война пришла персонально за каждым из них – и это была тяжёлая перемена. Но командующий и не подумал их утешать или подбадривать. Он просто сразу же принялся излагать своё видение предстоящих оборонительных действий, время от времени спрашивая, есть ли у кого-то вопросы или замечания.
От линии фронта у Щигров – до Дона было три естественные преграды – малые реки Тим, Кшень и Олым. По мнению командующего, если не удастся удержаться на первом рубеже – у реки Тим, в 144 км к западу от Воронежа, нужно под защитой вторых эшелонов отводить войска реке Кшень, и уже там в упорных встречных боях выбивать наступающие вражеские части. В случае же если враг прорвётся снова, следовало обороняться у реки Олым, опираясь, как на центр обороны, на железнодорожный узел Касторное, от которого до Воронежа было 77 км. Там нужно было обязательно закрепиться, потому что дальше на протяжении 60 км, до самого Дона удобных рубежей для обороны не было. За Донским рубежом, в 19 километрах к востоку находился Воронеж.
Излагая свой план, Голиков продолжал внимательно следить за лицами старших командиров, и был очень доволен, когда, наконец, они начали оживать.
–На указанных линиях обороны войск немного, – сказал корпусной комиссар Сусайков. – Значит, мы рассчитываем, что при ударах немцев, наши войска смогут отходить равномерно и закрепляться на новых рубежах. Мне кажется, на это рассчитывать нельзя.
–Против нас может повернуть и вторая группа немцев – армия Паулюса, – хмуро произнёс командарм-13 Пухов. – Северная часть этой группировки наверняка ударит на северо-восток, на Старый Оскол, чтобы выйти в тыл 40-й армии. Сил нашего 4-го танкового корпуса, находящегося у Старого Оскола, может не хватить. А на 1-й танковый корпус фронта, находящийся у Ливен в Орловской области, рассчитывать не приходится.
Голиков перевёл взгляд на Парсегова.
–У 40-й неплохая вторая линия, – уверенным тоном произнёс тот. – Это 6-я дивизия, а также 111-я и 119-я стрелковые бригады. Артиллерия их усилена, так что они смогут, в случае необходимости, и прикрыть отход, и нанести контрудар. Вдобавок я прикажу 14-й и 170-й танковым бригадам моей армии выйти между первой и второй полосами обороны. Мышь не проскочит!
Это была его любимая фраза. Голикова охватило раздражение. Он бы давно уже заменил командующего 40-й армии, но генерал-лейтенант артиллерии Парсегов после Финской войны был у Сталина на хорошем счету. Командуя тогда артиллерией 7-й армии, он, действительно, обеспечил прорыв «линии Маннергейма» за счёт массированного применения тяжёлых орудий, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1941 назначенный командовать артиллерией Юго-Западного фронта, он также вполне справлялся со своими задачами. Однако его назначение в марте 1942 года командующим общевойсковой армией, Голиков втайне считал ошибкой Сталина. Эта должность требовала больших стратегических и тактических умений, которых у Парсегова не было.
–По поводу вашей 40-й армии, генерал-лейтенант Парсегов. Я считаю, что вам придётся очень постараться, чтобы устранить все очевидные проблемы. Две недели назад я снова указывал вам на них, но всё делается слишком медленно. Ваш штаб, наконец, отправил в войска план взаимодействия при обороне и наступлении, но командарм всё ещё как следует не отработал его с комдивами. Связь между дивизиями 40-й по-прежнему линейная, раций мало, задачи резервам и войскам 2-й линии ставятся без привязки к возможным действиям войск на передовой. Кроме того, в 40-й армии нет плана противотанковых маневренных действий, а план артподдержки рассчитан на то, что противник будет сразу остановлен и не сможет пройти к артбатареям с флангов.
Лицо Парсегова стало красным от гнева.
–Моя армия не пропустит врага! За эту неделю, мы горы свернём. Мы сумеем усилить оборону! Выроем дополнительные окопы, укрепим огневые точки, наблюдательные пункты, снарядов ещё подвезём. Боевой дух в войсках очень высокий!
–Боевой дух – это хорошо, – сказал Голиков, глядя в стол. – Но занимайтесь, занимайтесь усилением обороны! В полосе 40-й армии отчего-то инженерные сооружения не столь развиты, как в других армиях нашего фронта.
–Да, но у нас большая тактическая глубина обороны.
–Какова тактическая глубина обороны 13-й армии? – спокойно спросил Голиков, поворачиваясь к генералу Пухову.
–15 километров.
–А у вас, генерал-лейтенант Парсегов?
Голиков хотел закончить эти препирательства, но он обязан был заставить самонадеянного командарма лучше выполнять свои обязанности. Ведь именно на 40-й армии теперь лежала основная ответственность за исход предстоящих оборонительных боёв.
Взгляд Парсегова ещё более отяжелел.
–Мы-то справимся, – выдавил он. – А вот как с авиационным прикрытием?
–Вы, своё дело делайте! – не выдержал начальник штаба фронта Казаков.
По лицам остальных участников совещания было видно, что поведение Парсегова никто не одобрял.
–Сегодня из Генштаба во 2-ю Воздушную армию отправлен приказ немедленно усилить интенсивность разведывательных вылетов в районах Курск, Солнцево, Щигры, – спокойно ответил Голиков. – Начато перебазирование авиаполков ближе к Воронежу. Но, по моему опыту я могу сказать, что на подвоз к новым аэродромам боеприпаса, топлива и на переброску технических служб уйдёт не менее двух недель.
–А до этого держитесь, как хотите?
–Именно так, товарищ генерал-лейтенант!
Нет, не тягаться было простоватому Парсегову в перетяжках с бывшим начальником Главного разведывательного управления РККА. Резкий тон и жёсткий взгляд командующего фронтом был настолько непривычен для Парсегова, что с него тут же слетела спесь. Голиков же, чувствуя одобрение окружающих, снова принял спокойный вид. При этом он с удовлетворением заключил, что эта их стычка ещё более отвлекла остальных участников совещания от переживаний из-за скорого немецкого наступления.
И снова Голиков заговорил о необходимых мерах для организации оборонительной операции. Танковые бригады? Да, 13-я и 40-я армии могут использовать свои танковые бригады без оглядки на штаб фронта – если, конечно, от командующего фронтом не поступит иной приказ. На рубеже у реки Кшень немедленно выдвигается 16-й танковый корпус генерал-майора Павелкина – на передовых позициях там встанет его 15-я мотострелковая бригада. А на участок обороны у Касторного будет выдвинута 284-я стрелковая дивизия фронтового резерва. Недалеко от этого участка, уже, фактически, превращённого в противотанковый район, уже находятся 115-я и 116-я отдельные танковые бригады фронтового резерва.
По мере того, как командующий указывал каждому боевую задачу, его подчинённые становились всё более сосредоточенными, деловитыми. Видение общей ситуации помогло им избавиться от первоначального ощущения бессилия. Каждый теперь знал свою персональную цель и свой маневр – это давало людям точку опоры.
Правда, на один большой вопрос, связанный с предстоящим наступлением противника, Голиков ответа не знал. Он хотел было обойти эту тему, но генерал Павелкин сам спросил его, что будет, если танковые дивизии немцев прорвутся южнее 40-й армии – через позиции Юго-Западного фронта и двинутся не к реке Кшень, а глубоким охватом – сразу к Касторному?
–Ставка прорабатывает решение, – уверенным голосом ответил командующий. – Скорее всего, в этом случае туда будут оперативно переброшены подкрепления с других фронтов.
Участники совещания сразу всё поняли. Голиков ждал, что кто-нибудь, в первую очередь Сусайков, начнёт сокрушаться из-за этого изъяна в обороне фронта – не менее опасном, чем слабое авиационное прикрытие. Но подчинённые Голикова не стали тратить себя на пустые причитания, и это понравилось командующему.
Последним на совещании был поднят вопрос об обороне самого города Воронеж. Обсуждение его было довольно нервным.
Начальник Воронежского гарнизона полковник Глатоленков прямо заявил, что оборона города слаба.
–Подступы к донским переправам и к Воронежу защищает только 232-я стрелковая дивизия подполковника Улитина, – хмуро произнёс он. – Но там нужна, по меньшей мере, ещё дивизия, в качестве резерва на тот случай, если немцы переправятся через Дон в районе южных пригородов и начнут окружать город с востока.
–Начальник Генерального штаба уведомил меня, что сегодня же к Воронежу будет направлен недавно сформированный 18-й танковый корпус, – ответил Голиков. – Будут и ещё войска.
Глатоленков пожал плечами. Лицо его выражало явное недоверие.
–Да, страшное дело! – пробормотал корпусной комиссар Сусайков. – Говорим так, словно земли до самого Дона мы уже отдали фашистам.
Ему никто не ответил. А Глатоленков, сделав небольшую паузу, продолжил. Он сообщил, что в самом городе из армейских частей есть лишь подразделения ПВО, три батальона учебного центра командного состава Юго-Западного фронта и два учебных эскадрона 11-го запасного кавалерийского полка. А основу гарнизона составляют войска НКВД. Из них полностью укомплектован только 41-й стрелковый полк внутренних войск НКВД. Он изначально формировался как пограничный, и поэтому его бойцы хорошо обучены. Также тактически подготовлен 287-й полк внутренних войск НКВД, но он в городе имеет только два батальона. Бойцы же двух других неполных полков НКВД – 233-го и 125-го, могут быть сильны в ближнем бою, но тактике стрелковых подразделений не обучены. В 233–м полку 13-й дивизии Конвойных войск НКВД, имеется два батальона, а от 125-го полка НКВД по охране железнодорожных сооружений в городе один батальон.
–Вполне крепкие части, – сказал Голиков.
–Но подразделения НКВД мне не подчиняются! У них своё командование, которое может отозвать их в любой момент!
–Знаю. Я тоже не могу им приказывать, – ответил Голиков. – Обещаю, в случае прямой угрозы городу, поставить вопрос перед Ставкой о переподчинении этих полков начальнику воронежского гарнизона. Пока же нужно побеседовать с командирами этих частей по партийной линии – чтобы они сами не спешили уводить своих бойцов из такого важного города как Воронеж. А вы, полковник Глатоленков, готовьте новые части из ополчения!
–Уже делается. По просьбе подполковника Улитина, мы укрепляем подразделениями ополченцев позиции 232-й стрелковой дивизии у переправ.
Голиков согласно кивнул.
–Донским мостам – главное внимание! Но следует укреплять ополченцами всю линию Дона у города – в том числе, возможные места организации понтонных переправ. Также нужно уже теперь спланировать действия гарнизона на случай, если войска противника переправятся через Дон, пройдут с севера или юга от города и окажутся у реки Воронеж. Эта река отсекает небольшую часть восточных кварталов – если немцы переправятся и через неё, город может быть быстро окружён.
Глатоленков согласно кивнул.
–И нужно начать срочную эвакуацию оставшихся в Воронеже предприятий! – жёстко произнёс Голиков.
–Но у нас нет приказа из Москвы.
–готовьте эвакуацию заводов! Письменное указание от штаба фронта будет у вас сегодня.
–А что с эвакуацией жителей города?
–Нет. Такого решения без санкции из Москвы я принять не имею права. Поэтому в ближайшие дни никому ни слова о предстоящем наступлении. Нельзя, чтобы подготовке к обороне города помешала паника.
Голиков прекрасно понимал, что об усилении мер по защите города население узнает не позднее, чем через день. Тыловики, бойцы гарнизона, или побывавшие в городе порученцы из боевых частей расскажут обо всём своим женам и велят им собирать вещи. А те, конечно, бросятся делиться ужасной новостью с подругами. Но хотя бы ещё один более–менее спокойный день командующему был нужен.
–А наши семьи? – спросил Голикова командир 284-й стрелковой дивизии подполковник Батюк.
Его взгляд стал злым, неприязненным.
–Семьи? – Голиков успокаивающе поднял руку, всем своим видом показывая, что уже подумал об этом сам.
–Ваши семьи, если они находятся в Воронеже, должны быть эвакуированы под благовидным предлогом! Но не говорите им о наступлении немцев. Иначе, если все узнают, многие захотят сразу же уехать, и машины с вашими близкими попросту не проедут по дорогам.
Глава 5. Аристократ СС
Утром 20 июня к городу Рубежное, в окрестностях которого произошёл инцидент с самолётом майора Райхеля, подъехал новенький «Хорьх», в котором сидел одетый в парадный мундир штурмбаннфюрер СС.
В этот момент дорога от тракта в город была закрыта медленно выезжающей оттуда колонной грузовиков с венгерским гербом на кабинах. Видимо, это была колонна штаба 7-й венгерской пехотной дивизии, который, как было известно штурмбаннфюреру, этой ночью располагался в Рубежном. Поэтому эсесовец оставил свою машину на обочине тракта и пошёл пешком к окраине города, в ту сторону, где над крышами домов возвышался флагшток с красно–бело–зелёный венгерским флагом.
Проезжающие мимо грузовики штурмбаннфюрер не удостаивал вниманием, зато с большим интересом оглядывал город, стараясь рассмотреть лица людей, маячивших за пыльными оконными стёклами. Взгляд штурмбаннфюрера был полон хозяйского интереса. Ведь это был ещё один кусочек территории варваров, которая отныне стала неотъемлемой частью Германского Рейха.
Получив накануне ночью новое задание, штурбаннфюрер первым делом прочитал предоставленную ему справку об этом городке, расположенном у реки Северский Донец. В Рубежном жило всего около 20 тысяч человек, но в его черте находился химкомбинат, который теперь будет работать в интересах Германии. И сам город был весьма благоустроен – там имелись электроподстанции, водопровод, канализация, были проложены мостовые и обустроены тротуары, имелся стадион, парк отдыха. Место было неплохим. Когда вопрос с местными жителями будет решён, здесь можно с комфортом разместить немецких поселенцев.
Штурмбаннфюреру так понравились окружавшие город аккуратные сады, что он вдруг пожалел, что у него нет возможности немедленно заняться местным населением. Но поставленная ему задача была сверхважной.
Офицеру СС Вальдемару фон Радецкому было 32 года, он был худощав, изящен в движениях как настоящий немецкий аристократ, волосы имел светлые, зачёсывал их всегда назад. Его лицо с правильными чертами могло было бы быть обаятельным, если бы не слишком медлительный взгляд, выдающий склонность к жестокости. Звание штурмбаннфюрера СС соответствовало не слишком высокому званию майора Вермахта, но Радецкий привык к тому, что окружающие смотрят на него со страхом и уважением – ведь по другому нельзя было относиться к заместителю командира базировавшейся в Харькове зондеркоманды 4а айнзацгруппы «C».
В обязанности айнзацгрупп СС, подчинённых лично рейсхфюреру Гиммлеру, входило приведение населения оккупированных территорий к покорности Рейху, а также решение там еврейского вопроса. В отличие от входившей в состав Министерства внутренних дел Германии службы Гестапо – тайной государственной полиции, занимавшейся доказательным выявлением противников Рейха, айнзацгруппы работали по своим планам, имевшим целью освоение территорий Рейхом.
В СС, а затем в айнзацчасти, занимавшиеся восточными территориями, Радецкий пошёл добровольно, так как считал это своим долгом. Его семья принадлежала к ветви старинного австрийского военного рода, чешского происхождения. Написанный в 1848 году композитором Иоганном Штраусом–старшим «Марш Радецкого» был посвящён победоносным войскам фельдмаршала Иоганна Йозефа Венцеля Радецкого, подавившего восстания в Италии против власти Австрии. Отец Вальдемара фон Радецкого до 1917 года на правах концессии владел на Кавказе большими чайными плантации, которые были у него экспроприированы после революции. Это навсегда настроило его семью против России. Вальдемар был воспитан отцом как наследник прав семьи, попранных беззаконными русскими. Поэтому старший фон Радецкий поддержал сына в его решении вступить в айнзацгруппу «С», которая после захвата Кавказа должна была действовать там. Это давала реальный шанс на возврат семье «фамильных плантаций».
Служба в СС и в айнзацгруппе привлекала Вальдемара Радецкого и ещё по одной причине. Великолепное ощущение власти над многими людьми, возможность лично определять, каким людям жить, а каким пора умирать, увлекало его не меньше, чем возможность увеличить семейное богатство. Рейх, предоставивший ему такие права, был для Вальдемара тоже семьёй. И ему нравилось быть её аристократом. Именно поэтому Радецкий никогда не принимал широко распространённый в немецких войсках первитин, официально разрешённый и выдаваемый всем желающим солдатам СС и Вермахта. Психостимулятор мог нарушить его внутреннюю гармонию и притупить остроту ощущений.
Первый командир зондеркоманды 4а штандартенфюрер СС Пауль Блобель в июле 1941 года, когда зондеркоманда начала свою работу на восточных территориях с украинского Луцка, сразу же выделил Вальдемара фон Рацецкого за старание, ум и беспощадность. А после масштабной акции по массовому расстрелу евреев, цыган и военнопленных в урочище Бабий Яр под Киевом, Радецкий, проявивший себя тогда как хороший организатор, был назначен заместителем командира зондеркоманды.
В январе 1942 года Блобель за пьянство и нарушение дисциплины был снят с должности и отозван в Берлин. Но сменивший его оберштурмбаннфюрер СС Эрвин Вайнман также с уважением отнёсся к своему заместителю, тем более, что Радецкому тогда уже благоволил сам командир айнзацгруппы «C» бригадефюрер генерал-майор полиции Макс Томас.
На этот раз задание у Радецкого было в высшей степени ответственное. Вечером 19 июня в Харькове, в отсутствие Вайнмана, вызванного в Киев бригадефюрером, к командиру 40-го танкового корпуса генералу танковых войск Штумме был приглашён Радецкий, как старший из находившихся в городе офицеров айнзацгруппы. Едва штурмбаннфюрер вошёл в кабинет Штумме, тот отодвинул от себя документы, которые только что изучал, и с мрачно воззрился него.
–Возникла большая проблема, которую может решить только ваша служба, – сказал генерал, не удосужившись поздороваться. – Берлин требует принять меры в связи с ужасным происшествием. Вчера днём в лесу у городка Рубежное совершил аварийную посадку «Физелер–Шторх», на котором в Волчанск летел начальник оперативного отдела 23-й дивизии майор Рейхель. У Рейхеля с собой были особо важные карты и приказы. Нужно, соблюдая все меры секретности, срочно выяснить, не попали ли эти документы в руки русских!
–Как я понял, самолёт упал на нашей территории, – сказал удивлённый Радецкий. – В чём же трудность? Поисковая группа его не нашла?
–А вы не казались идиотом, штурмбаннфюрер! – прорычал Штумме. – Я же сказал: группа неизвестно откуда взявшихся диверсантов напала на Рейхеля и пилота! Поисковые отряды – венгерские, а также подразделений СС, наводящих порядок в Рубежном, нашли самолёт и трупы. И никакого портфеля с документами!
–А русская разведгруппа?
Несколько секунд генерал молчал. Радецкий решил, что сейчас последует новый взрыв ярости. Но Штумме сбавил тон.
–Узнайте, узнайте, штурмбаннфюрер, где теперь эти документы! Одному из русских удалось улететь на самолёте У-2, который под обстрелом совершил рискованную посадку на лугу у Рубежного. Остальные диверсанты были убиты.
Радецкий едва удержался от радостного возгласа. Он сразу понял, что судьба, наконец, даёт ему особый шанс, благодаря которому можно обеспечить настоящий карьерный взлёт.
–то есть, захваченный пакет был увезён?
–Вот это предстоит выяснить вам! Немедленно отправляйтесь на место и всё выясните! Делайте что хотите, но в Берлине должны точно знать: похищен пакет или уничтожен Рейхелем на месте! Если пакет теперь у русских, это грозит роковыми последствиями. Начальника оперативного отдела штаба 40-го танкового корпуса подполковника Гессе – идиота, отправившего сверхсекретные документы на маленьком самолётике, я отдам под суд! Если же вы не сумеете определённо выяснить судьбу пакета – поплатитесь тоже. Фюрер уже в курсе этого дела!
«Первым поплатитесь вы, генерал!» – захотелось сказать Радецкому, но он сохранил на лице выражение готовности выполнить это важно поручение.
–Неделя русских всё равно не спасёт, – сказал он. – Им не хватит времени, чтобы подтянуть на участок прорыва нужное количество войск.
Генерал внимательно посмотрел на Радецкого.
–Вы, кажется, кое-что соображаете в военном деле, штурмбаннфюрер! Конечно, русские нас не остановят – операцию ждёт успех, в любом случае. Но, как вы сами понимаете, даже небольшое повышение обороноспособности русских на участке наступления грозит нам лишними потерями и затяжкой времени выполнения боевых задач.
–Все части в том районе будут обязаны оказывать мне содействие?
–Да. Документ на ваше имя уже лежит на столе моего офицера связи.
–А необходимая мне группа? Мне ведь, наверняка, понадобится провести показательную акцию, чтобы разговорить местных.
–Используете отряды СС, которые наводят порядок в Рубежном. Приказ о помощи будет им послан по линии СС.
–А если мне понадобится помощь находящихся там венгров?
–Можете, но не советую. С ними вы свидетелей из числа местных жителей не получите. Однажды в моём присутствии доктор Геббельс сказал о венгерских солдатах генерал-фельдмаршалу фон Боку: «Когда венгры докладывают, что они “умиротворили” ту или другую деревню, это, как правило, означает, что ни одного жителя там не осталось».
–Результаты моей поездки будут сообщены в Берлин?
Штумме хмыкнул.
–Амбиции, амбиции, штурмбанфюрер! Ни вы, ни я в Берлин по делу Райхеля докладывать не будем. Это сделает лично рейхсфюрер. Он проводит инспекционную поездку в Минске, но, узнав о происшествии с Райхелем, решил посетить Харьков. Мне сообщено, что он прилетит сюда около 23 часов. Так что поторопитесь. Сейчас 15.20, до Рубежного около 70 километров. Думаю, шести часов вам хватит, чтобы прибыть туда на машине, понять там ситуацию и вернуться.
Когда Радецкий подошёл к трёхэтажному каменному зданию на площади, на крыше которого развевался венгерский флаг, он с некоторым удивлением увидел, что перед зданием происходит нечто, похожее на концлагерную экзекуцию. На деревянном столбе громкоговорителя висело в петле мёртвое тело. Это был смуглый еврей в форменной венгерской рубахе без знаков различия. Он был повешен только что, потому что по его шее из-под верёвки капала кровь.
Высокий подполковник–венгр держал речь перед стоявшей у стены дома большой группой безоружных людей с семитскими лицами – в таких же как у повешенного форменных рубахах без знаков отличия. Выстроившиеся позади подполковника вооруженные венгерские солдаты, которых было около взвода, слушали речь, ухмыляясь. Однако солдаты, сидящие в кузовах проезжавших мимо грузовиков, глядели на повешенного без улыбок; лица этих также одетых в венгерскую форму людей, многие из которых были похожи на румын, выражали обречённость.
Смысл этой сцены был Радецкому понятен. Венгры за какую-то провинность казнили одного из некомботантов своих рабочих батальонов. В эти батальоны на правах временно помилованных заключённых, для выполнения хозяйственных, строительных и других работ включались проживавшие в Венгрии евреи и цыгане. А румыны были, видимо, из Трансильвании. В 1940 году, по результатам Венского арбитража, Венгрия отняла у Румынии эту территорию, поэтому до 20–30% личного состава пехотных дивизий 2-й венгерской армии составляли трансильванцы.
–Это вам урок, негодяи! – вещал подполковник. – Чтоб вы знали, что своими жизнями отвечаете за жизнь мадьяр! Великий фюрер немецкого народа Адольф Гитлер был прав, когда приказал своим солдатам избавить мир от неполноценных рас – от таких, как вы! Но и наш вождь Хорти был прав, решив, что вы можете заработать себе немного жизни, если будете прилежно работать в интересах нашей армии! Помните: пока вы строите для нас окопы, колете дрова, стираете бельё, таскаете грузы, вы будете жить! Но когда вас, вместо казни, отправляли во фронтовые рабочие батальоны, никто не делал тайны из того, какая судьба вам уготована! Даже прилежно работающий еврей из рабочих батальонов не имеет право улыбаться в тот момент, когда погибают наши воины. Как улыбался этот, когда на дороге русские убивали венгров!
Сильный порыв ветра качнул тело повешенного, и оно начало медленно покачиваться на верёвке. Стоявшие рядом с подполковником венгерские солдаты дружно заулыбались.
Наконец, речь была закончена. По приказу подполковника, рабочий батальон начал грузиться находившиеся на площади грузовики. Венгры, являвшиеся, видимо, надсмотрщиками, грубыми окриками их погоняли.
Заметив, наконец, штурмбаннфюрера, подполковник приветственно кивнул.
–Вы, кажется, тот офицер, которого послали сюда по делу упавшего самолёта? – по-немецки сказал венгр. – Я – подполковник жандармерии Сабо. Меня уведомили, что в случае необходимости, я должен вам помогать.
По лицу Сабо был видно, что он уже не думал о том, что только что по его приказу был повешен человек. Этот венгр штурмбаннфюреру решительно нравился.
Радецкий показал своё удостоверение и спросил, указывая на повешенного.
–Скажите, господин подполковник, почему в проезжавших грузовиках не только румыны, но и явные венгры были не слишком довольны тем, что здесь происходило?
–Вам показалось, – в голосе Сабо звучала искренняя убеждённость. – Венгры – настоящие воины, они не могут жалеть всех этих жалких предателей!
Радецкий одобрительно кивнул.
–тогда к делу. У меня очень мало времени. Мне срочно нужно в местное подразделение СС, которое занималось поиском пропавшего самолёта.
–Отряд СС недалеко, на территории завода. Задержанные по этому делу местные тоже там. Мои люди помогали их собирать.
–Допрашивали задержанных?
–Согласно полученному распоряжению из Берлина, этот допрос может проводить только штурмбаннфюрер Радецкий.
Сабо сделал знак водителю итальянского «Фиата 508», стоявшего у дома, и тот немедленно подогнал машину к подполковнику.
Пока они ехали по неровной грунтовой дороге к возвышающимся неподалёку заводским корпусам, Сабо успел рассказать известные ему подробности происшедшего. Он утверждал, что никаких следов пакета, или пепла, если бы его успели сжечь, ни в самолете, но рядом найдено не было. У убитых вскоре диверсантов захваченных документов тоже не обнаружили. По поводу улетевшего на самолёте диверсанта подполковник сообщил, что издалека не было видно, нёс ли он портфель майора Райхеля. Но о документах что-то могут знать двое местных, которые были с русскими диверсантами, когда те напали на пост ПВО у дороги, чтобы прикрыть свой самолёт.
Через десять минут машина уже въезжала на складскую площадку химического завода. Радецкий был доволен: пока что всё происходило достаточно быстро.
Два десятка крепких молодых парней в полевой форме с чёрными петлицами сидели на площадке у стены запертого деревянного склада. На лицах эсесовцев застыло выражение скуки. Винтовки стояли перед ними в «пирамидах», сцеплённые штыками.
При виде вышедшего из машины штурмбаннфюрера, командовавший отрядом оберштурмфюрер быстро пошёл ему навстречу. Судя по лихорадочно блестевшим глазам оберштурмфюрера, дозу психостимулятора первитина он принял совсем недавно.
–Радецкий, – представился штурмбаннфюрер и показал своё удостоверение. – Где задержанные?
–Оберштурмфюрер Пиле.
По команде оберштурмфюрера эсесовцы разобрали оружие, открыли склад и начали выводить оттуда людей.
–Вот, сразу повеселели мои ребята! – сказал Пиле. – А то из-за этой истории все наши дела пришлось прервать. У нас в здание электроподстанций вроде как тюрьма, там ещё две сотни местных своей очереди дожидаются. Коммунисты, комсомольцы и всё такое. Мы здесь на жаре уже измаялись, но пока мы тех не ликвидируем, отдыха нам не видать. Эх, полежать бы на берегу, с холодным пивом!
Эсесовец мечтательно вздохнул.
–Где тела офицеров? – спросил Радецкий.
–Вон, в грузовике, под тентом. Два гроба мы для них нашли. Но жара! Мне передали, что нужно будет их отправить в Берлин – тогда тянуть не стоит.
Мертвые тела Радецкий рассматривал недолго. Убедившись, что, судя по ранам, оба офицера погибли в бою, он приказал закрыть крышки и везти тела в Харьков на аэродром, где уже был приготовлен грузовой самолёт.
Затем настала очередь задержанных. Едва Радецкий повернулся к группе людей, которых вывели из помещения склада, он внезапно почувствовал, что теряет над собой контроль. Десять мужчин со связанными сзади руками, десять женщин и десять детей стояли перед ним под дулами винтовок. Их лица выражали такой страх, такую обречённую покорность, что Радецкому захотелось немедленно начать казнь.
–А вы аккуратный воин, Пиле! Вижу, вы любите круглые числа. В придачу к тем двоим, что были с диверсантами, вы прихватили ещё двадцать восемь.
–Так удобнее вести учёт, – серьёзно ответил оберштурмфюрер. – Остальные – родственники и соседи двоих местных диверсантов.
В этот момент Радецкий обратил внимание на взгляд Сабо. Лицо подполковника, следившего за действом, выражало огромный интерес.
–Диверсантов сюда! – приказал Радецкий.
Обоих пожилых мужчин, рывших канаву у поста ПВО в момент нападения группы Ермакова, отвели от группы задержанных на двадцать шагов и поставили на колени.
–Мне нужно знать только одно, где похищенные в самолёте документы, – сказал им Радецкий по-русски, стараясь говорить спокойно. – Если вы будет упорствовать, за это сначала заплатят ваши близкие.
–Не знаем же! Откуда? – пробормотал тот, что был постарше, с оспинами на лице. – Мы же просто работали там. В глаза диверсантов до этого не видели?
–Значит, только информацию им заранее передавали?
–Что вы, господин офицер? Какая–такая информация? – взвыл второй, невысокий.
И тут же получил от Пиле удар пистолетной рукояткой по спине. Мужчина упал, но двое эсесовцев снова поставили его на колени.
Радецкий показал Пиле четыре пальца и через несколько секунд по команде оберштурмфюрера четверо мужчин у стены склада были сметены на землю выстрелами эсесовцев.
Завизжали женщины, закричали дети. Стараясь заставить их замолчать, эсесовцы угрожающе подступили к ним с поднятыми штыками. Арестованные мужчины попытались закрыть собой женщин и детей.
–Нет? – спросил Радецкий, вытаскивая пистолет.
–Не видели мы ничего! Не понимаешь, что ли, фашист? – прорычал тот, что был меньше ростом.
Радецкого охватила радостная дрожь. Чтобы Пиле и Сабо не заметили, как мелко затряслась его рука, державшая пистолет, он выстрелил в лицо невысокого и, быстро подойдя к группе задержанных, выстрелил снова, не выбирая цель. Под ноги ему упал светловолосый юноша с худыми руками. Затем Радецкий выстрелом в лицо убил плечистого мужчину, который был на вид самым сильным из арестованных.
–Эй ты, останови меня! – крикнул Радецкий стоявшему на коленях. – Ты, расскажешь мне правду о похищенных документах. Только это может сохранить жизни этим людям!
–Сволочь! – ответил рябой. – Гнида немецкая!
Несколько секунд Радецкий глядел на него, покачивая пистолетом. Затем перевёл взгляд на возвышающийся у склада дуб с ободранной внизу корой. По его приказу эсесовцы вывели из группы арестованных женщину и двух мальчиков, которых она держала за руки, и привязали их вокруг ствола дерева.
–А это лично тебе, за оскорбление немецкого офицера! – крикнул Радецкий рябому.
Тут вдруг ноги отказали штурмбаннфюреру, и он сел прямо на землю. Пиле почтительно склонился над ним, выслушал сбивчивый приказ и продолжил экзекуцию.
Вскоре младшему из привязанных к дереву мальчиков отрубили топором кисть руки, а другому отпилили руку по локоть пилой. И их матери Пиле облил ноги бензином и поджог.
–Я тоже попробую? – спросил Радецкого Сабо.
Не дожидаясь ответа, подполковник выстрелил рябому в голову.
В этот момент погружённый в какофонию криков штурмбаннфюрер понял, что сделал всё, что мог. Он чувствовал себя уставшим великаном, которому было подвластно сдвинуть гору. Сегодня он хорошо послужил великому Рейху, во славу германской нации.
И снова Пиле правильно отреагировали на его жест. Эсэсовцы быстро выровняли свой ряд и двинулись на оставшихся арестованных, быстро и чётко садя штыками.
Рейсхфюрер Гиммлер принял Радецкого один, в кабинете генерала Штумме.
Радецкий никогда не испытывал симпатии к этому человеку с лицом болезненного клерка, вознесённого судьбой на самый верх иерархии СС. В облике Гиммлера не было ничего от нордического человека; не отличался он и здоровьем – до Радецкого доходили слухи о том, что глава СС часто испытывает желудочные боли, от которых несколько раз даже терял сознание. Но Радецкий, конечно, умел вовремя выразить преданность и сердечное отношение к рейсхфюреру, когда в разговоре кто-либо упоминал его имя.
Лично Радецкий никогда ещё с Гиммлером не встречался. Но надеялся, что тот помнил имя заместителя командира зондеркоманды 4а айнзацгруппы C, так как в начале года был включён в список лиц, получивших особый знак отличия «За верную службу в СС».
Однако Гиммлер смотрел на вошедшего в кабинет и громко представившего ему штурмбаннфюрера без какой-либо симпатии. Собственно, у рейсхфюрера теперь не было ни времени, ни сил, чтобы быть любезным. Происшествие с самолётом незадачливого штабиста 40 танкового корпуса было лишь дополнительной причиной ухудшившегося настроения Гиммлера в этот день. Сначала был его утренний визит в один из концлагерей под Минском, где, судя по неоднократно поступавшим докладам, умертвщление заключённых и военнопленных было организовано из рук вон плохо. В этом Гиммлер убедился лично.
Процедура казни, за которой он наблюдал, ему совершенно не понравилась. Ударами прикладов приговорённых к казни принуждали спрыгивать в яму и там ложиться, затем стоявшие на краю ямы сотрудники вспомогательной полиции начинали расстрел. Понятно, что при стрельбе с некоторого расстояния в каждого расстреливаемого приходилось выпускать по несколько пуль. Всё это время из ямы слышались дикие крики. Затем на тела казнённых укладывались следующие приговорённые, и так повторялось до тех пор, пока тела не наполняли яму.
Эти отвратительные сцены шокировали Гиммлера. Он едва не снял с должности начальника лагеря и лишь с трудом заставил себя дать распоряжение «сделать процедуру казни более гуманной». Он привёл неразворотливому начальнику в пример другие лагеря, где немцы были избавлены от необходимости наблюдать живодёрские сцены, благодаря применению способа умертвщления газом. Причём «газовый» способ позволял пропускать через процедуру ликвидации намного больше заключённых.
–Мы должны вести дела со всем старанием, но при этом не забывать свой долг арийцев, – сказал затем Гиммлер. – Я, конечно, не задаюсь вопросом, как мы можем массово уничтожать наших врагов, которые иначе бы самым изуверскими способами убили всех нас вместе с нашими семьями. Но зачем немцам угнетать некрасивым сценами свои души?
По возвращении в Минск рейсхсфюрер для улучшения настроения отправился в местный детский дом, чтобы там, как он это часто делал на оккупированных территориях, поискать среди воспитанников детей с признаками принадлежности к арийской расе. На этот раз он нашёл сразу двоих юных арийцев, которых, явно, по ошибке причислили к славянам, велел дать им немецкие имена и отправить в германский детский дом. Правда, когда их уводили, эти двое, к удивлению Гиммлера отчего-то заплакали.
А потом рейхсфюреру доложили о пропавшем самолёт, в котором везли документы операции «Блау».
Доклад Радецкого о том, что потерпевший крушение самолёт найден в лесу, и что майор Райхель вместе с лётчиком убиты неизвестно откуда взявшейся разведгруппой русских, привёл Гиммлера в такой гнев, что штурмбаннфюрер под его взглядом втянул голову в плечи.
–Документы! – резко бросил Гиммлер.
–Судя по следам пепла в кабине, майор сжёг пакет, – солгал Радецкий. – Русские ушли ни с чем. Майор Райхель и пилот обер-лейтенант Дехант сражались как герои, уничтожив большую часть разведргруппы. Остальных венгерские солдаты убили в ходе преследования. Лишь одному русскому удалось подняться на прилетевшем за ним деревянном самолёте У-2. Но самолёт был обстрелян, лётчик ранен, и потому можно с уверенностью утверждать, что У-2 разбился.
–Но как русские узнали, где искать самолёт Райхеля? Вы провели расследование?
–Да, тщательно. Я выявил всех местных, которые помогали русским в нападении на Райхеля. Они уже ликвидированы.
Лицо Гиммлера начало проясняться.
–Что ж, вы, штурмбаннфюрер, умеете справляться с порученными делами. Пожалуй, я недаром наградил вас знаком отличия «За верную службу в СС».
–Счастлив, что вы знаете моё имя, рейхсфюрер! – отчеканил Радецкий. – Готов выполнить любой ваш приказ!
–На фронте нашей группы «Юг» никаких признаков того, что противник как-то реагирует на потерянный нами приказ, – сказал Гиммлер, обращаясь уже сам к себе. – Можно отправить сообщение фюреру из радиоцентра, а завтра, по возвращении в Берлин доложить обо всём лично. Как раз после встречи с финским фельдмаршалом Маннергеймом у фюрера будет хорошее настроение.
Гиммлер налил в стакан воды из стоявшего на столе графина, выпил её большими глотками и некоторое время сидел, глядя в стол, прислушиваясь к процессам в своём пищеводе. Наконец, он удовлетворённо хмыкнул и поднял глаза.
Радецкому показалось, что в этот момент рейсхфюрер словно не понял, что за человек перед ним стоит.
–Хорошо, штурмбаннфюрер, я вижу ваше старание, – сказал Гиммлер. – Какие у вас теперь планы?
–Служить Рейху! Я – заместитель командира Зондеркоманды 4а Айнзатцгруппы «C», отвечающей за район Харькова.
–Вы ведь у нас ещё и аристократ?
На лице «клерка» появилась усмешка.
–Да, мой рейхсфюрер! Но теперь просто солдат СС!
–Ничего, в СС можно состоять и будучи аристократом.
Радецкий глотнул воздух, открыл было рот, чтобы ответить, но Гиммлер благожелательно махнул рукой.
–Вот что, штурмбаннфюрер, я, пожалуй, поощрю вас новым интересным назначением. В ближайшее время мы возьмём русский город Воронеж, и вы отправитесь туда уже в качестве начальника айнзацгруппы воронежского района. Аристократы нынче довольно бедны, а на этой должности вы сможете поправить своё положение. Это – весьма выгодное дело, не так ли? Гоняясь за евреями и прочими злодеями, вы сможете в обход гестапо брать себе их золото и драгоценности.
Радецкий застыл, словно изваяние. Он понимал, что вырази он сейчас какую-либо эмоцию, скажи хоть слово, – это будет истолковано рейхсфюрером как наглость.
–Думаю, со временем, мне придётся включить в свою сферу и гестапо, – продолжил Гиммлер. – Но пока мне и с задачами СС забот хватает. Гестапо же будет помогать вам в любом деле и так. Никто не посмеет идти наперекор личному порученцу рейсхсфюрера СС – начальника айнзацгруппы.
–Благодарю, мой рейхсфюрер!
Гиммлер небрежно махнул рукой.
–Вот ещё что. У меня к вам, штурмбаннфюрер, в связи с вашим назначением будет небольшое поручение. Я просил бы вас взять на себя опеку над одним молодым человеком. Хочу помочь моему другу, тоже мюнхенцу, старому члену НСДАП. Недавно он пожаловался, что его отправляющийся на фронт племянник, верный солдат Германии, отчего-то вбил себе в голову, что служить в немецкой армии более почётно, чем в войсках СС. Ганс Ройнфельд, лейтенант, он получил назначение в 21-й панцергренадёрский полк, где много наших земляков. Это 24-я танковая дивизия 48-го танкового корпуса, который будет наносить главный удар при наступлении на Воронеж. Присмотрите за этим лейтенантом! Он искренне предан Рейху, но, видимо, нуждается в некотором внушении. Я хочу, чтобы он изменил своё представление о патриотизме. Помогите ему, чтобы я мог как-то отчитаться перед товарищем. 24-я танковая после взятия Воронежа уйдёт на юг. Сделаете так, что Ройнфельд остался в Воронеже под вашим присмотром! Всё ясно?
Радецкий быстро кивнул и снова преданно уставился на рейхсфюрера.
–я позвоню Готу, – продолжил Гиммлер. – Вы присоединитесь к штабу 24-й танковой как мой офицер связи. Как только Воронеж будет захвачен, вы там – начальник айнзацгруппы.
Радецкий ждал, но Гиммлер всё не подавал ему знак, что разговор окончен.
–И ещё. Даже если, тот русский, улетевший на У-2, увёз с собой пакет Райхеля, вы, штурмбаннфюрер, если вдруг вас вызовут с этим вопросом в Берлин, никоим образом такую возможность не подтвердите. Так фюреру будет спокойнее. А выводы из вашего сегодняшнего доклада последуют. За всю эту историю ответят и генерал Штумме, и его начальник штаба, и командир 23-й танковой дивизии генерал фон Бойнебург–Ленгсфельд. Ваш доклад будет способствовать тому, чтобы воспитание личного состава в Вермахте было поставлено лучше.
–А как ответят русские за смерть Рехеля? – спросил Радецкий, набравшись смелости.
Гиммлер одобрительно кивнул.
–Наказание последует. Это – неизменное правило Рейха. Я подскажу фюреру, что маршал Геринг мог бы отдать приказ в отместку за Райхеля разбомбить в Воронеже какое-нибудь значимое для русских место. Например, здание местного драмтеатра, архитектурой которого они, по словами Канариса, очень гордятся.
Глава 6. Прощание
Вот уже десятый день подряд начальник сектора технического контроля ходовой части установок «БМ» завода имени Тельмана Иван Савкин носил в дирекцию заявления с просьбой снять с него бронь и отпустить на фронт. Пехотинец Иса уже был на передовой, а Ивану, прошедшему ещё до войны, во время службы в армии обучение на танкиста, по-прежнему отказывали. Но он угрюмо продолжал добиваться своего, зная, что всё равно не сможет заставить себя жить прежней безопасной жизнью. Картины из разбомбленного Сада Пионеров всё время всплывали в его памяти, и чаще всего это было лицо мёртвой сестры, глядящей в небо неподвижными глазами.
Иван понимал, что он – хороший специалист ОТК, что он нужен заводу, со всей своей въедливостью и раздражающей мастеров требовательностью к качеству испытываемой им ходовой части «Катюш». Только он мог быстро определить состояние грузовых платформ «ЗиС», на базе которых монтировались реактивные установки. Были дефекты, которые пропускать было нельзя – Савкин как раз и был таким специалистом, который безошибочного распознавал превышающие «норму допуска» дефекты грузовой платформы.
Он продолжал делать свою работу, но всё равно знал, что долго на заводе не задержится. Не трогали его ни уговоры начальника ОТК Старкова, ни увещевания мастеров, отвечавших за монтаж машин, ни даже беседа, которой его, пока ещё только комсомольца, удостоил секретарь парткома завода Липчанский, недавний фронтовик, в феврале 1942 года потерявший руку под Демьянском. Слезы матери и просьбы отца, только что похоронивших дочь, тоже не смогли заставить Ивана поменять решение. Он продолжал упрямо писать заявления, не злясь, не срываясь, не пытаясь уговорить, а просто добиваясь своего.
Во время коротких рабочих перерывов Иван прорывался в один из «ответственных» кабинетов завода и вручал их хозяевам свои заявления.
Все близкие Ивана считали, что он ищет смерти. Так думала даже Эльза, даже мудрая Софья Петровна, несмотря на все его уверения. Но Иван вовсе не за смертью рвался на фронт, а для того, чтобы взять с врагов долг кровью.
20 июня, послушавшись совета Софьи Павловны, уехали в Казань к родственникам родители Исы. На следующий день Иван проводил до станции своих родителей, которые решили отправиться в Свердловск. Там, по слухам, не хватало школьных учителей из-за большого количества переехавших туда с детьми работников эвакуированных заводов.
А 22 июня на фронт уехал Иса, получивший под своё начало взвод новобранцев. Отчего-то он даже Эльзе не сообщил о том, что уезжает. Из-за этого Иван подумал, что его друг не такой уж и железный горец, раз побоялся расчувствоваться в такой момент перед друзьями.
Вечером того же дня Ивана навестил Сева и с гордостью сообщил, что получил, наконец, комсомольскую повестку от Горкома на вступление в ряды ополчения. Ещё Сева посетовал, что Эльзе по непонятным причинам Горком комсомола с приёмом в ополчение отказал. Но она всё равно решила отправиться в военкомат на следующий день, по окончании её семинара в Университете.
Окончательно терпение Ивана лопнуло утром 23 июня. Это произошло вдруг, после того, как, идя на смену, он услышал через громкоговоритель, установленный у заводской проходной, очередное сообщение Совинформбюро.
«К весеннее-летней кампании немецкое командование подготовило, конечно, свою армию, влило в неё некоторое количество людских и материальных резервов. Но для этого гитлеровским заправилам пришлось взять под метелку все остатки людей, способных держать в руках оружие, в том числе ограниченно годных, имеющих крупные физические недостатки. В течение зимы гитлеровское командование неоднократно обещало немецкому населению, что весной Германия начнёт решающее наступление против Красной Армии. Весна прошла, но никакого решающего наступления немецкой армии не состоялось…»
Эта фраза словно резанула Ивана по сердцу. Он остановился, не понимая, почему слова Левитана, голосу которого нельзя было не верить, на этот раз прозвучали как пустые утешения. Иван, лично видевший то, что сотворили немцы в Саду пионеров, был убеждён, что это особое злодейство могло объясняться лишь тем, что скоро они начнут наступление именно на Воронеж.
«Конечно, на фронте такой протяженности гитлеровское командование ещё в состоянии на отдельных участках сосредоточить значительные силы войск и добиваться известных успехов, – продолжал Левитан. – Так, например, случилось на Керченском перешейке. Но это ни в какой мере не решают судьбу войны. Потому что немецкая армия 1942 года – это не та армия, что год назад. Отборные немецкие войска в своей массе перебиты, кадровый офицерский состав частью истреблен Красной Армией, частью разложился в результате грабежей и насилия над гражданским населением оккупированных районов. Младший командный состав, как правило, перебит и теперь набирается в массовом порядке из необученных солдат. Ныне немецкая армия не в состоянии совершать наступательных операций в масштабах, подобно прошлогодним…»
«У меня уже мало времени, – подумал Иван. – Всё начнётся очень скоро. А ведь мне нужно ещё успеть получить мой танк».
Едва началась его смена, он начал беспощадно отбраковывать ходовую часть каждой из испытываемых машин – благо в той спешке, с которой установки «БМ» готовили к отправке на фронт, без мелких недоработок обойтись было невозможно. Уже через час начальник ОТК Старков, ветеран завода, явился на площадку и начал орать на Ивана благим матом, обвиняя его во вредительстве. Иван в ответ заявил, что просто делает своё дело, и сунул Старкову очередное заявление.
Воронежский вагоноремонтный завод имени Тельмана в 1942 году занимался созданием бронепоездов, ремонтом танков, выпуском крупнокалиберных снарядов, но главным производством его считалось создание «Катюш», которое было частично перенесено в его цеха после эвакуации завода имени Коминтерна. Поэтому о скандале на участке проверки «БМ» стало вскоре известно всему заводу.
Продолжая ругаться сквозь зубы, Старков теперь неотлучно находился на испытательной площадке, следя за действиями подчинённого. Но, действительно, все «придирки» Ивана были технически обоснованы.
Ближе к обеду на стенд явился и секретарь парткома завода Липчанский. Он долго стоял рядом с разъярённым Старковым, молча наблюдая за Иваном. Потом подошёл к нему и с сожалением произнёс:
–Не ждал я от тебя такого, Савкин, не ждал. Что же теперь с тобой прикажешь делать?
–На фронт мне надо, вы же знаете, – ответил Иван, не поднимая глаз.
–Теперь это будет ещё труднее. Ты показал дурной пример. Что будет, если мы тебе уступим? Другие рабочие с бронью, которым фронт пока заказан, тоже будут завод шантажировать?
–Всё равно… Я хоть через хулиганку – в тюрьму, а потом в штрафбат. Вы простите меня, товарищ секретарь! Не могу ничего с собой поделать. И не хочу!
Липчанский покачал головой и ушёл, напоследок что-то тихо сказав Старкову. Тот удивлённо кивнул, подождал, пока секретарь скроется за дверями цеха и быстро подошёл к Ивану.
–Ладно, посмотрим, что будет. Ты вот что, Савкин, концерт пока прекращай! Липчанский по поводу тебя решил после смены собрать партком завода. Не нужно, чтобы они тебя, и правда, считали вредителем. Принимай машины как обычно, а дело твоё вечером так или иначе решится. Хорошо, что директор завода болен – он бы тебя не помиловал. А Липчанский – человек понимающий.
И Иван послушался старого рабочего. За день, стараясь изо всех сил, он успел пропустить через площадку ОТК все назначенные к осмотру машины, в том числе вернул из отбраковки те, которые проверял утром. Но всё равно, разнос, который ему устроили на парткоме, был жёсткий и нелицеприятный. Все говорили о нём на повышенных тонах. Его обвинили в непонимании текущего момента, в мягкотелости и эгоизме, угрожали, что с таким отношением его никогда не примут в партию. Все хотят на фронт, а ты вот здесь, где нужно, поработай!
Были и такие, кто предлагал, чтобы другим неповадно было, посадить Ивана за умышленный саботаж. Особенно негодовали старинные приятели Старкова – мастер сборочного участка верзила Пальчиков и юркий бригадир слесарного участка Халилов. Пальчиков напирал на политическую незрелость комсомольца Савкина и предлагал поставить соответствующий вопрос в Комитете Комсомола завода; а Халилов, сверкая чёрными глазами, даже произнёс слово «вредительство».
Иван молча сидел у стены и смиренно слушал, как его обсуждают сидящие вокруг широкого стола члена парткома. Его не спрашивали ни о чём, никто на него даже не смотрел – все обсуждали проблему, а не человека. Иван понимал, что этими людьми движет искреннее беспокойство о делах завода, о военном плане, о сплочённости коллектива. Но всё же ему было немного обидно, что он для них теперь был лишь смутьяном, проявившим неуважение к заводу и к своим товарищам.
Только Старков, инициировавший вопрос по Ивану, теперь словно старался его выгородить. Да, Савкин, не прав, говорил Старков, но его можно простить – не со зла ведь всё это он устроил. А план он сегодняшний уже закрыл – все машины после полного осмотра через площадку пропустил, и утренние тоже. В ответ некоторые члены парткома обвинили самого Старкова в мягкотелости.
Тогда Липчанский прервал обсуждение и взял слово. Неожиданно для всех он повёл речь не о конкретном проступке Ивана, а о войне. Голос его теперь стал тише, а тон мягче. Он говорил о том, что война изменила всех: людей, правила – и всю жизнь, что многих теперь накрыли злость и ненависть, и они начали забывать, как это: просто жить, не думая о гибнущих каждую секунду советских людях. Есть и те, кто из-за войны потерял себя, утратил чувство товарищества, с головой погрузился в свои собственные переживания. Такие уже не чувствуют ответственности за общее дело –их может вылечить, вернуть в чувство только фронт, но они, как правило, до последнего цепляются за возможность отсидеться в тылу. Но есть теперь много и тех, кто, как Иван Савкин, бояться потерять себя именно в тылу, считая, что не могут отсиживаться за спинами тех, кто ежеминутно рискует своей жизнью на передовой.
–Я видел на фронте много таких людей. Таким был и мой сын, который месяц назад погиб!
Голос Липчанского надломился. Он достал из кармана смятый треугольный конвертик.
–Ты, Савкин, зачем хочешь на фронт? От себя бежишь, или так себя ищешь? А мой Павлик пошёл в армию не для себя, а потому, что по-другому было для него нечестно. Только так нужно воевать. Иначе и не подвиг это, а вроде как блажь.
И Липчанский начал читать письмо вслух.
–«Папа, вот я и на фронте. Ты уже в тылу, но теперь я сражаюсь на передовой за родную землю, за всю нашу страну. Я не знаю, боюсь ли умереть, но, наверное, этот страх простителен, потому что я делаю здесь всё, как положено солдату. Я защищаю советских людей, мою маму, тебя, сестёр от страшного врага. Ты меня поймёшь, а они пускай пока не знают, с какими людоедами, извергами, насильниками мы здесь воюем. Когда мы отбиваем у них какие-нибудь деревни, мы всегда находим там могилы замученных пленных, расстрелянных коммунистов и комсомольцев, казнённых евреев. Я готов воевать без сна и отдыха, жить впроголодь в сырых окопах, лишь бы быстрее уничтожить всю вражескую нечисть, приползшую на нашу землю. Так думают у нас в полку все. Мы будем уничтожать фашистов из пушек, минометов, пулеметов, автоматов, винтовок, будем душить их голыми руками. Я уже много раз видел, как погибают мои товарищи, но знаю, что мы победим. Те из нас, кто доживут до победы, будут самыми счастливыми людьми на свете. И мы вернёмся, чтобы рассказать вам, что нам здесь пришлось пережить!»
–Простите меня! – сказал Иван, сжимая кулаки. – Я вёл себя не как человек.
Все смотрели на него так, словно видели в первый раз, словно и не понимали, о чём он сейчас говорил.
–Так зачем ты, Савкин, хочешь идти на фронт? – спросил Липчанский.
И в голосе его послышалась жалость.
–Моя очередь, – ответил Иван. – Просто теперь моя очередь!
И его отпустили, хотя все понимали, что это неправильно.
Уже через час Иван оформил все необходимые документы и вышел за ворота завода с долгожданной рекомендацией на зачисление в танковые войска. Ему очень хотелось немедленно пойти в военкомат, но сначала он решил зайти за Эльзой в университет, чтобы идти в военкомат вместе.
В Воронежском государственном университете было малолюдно, потому что уже начался период каникул, к тому же после 13 июня было принято решение об эвакуации университета в Елабугу. Но всё равно в коридорах большого университетского здания народ ещё ходил – это были слушатели различных курсов, которые продолжали вести сотрудники ещё не эвакуированных кафедр. Курсы имели прикладное значение и были организованы для военных, ополченцев и для членов добровольных отрядов содействия фронту.
Работала пока и университетская библиотека, заведующей которой была Софья Павловна. По дороге на кафедру иностранных языков Иван хотел было зайти и к ней, но удержался, решив, что она снова будет его отговаривать от фронта.
На оконном подоконнике возле открытых настежь дверей кафедры, Иван увидел Мишу Фетисова, которого неоднократно видел на семинарах Эльзы. Сейчас мальчик был одет в выглаженный школьный костюм, его пионерский галстук был ровно повязан, и придавал простоватому лицу мальчика некую солидность.
Что-то быстро записывая в лежащем на коленях блокноте, Миша то и дело посматривал в открытую дверь, откуда доносился голос Эльзы, декламирующей немецкий текст.
–Это вы, дядя Иван. Мне тоже сегодня там места не хватило, – сказал мальчик сердитым голосом. – Несправедливо, да? Я на курсы уже три месяцы хожу, а сегодня вперёд меня набежали.
От окна, возле которого сидел Миша, через проём двери была видна учебная доска, рядом с которой с небольшой брошюрой в руке стояла Эльза. На доске мелом было написано по-немецки: «Бор–Раменский. 1942 год. Кто такие гитлеровцы».
Судя по малиновым петлицам военных, сидевших в аудитории, здесь были в основном офицеры и сержанты НКВД из расквартированных в городе полков. Участников семинара было не менее ста человек, но Эльза вела занятие уверенно; она быстро переводила текст брошюры на немецкий и давала чёткие пояснения.
У них в школе немецкий язык преподавали не очень, но когда Иван бывал с Исой у Эльзы дома, Софья Павловна во время их вечерних посиделок часто развлекала детей немецкими сказками, многие фразы произнося и по-русски, и по-немецки. Это было очень интересно, так как мама Эльзы и Севы умела превратить в загадку сравнение немецких и русских фраз, находя во многих сходные и по значению, и по звучанию слова.
–… «В течение нескольких лет гитлеровцы вколачивали в головы немцев одну и ту же бредовую мысль о неравенстве рас, – диктовала Эльза по-немецки. – Весь огромный пропагандистский аппарат фашистской партии, вся её печать были мобилизованы для того, чтобы соблазнить немца мыслью о возможности ограбить другие народы…»
–А меня в военкомате завернули! – сказал Миша. – Несправедливо это. Что я не человек?
–Человек. Но подросток, – ответил Иван, продолжая с интересом наблюдать за Эльзой.
–«Гитлеровские палачи и политические жулики готовили армию разбойников. Выставляя себя сторонниками собирания и воссоединения немецких земель, национал-социалисты готовили захват других стран и народов. Гитлер начертал на своём знамени покорение всей Европы, а затем и всего мира. Упоённый лёгкими победами в Западной Европе и на Балканах, Гитлер 22 июня внезапно, из-за угла напал на нашу Родину. Он забыл, чем кончились все походы иноземных захватчиков на Россию».
Эльза прервала декламирование и громко спросила аудиторию, знают ли слушатели, что сказал о фашистах товарищ Сталин в своём докладе о 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции? Многие подняли руки, но Эльза указала на пытавшегося спрятаться за спинами товарищей широколицего сержанта, похожего на борца. Тот поднялся с огорчённым видом и ответил, с трудом подбирая немецкие слова:
–«Гитлеровская партия – есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенских погромов».
–Молодец, Сабашин, но вам нужно больше практиковаться.
Неожиданно сержант заулыбался.
–Так, попрактикуемся! Обязательно!
Весь зал засмеялся.
Эльза одобрительно кивнула, но тут же подняла руку, призывая участников занятия к тишине. И семинар продолжился. Теперь Эльза начала произносить фразы из книги по-русски и указывая то на одного, то на другого слушателя, и просила переводить на немецкий.
Ивану было немного удивительно, что все эти офицеры и сержанты НКВД, многие из которых были старше Эльзы, явно, признавали её авторитет и искренне радовались, когда получали её одобрение. Сама же Эльза, как показалось Ивану, была теперь немного более эмоциональна, чем обычно. Наверное, на это повлияла тема занятия. Фразы «гитлеровская партия», «гитлеровские палачи», она произнесла с заметным отвращением.
Эльза посмотрела на свои наручные часики и начала давать задания для самостоятельной работы.
–Ну вот, закончилось, – с сожалением произнёс Миша. – Мало. На фронте фрицев пока не пойму.
Но Иван даже не повернул к нему головы. Потому что сейчас его занимало то, что идущую к выходу из аудитории Эльзу сопровождал какой-то майор.
Заметив Ивана, девушка помахала ему рукой.
–я – в военкомат. Так что пойдём вместе, – сказал ей Иван, «не замечая» майора.
И показал ей заводскую рекомендацию.
–Хорошо, что ты зашёл, – ответила Эльза. – А это майор Ермаков. Он у Сада Пионеров мне очень помог. С мамой они потом поговорили интересно.
При упоминании о знакомстве майора с Софьей Павловной, Иван насупился. Но Ермаков продолжал улыбаться, с явным восхищением глядя на девушку.
Ещё вечером 21 июня новый личный порученец командующего Брянским фронтом получил от него первое задание. Приказано было отправиться в Воронеж, и там при содействии начальника гарнизона полковника Глатоленкова в течение двух дней изучить его оборону. Более суток, без сна и отдыха Ермаков мотался на предоставленном ему Глатоленковым ленд–лизовском «Виллисе» по позициям 232-й дивизии, изучал систему обороны мостов через Дон и через городскую реку Воронеж, проверял конфигурацию расположения постов ПВО, разговаривал с начальниками тыловых служб и с командирами городского ополчения. Всё это время его преследовала мысль о том, что где-то неподалёку находилась Эльза, которую легко было найти или в её квартире на проспекте Революции, или по месту работы – в Воронежском университете.
Почему-то Ермаков был уверен, что Эльза пока не уехала – не таков был характер у этой девушки, чтобы бежать при первых признаках опасности. Поэтому, завершив в городе дела на полдня раньше, чем было запланировано, он решил отложить свой отъезд в Елец на несколько часов, посвятив их Эльзе.
Ермаков поехал в университет, рассудив, что днём Эльза скорее всего там, и оказался прав. Едва войдя в здание, он с радостью увидел на доске расписания курсов, запись о назначенном на это самое время семинаре Эльзы.
Занятие он высидел с удовольствием, слушая её голос как музыку. Эльза заметила его, но ни удивления, ни радости по этому поводу не выказала. Она даже несколько раз в течение занятия задавала ему вопросы, как участнику, и он, прекрасно знавший не только венгерский, но и немецкий, отвечал на отлично, вызывая восхищения у других участников занятия.
По окончанию занятия, к его разочарованию, ему не удалось пообщаться с Эльзой вдвоём. В дверях её ждал парень – один из друзей Эльзы Иван, о котором упоминала Софья Павловна. К тому же, едва он сказал Эльзе пару слов, к нему пристал какой-то малец, стоявший рядом с Иваном.
–Вы знаете тётю Эльзу, помогите мне, меня в военкомате слушать не хотят! – выпалил паренёк, с надеждой глядя на Ермакова снизу–вверх.
–Правильно, что не хотят! – серьёзно ответил майор. – Тебе бы подрасти ещё. Дело солдатское тяжёлое.
Он специально говорил с мальчишкой без какого-либо сочувствия. Иначе теперь пришлось бы заниматься уговорами и утешениями, на которые у Ермакова времени не было.
Мальчишка снова посмотрел в лицо майора, перевёл взгляд на его орден Красной звезды, вдруг всхлипнул и побежал прочь, стирая ладошкой слезы.
–Строго вы с ним, майор, – сказал Иван, глядя на Ермакова с неприязнью.
–Знаю. Но иначе ему было бы обиднее, если бы я его обнадёжил, а потом отказал.
–А вы здесь зачем? – спросила Эльза. – Мы с мамой думали, что уже вас не увидим.
–Мои родители в Москве, – ответил Ермаков, глядя ей в глаза. – В Воронеже мне заботиться не о ком, кроме вас и Софьи Павловны. Я пришёл предупредить, чтобы вы с ней как можно скорее уезжали отсюда. Софья Павловна была права: скорое начнётся немецкое генеральное наступление в направлении Воронежа.
–Вот это да! Я так и знал! – пробормотал Иван. – Ну, тогда я вовремя на заводе всё уладил. Эльза, я побегу в военкомат! Ты со мной?
–Я отвезу вас обоих. У меня машина, – сказал Ермаков, которого сильно огорчила новость о том, что Эльза собралась в военкомат. – Сначала давайте сообщил Софье Павловне. Её нужно собрать сегодня же. Когда будет объявлена общая эвакуация, по дорогам запросто не проедешь. И, думаю, немцы будут бомбить сильно.
–Да, маму нужно отправить! – сказала Эльза, покусывая губы. – В городе Новая Усмань, в 13 километрах от Воронежа у нас живут родственники.
–тогда пойдём быстрее! – бросил Иван и первым пошёл к лестнице, ведущий на этаж библиотеки.
Увидев Ермакова, Софья Павловна обрадовалась и не удивилась. Когда же он сказал ей о необходимости срочно уехать, покачала головой.
–Да-да, университет эвакуируется в Елабугу. Но завуч меня пока не отпустит. На упаковку и отправку нашего библиотечного фонда уйдёт ещё не менее недели. А до этого, как говорит наш завуч, университет – это пост, линия обороны для сотрудников.
–Хорошо, я решу вопрос! – решительно произнёс Ермаков. – Вы, Софья Павловна, пока сообщите сотрудникам библиотеки, чтобы они готовились уезжать, а книжными фондами будет заниматься тыловая службы гарнизона.
Эльза и Софья Павловна переглянулись.
–А вы уже майор, – сказала Софья Павловна. – Что, вам теперь поручен важный пост?
–Так уж получилось. Я теперь личный порученец командующего фронтом.
И снова на лице Ивана появилась неприязненная мина.
Разговор Ермакова с завучем, грузным лысоватым мужчиной со строгим лицом, не занял много времени. Увидев документ штаба фронта, предписывающий оказывать майору Ермакову всяческое содействие, завуч тут же согласился отпустить Софью Павловну. Но не преминул при этом отметить, что она слишком надменна, слишком много о себе понимает и не очень любит заниматься общественной работой. После этих слов рассерженный Ермаков потребовал, чтобы уже все сотрудники библиотеки получили право на эвакуацию, сдав книжные фонды военным тыловикам. Завуч пытался протестовать, заявив, что для этого положен прямой запрос, так как библиотека – народное достояние, и пока она не вывезена, сотрудники должны считать себя здесь на посту! На что Ермаков ответил, что главное народное состояние – это люди, особенно такие уникальные специалисты, как в университете.
–Вы, что товарищ, хотите, чтобы командующий фронтом вместо того, чтобы фашистов бить, с вами бюрократическую переписку устраивал. Вам не кажется, что это саботаж. А может быть вредительство?
Завуч быстро вскочил, замахал руками.
–Что вы, это невозможно! Мы сделаем всё, как положено! Присылайте к нам тыловиков для отправки книг!
–Думаю, об этом вы сами договоритесь, – холодно ответил Ермаков. – Вам нужно всего лишь сходить в тыловую службу гарнизона. Или можете отправить письменный запрос начальнику воронежского гарнизона. Правда, в этом случае есть риск, что он тоже примет вас за бюрократа.
Тесный «Виллис» вместил троих пассажиров и солидную связку особо ценных библиотечных книг, которые Софья Павловна решила забрать с собой. Высадив её возле дома и договорившись, что она соберёт вещи через два часа – к семи вечера, Ермаков отвёз Эльзу и Ивана к военкомату. Затем он поехал в гарнизонный гараж, где не без труда заполучил на сутки в свое распоряжение полуторку.
Водителем машины был совсем ещё молодой солдат, рядовой, который сразу же проникся уважением к строгому майору с орденом на груди. Ермаков дал солдату адрес Софьи Павловны и распорядился заправить машину бензином, чтобы хватило на 100 километров пути, и оказать помощь с погрузкой вещей заведующей библиотекой Воронежского университета. В семь вечера всё должно быть готово к поездке в Новую Усмань.
Эта бурная деятельность, доставляла Ермакову большое удовольствие, так как он знал, что Эльза будет ему за это благодарна. Однако радость его улетучилась, как только его «Виллис» подъехал к военкомату. В стороне от длинной очереди, выстроившейся у двери военкомата, он увидел Эльзу; лицо её было бледным, на нём застыло выражение обиды.
–Меня не берут! – сказала она, мучая в пальцах мятый лист бумаги. – Узнали, что мой папа немец, и сказали, что я им не подойду. Так зло на меня смотрели, как будто я – фашистка.
–А Иван?
–Его уже оформляют в часть. Кажется, 14-й танковый корпус. Давно я его таким довольным не видела!
Ермаков осторожно взял обеими руками её ладонь и нежно погладил. Она с удивлением взглянула на него, отняла руку, и снова с тоской посмотрела на очередь.
Он знал, что должен что-нибудь сделать, чтобы она снова посмотрела на него по-доброму, но никакие отвлечённые темы Эльза, явно, теперь обсуждать не хотела.
–я знаю, что нужно делать, – сказал Ермаков, чувствуя, что делает самую большую ошибку в своей жизни. – Есть один человек, одна часть, в которую вас возьмут без разговоров. Вы подождите здесь. А я скоро приду.
Её большие зелёные глаза по-прежнему смотрели на него недоверчиво.
–Я скоро! – повторил он и почти побежал к двери военкомата.
В помещении связи он показал удостоверение и набрал телефонный номер, записанный у него в блокноте. Это был телефон расположенного у Воронежа военного полигона, где была срочно организована разведшколы для ускоренной подготовки бойцов партизанских отрядов. Там должен был находиться куратор от Генштаба зафронтовой разведки фронта полковник Корнев.
К семи вечера всё было готово к отъезду Софьи Павловны. Нагруженная вещами и книгами полуторка с военным водителем вызывала большой интерес у соседей. Из всех окон дома с любопытством и с некоторым подозрением наблюдали, как Эльза, её приятель Иван Савкин и неизвестный майор с орденом грузили в кузов вещи.
Незадолго до семи, оповещённый матерью по телефону, из Горкома Комсомола прибежал Сева. Ни слова не говоря, он обнял Софью Павловну и горестно засопел, а она принялась утешать его, называя, «мой ребёночек», как в детстве. Эльза подошла к ним, и положила руки им на плечи.
Не отрываясь от детей, Софья Павловна, заговорила с Иваном. Она сказала ему, что он обязан остаться жив, потому что не так много у её Эльзы друзей. И добавила вдруг, что он всегда должен верить Эльзе, что бы о ней не услышал. Иван, немного растерянный, в ответ забормотал всякие бодрые глупости, о том, что Эльзе он будет верить всегда, а по поводу него самого: фронт – это тоже работа, ведь танкисты, кроме наград за подбитые танки получают хорошие деньги – 2 тысячи рублей за каждый танк.
Ермакову Софья Павловна не пожелала ничего, но попросила его защитить её деток.
Не выдержав, Сева всё-таки заплакал, а Эльза лишь смотрела на мать виноватым взглядом. Ни она, ни Ермаков так и не сказали Софье Павловне, что уже завтра в город за Эльзой приедет полковник Корнев.
На улицу из дома выходило всё больше людей. Софья Павловна, наконец, оторвалась от детей и начала прощаться с соседями, желая им всякого хорошего. При этом она несколько раз, для всех, повторила, что нужно уже думать об отъезде из города, потому что и сюда скоро могут добраться фашисты.
Потом грузовик уехал, увозя Софью Павловну, и многие из стоявших у дома людей вдруг почувствовали, что это на первый взгляд не очень важное событие изменило их жизнь, что какая-то невидимая ещё, неведомая тягота подступает к ним, неся с собой дурные, опасные перемены.
Но среди тех жителей дома, которые наблюдали за отъездом Софьи Павловны из окон, много было таких, кто воспринял это с облегчением, так как её, за прямоту и честность, многие в доме побаивались. Были и такие, кто открыто посмеивался, глядя, как уезжает из их дома жена погибшего в Гражданскую комиссара.
Глава 7. Передовой рубеж
Вечером 27 июня 1942 года обстановка на командном пункте штаба 40-й армии, прикрывавшей участок фронта перед рекой Тим, была вполне будничной. Несмотря на то, что в ночь на 28 июня ожидалось немецкое наступление, люди в штабе вели себя совершенно спокойно, деловито, двигались по коридорам без спешки, разговаривали, не повышая голоса. Даже в оперативном отделе, где с утра находился личный порученец командующего фронтом майор Ермаков, не было ни суеты, ни нервозности, которые, кажется, обязательно должны были проявляться в такой момент. Видимо, работники штаба брали пример с командарма Парсегова, который как всегда излучал спокойствие и оптимизм. При этом, по мнению Ермакова, командарм не слишком внимательно относился к поступающим в штаб сведениям о подготовке дивизий к обороне.
Конечно, на первый взгляд, Парсегов делал всё правильно: он через каждый час лично заходил в оперативный отдел за новыми сводками и донесениями, через каждые два часа связывался по радиосвязи с командирами своих дивизий, через каждые три часа устраивал совещания с руководством отделов штаба, а затем звонил с отчётом о готовности войск начальнику штаба фронта или лично командующему. И всё же, Ермакова не покидало ощущение, что в штабе 40-й дело пущено на самотёк, что здесь не слишком озабочены тем, чтобы постоянно, на основании поступающих данных, выискивать слабые места в оборонительном плане армии. Возможно, расхолаживало штабистов то, что КП Парсегова находился довольно далеко от линии фронта, в селе Ефросиновка – в 52 км к юго-востоку от передовой, проходившей у Щигров.
А ведь положение дивизий на линии фронта было очень неустойчивое. Согласно разведстводкам, поступающим в штаб командующего Брянским фронтом, против 40-й армии была сосредоточена значительно превышающая её по численности и вооружению группировка. Немецкий 48-й танковый корпус 4-й танковой армии был выдвинут к участкам обороны 121-й и 160-й стрелковых дивизий армии Парсегова, а также к участку 15-й стрелковой дивизии 13-й армии, оборонявшейся севернее. К югу от 160-й дивизии, против 212-й, 45-й и 62-й стрелковых дивизий 40-й армии были сосредоточены части 2-й Венгерской армии, поддерживаемой 7-м немецким пехотным корпусом.
Эту силу трудно было удержать, даже с учётом наличия у 40-й армии второй линии обороны. У деревни Расховец – за наиболее опасным участком, который обороняла 121-я стрелковая дивизия, находилась 111-я стрелковая бригада, и, немного севернее – 119-я стрелковая бригада, а за позицией 160-й стрелковой дивизии, недалеко к юго-востоку стояла 6-я стрелковая дивизия. Кроме того командующий 40-й армии располагал мобильным резервом, который составляли 14-я и 170-я танковые бригады.
Около десяти часов вечера 27 июля, очевидно, чтобы ещё более подбодрить работников штаба, Парсегов приказал устроить для них в столовой читку передовицы нового номера газеты «Правда». Окончательно сбитый с толку майор Ермаков на читку не пошёл и остался с дежурными в оперативном отделе. Но всё равно через стеклянное окошко двери отдела ему было слышно, как в расположенной в конце коридора столовой начальник штаба торжественным голосом зачитывает статью.
Дежурные одну за другой получали новые телефонограммы и радиограммы; порученцы, посланные из частей, продолжали приносить запечатанные пакеты с донесениями – а сотрудники штаба вместо того, чтобы быстро обрабатывать оперативную информацию, продолжали высиживать на совершенно несвоевременном мероприятии.
«В чем состояла сущность первого этапа войны? Первый этап войны был характерен тем, что происходила отмобилизация нашей армии, планомерная подготовка к нанесению ударов по врагу, происходило приобретение необходимого опыта для разворота широких военных операций, постепенная ликвидация временных преимуществ немецкой армии. Это был период активной обороны со стороны Красной Армии, имевшей своей целью как можно больше измотать и истребить противника. Теперь военные действия на советско–германском фронте вступили в новый этап развития. Чем характерен новый этап великой отечественной войны советского народа, в который мы в настоящее время вступили? Новый этап отечественной войны характерен тем, что в самом ходе, в самом течении войны произошел серьезный перелом. Красная Армия переходит от обороны к наступлению против гитлеровской армии. Красная Армия успешно ликвидирует временные преимущества немецкой армии и в ходе ликвидации этих преимуществ немцев берет инициативу в свои руки…»
Не выдержав, Ермаков покинул помещение оперативного отдела и поспешил к выходу из здания.
Окрестные дома уже погрузились в темноту, лишь площадь возле штаба была освещена несколькими питаемыми от генератора фонарями. Вечернее небо было лишено туч, так что полная луна сияла на нём словно огромная лампа. Откуда-то слышалась глухая женская перебранка, слабый ветер перебирал листья деревьев в палисадниках, поскрипывал ворот находящегося на краю площади общественного колодца.
Двигатели стоявших у здания штаба рядом с «Виллисом» Ермакова двух легковых машин и мотоцикла были выключены, подрёмывали четверо автоматчиков, стоявших у дверей, даже проходившие каждые пять минут мимо здания патрульные двигались таким расслабленным шагом, словно спали на ходу. Лишь из ярко освещённых окон штаба доносились бодрые голоса, но Ермаков знал уже, что там, на самом деле происходит.
Он даже мечтательно подумал, что хорошо бы теперь взять да и вызвать к телефону командующего и сообщить ему, как здесь обстоят дела.
Из-за соседнего дома вышла дворняга и села делать свои дела прямо перед Ермаковым.
–Так. Значит, ты тоже мне советуешь к передовой отправиться? – с досадой произнёс Ермаков.
Он провёл рукой по карманам, заглянул в свою офицерскую сумку, чтобы убедиться, что все его документы с собой, затем проверил наличие патронов в ТТ и в запасном магазине и, решительно сунув оружие в кобуру, зашагал к своему «Виллису».
Траншея, в которой находился взвод новобранцев во главе с младшим лейтенантом Исой Мажиевым, была глубокой, узкой, с постоянно осыпающимися стенками и непрочными приступками стрелковых ячеек. Сильная жара предыдущих дней высушила землю, из-за чего воздух над бруствером был постоянно наполнен пылью. Новобранцы сидение в траншее переносили плохо – терпели, но всякий раз, обходя 300–метровую линию обороны взвода, Иса замечал на лицах многих солдат несколько преувеличенное страдание. Сильнее его беспокоило то, что в преддверии немецкого наступления, о котором знала вся дивизия, большинство его солдат, явно, испытывали страх. Новобранцы даже старались не смотреть через бруствер в ту сторону, где в километре находились немецкие позиции. Только ранее побывавшие в боях сержанты – командиры отделений, а также помощник командира взвода – старший сержант Крамаренко вели себя как настоящие мужчины.
Сам Иса был уверен, что сумеет воевать хорошо, что уж он-то, воин из семьи воинов, покажет врагам, как нужно сражаться.
Его взвод был укомплектован по стрелковому штату – в нём было четыре стрелковых и одно миномётное отделение. В каждом стрелковом отделение было по 11 человек: командир, пулемётчик, помощник пулемётчика, 2 автоматчика и 6 стрелков; а миномётное отделение состояло из командира расчёта и 3 миномётчиков. Это была приличная боевая единица, поэтому Иса не роптал на то, что командует в основном необстрелянными юнцами. Отправься он на фронт без взвода, там бы он взвода не получил, так как в период затишья на передовой, командирских вакансий в войсках было мало.
Лишь в одном Исе не повезло сильно. В момент знакомства со взводом на плацу военкомата, он вдруг увидел среди своих бойцов Головача. Член шайки Черепкова стоял в строю со спокойным, уверенным видом; на командира он, однако, не смотрел. Среди собравшихся у военкомата родственников новобранцев, родителей Головача не было.
Когда взвод получил команду грузиться в машины, чтобы ехать на склады за оружием и снаряжением, Иса подошёл своему старому противнику, с которым неоднократно дрался в школе, и тихо спросил, какого чёрта тот забыл в Красной армии, где нет места шпане. Головач ткнул его взглядом и чётко отрапортовал, что бить фашистов – право каждого советского человека. При этом обычной кривой усмешки на лице черепковца не появилось.
На складах бойцам взвода сначала выдали форму, снаряжение, сухой паёк на два дня, а также ложки, кружки и котелки. Только после этого началась выдача оружия.
В отличие от Вермахта, где командир взвода был вооружён автоматом и пистолетом, в Красной армии взводному полагался лишь пистолет – чтобы он не отвлекался на стрельбу, а руководил действиями подчинённых. Но и полученный Исой ТТ порадовал его. Не обращая внимания на насмешливые взгляды складчиков, он рассмотрел пистолет со всех сторон, поиграл обоймой, затем с видимым сожалением убрал пистолет в кобуру и принялся прилаживать её на ремень. Кобура с пистолетом и запасной обоймой была тяжела, из-за чего ремень и портупея всё время съезжали вниз – но когда старшина, выдававший оружие, посоветовал сначала надеть пустую кобуру, а затем вложить в неё пистолет, Иса лишь отмахнулся.
Автоматы ППШ во взводе получили помощник командира – старший сержант Крамаренко и по двое бойцов из каждого стрелкового отделения; четверым бойцам, которых вооружили ручными пулемётами, выдали ещё и по Нагану; самозарядные винтовки Токарева достались сержантам – командирам отделений, а также посыльному при командире взвода и помощникам пулемётчиков; остальные бойцы получили по винтовке Мосина.
Миномётному отделению выдали положенный маленький 50–миллиметровый миномет, похожий на установленный на сошках отрезок водосточной труды. Это оружие было очень полезно на поле боя, но Исе 50–миллиметровый всегда казался слишком уродливым, поэтому под начало сержанта–миномётчика Самочинного он, в состав отделения из трёх бойцов включил Головача.
Боеприпасов взводу выдали столько, что одна из четырёх его машин оказалась полностью забита ящиками.
Утром 23 июня взвод Исы прибыл в 121-ю стрелковую дивизию генерал-майора Зыкова, проделав за сутки 144-километровый путь от Воронежа до реки Тим. Взвод являлся пополнением 1-й роты 383-го стрелкового полка подполковника Шабанова, которая зимой после Елецкой наступательной операции из-за больших потерь была переформирована на два взвода, и с тех пор подкреплений не получала.
Это было последнее штатное пополнение 121-й дивизии. Два других её стрелковых полка, 574-й и 705-й, были уже в комплекте.
Комбат майор Аристов, ротный – капитан Мачихин и заместитель командира роты младший политрук Гречаный встретили новый взвод в двух километрах от реки Тим. Майор и капитан в отношении командира новобранцев повели себя снисходительно–вежливо, лишь улыбчивый Гречаный, ровесник 23-летнего Исы, разговаривал с ним вполне по-дружески.
Сказав новобранцам короткую подбадривающую речь, комбат в пешей колонне лично повёл взвод к понтонной переправе через неглубокую 25-метровую речку. За мостом взвод двинулся по одному из расходящихся от берега ходов сообщения.
383-й стрелковый полк занимал оборону к западу от реки Тим недалеко от села Ново-Алексеевское. Его позиция была неплохой – между холмами, ограничивающими возможность маневра для немецких танков. На воронежских 12–месячных курсах младших лейтенантов учили хорошо, и Иса сразу оценил особенности позиции полка, которая могла быть вполне устойчивой, если бы удалось избежать больших потерь во время немецкой артподготовки. Для этого, по приказу комполка, батальоны всё время находились на замаскированных основных позициях – в 150 метрах позади траншей передней линии. А впереди, в открытых траншеях находились только наблюдатели, которые должны были в случае артналёта или бомбардировки быстро отходить в основную траншею по ходам сообщения.
Новому взводу достался обустроенный участок в середине участка роты – каждое отделение получило по крепкому просторному блиндажу, примыкающему к основной траншее.
Сопроводив взвод на передний край, комбат и ротный, ушли, а младший политрук Гречаный остался с Исой. Он подождал, пока взводный раздаст приказания, касающиеся обустройства каждого из отделений, а затем провёл его по всей траншее 1-й роты, знакомя с офицерами, показывая сектора обстрела пулемётчиков и стрелков ПТР, направленных из батальонной противотанковой роты. Побывали они также на позициях зенитчиков и на батарее 297-го артиллерийского полка, шесть 45-мм орудий которой находились в 100 метрах позади основной траншеи.
Младший политрук, как бы между прочим задавал новичку самые разные вопросы, в свою очередь рассказывая ему смешные истории из жизни роты; при этом он всё время бросал на Ису внимательные взгляды, явно его оценивая. Иса, в свою очередь с любопытством присматривался к лицам солдат роты, большинство из которых уже успели повоевать. Ему понравилось, как уверенно, спокойно вели себя эти люди, каждый из которых уже знал, что должно было случиться 28 июня.
Нравился Исе и Гречаный. Единственое, что его смутило: заместитель командира взвода не смог ответить на вопрос о том, что взвод должен будет делать, если огневой налёт будет нанесён не по передней, а по основной траншее. Гречаный посмотрел с некоторым удивлением, почесал затылок, и ответил, стараясь говорить уверенно, что нужная команда обязательно последует.
Первые два дня взвод был в порядке. Солдаты продолжали осваиваться на позициях, чистили оружие, обустраивали стрелковые ячейки – и в основной траншее, и в траншее передней линии. Постоянные тренировки, организуемые Исой, согласно уставным требованиям: по быстрому продвижению по ходам сообщения, по занятию огневых позиций, по действиям в случае обстрела или воздушного нападения, его сержанты и солдаты выполняли охотно, несмотря на насмешливые покрикивания солдат других взводов. Но Ису эти насмешки не трогали, так как ему было необходимо, чтобы его бойцы обрели настоящую слаженность. Без этого – как учили в школе младших лейтенантов, подразделение является не боевой единицей, а просто группой вооружённых людей.
Иса жалел, что комроты, чтобы раньше времени не провоцировать немцев, запретил ему устраивать бойцам и стрельбы. Обращаться с оружием новобранцы умели – двухнедельные сборы с ними были проведены, но Иса не был уверен, что они не забудут все свои умения, когда начнётся бой.
26 июня нервы у новобранцев начали сдавать. Даже горячую кашу, которую, как всегда перед рассветом доставили во взвод с батальонной кухни, часть солдат Исы не стали есть, объясняя это просто: «Не лезет». Разговоры между бойцами стали нервными, шутки не смешными; некоторые начали время от времени смеяться без повода. Около полудня в траншее вдруг послышалась ругань – когда же Иса и помощник командира взвода старший сержант Крамаренко подбежали к ссорящимся, те даже не могли вспомнить, из-за чего возник конфликт.
От отца, прошедшего Гражданскую, Иса слышал, что такое поведение людей перед боем было признаком того, что они чувствуют приближающуюся смерть.
Усилия командиров отделений, которые пытались привести солдат в чувство, объясняя, что бояться на фронте нельзя, так как страх – главный враг, мешающий действовать правильно, ни к чему не приводили.
А вскоре после полудня, старший сержант Крамаренко сообщил Исе, что один из солдат «оцепенел». Рядовой Вохряков в какой-то момент просто сел на дно траншеи и перестал реагировать на окружающее. Его толкали, пинали, даже окатили водой, но он продолжал сидеть словно статуя, глядя, не мигая, на земляную стенку.
Ротный санинструктор Иванов, тридцатилетний хмурый ворчун, сделал заключение, что Вохрякова нужно отправить в лазарет, откуда он, скорее всего, попадёт в психушку. Но Иса сделал иначе. Он приказал двум солдатам поставить Вохрякова на приступок стрелковой ячейки, лицом в сторону немецкой позиции и держать его так, не давая упасть. Затем Иса вынул пистолет и выстрелил над головой «оцепеневшего».
Немедленно со стороны далёкой немецкой позиции раздалась пулемётная очередь. Стоявшие рядом с Вохряковым солдаты дружно охнули, увидев, как сразу после того, как над траншеей понеслись пули, его тело вдруг дёрнулось, а рука ухватила за дуло прислоненную к стенке траншеи винтовку.
С этого момента сержанты взвода и даже строгий Крамаренко стали относится к командиру более уважительно. Иса не подавал виду, но ему это было приятно. Но особенно Исе понравилось то, что Головач вдруг перестал хмуриться, когда они встречались глазами.
Ближе к вечеру, зайдя в окоп миномётного отделения, оборудованный в нескольких метрах позади траншеи, Иса заметил синяки на лицах двух бойцов, сидевших рядом у стенки окопа. Сержант Самочинный и Головач, как ни в чём ни бывало, возились с миномётом.
–Что у вас тут? – спросил Иса сержанта и подозрительно покосился на Головача.
–Нормально с бойцами! – ответил сержант, хлопая Головача по плечу. – Так, веселим друг друга, чтобы не было страшно!
И странно: оба побитых бойца рассмеялись. В этот момент, в первый раз за эти дни, Иса увидел на лице Головача искреннюю улыбку.
27 июня во взвод был прислан противотанковый расчёт – двое стрелков с ПТР Дегтярёва. Сержант и второй номер – рядовой, представившись Исе, деловито расположились в основной траншее, без долгих церемоний «выселив» одного из бойцов из его ячейки. Разложив рядом брезентовые сумки с тяжёлыми 14,5-мм патронами, они принялись сапёрными лопатками переделывать ячейку, обустраивая её на два места. В передовой траншее они свою позицию оборудовать не стали, пояснив Исе, что у ПТРД дальность эффективной стрельбы 800 метров.
К концу дня сильно посмурнел старший сержант Крамаренко. Он начал уже излишне строго придираться к бойцам, зло ругая их за малейший непорядок, вроде валяющегося под ногами патрона или неровно прислоненного стенке траншеи оружия.
После того, как незадолго до заката по ротам прошёл общий приказ всем бойцам находиться на своих местах, при оружии, спать посменно, не раздеваясь и быть готовыми к началу немецкого наступления, солдаты взвода Исы зачастили к ходу сообщения прорытому от траншеи к отхожему месту.
Прислушиваясь к себе, Иса всё время ждал, боялся того, что и его вдруг начнёт ломать, что он, так уважающий себя, знающий как воевать и к этому готовый, вдруг тоже поддастся страху смерти, опозорит себя перед солдатами и перед самим собой. Но нет, страх не приходил. Мысль о том, что какая-нибудь пуля вдруг разрушит его крепкое тело, не заставляла сердце Исы биться быстрее. Помогали ему и воспоминания об Эльзе, никогда ничего не боявшейся.
Около двенадцати ночи Иса увидел идущего по траншее офицера, не относившегося к его роте. Высокий майор–пехотинец подошёл к Исе, оглядел его недобрыми внимательными глазами и вдруг улыбнулся.
–Вы, кажется, Иса Межиев? А я – майор Ермаков. Вам привет от Эльзы и ваших друзей.
–Ермаков? Эльза говорила. Вы – тот офицер, который помог ей у Сада Пионеров. Но… вы были капитаном.
–Был. Теперь – майор.
Ермаков покосился на солдат, с интересом прислушивавшихся к их разговору, и кивнул Исе на блиндаж.
–У меня мало времени. Я – помощник командующего фронтом, проверяю готовность обороны к наступлению немцев. Но к вам у меня небольшое личное дело, не терпящее отлагательств.
Когда они вошли в пустой блиндаж, Ермаков первым делом посмотрел на часы, затем сел на топчан, указав Исе на соседний.
–С некоторого времени я себя чувствую обязанным Эльзе, – сказал майор. – И поэтому считаю необходимым помогать людям, которые ей дороги. Вы, а также Иван и Сева ей дороги.
–Всё это из кино! – бросил Иса, которому не понравилось то, что этот чужой человек, каким-то образом считает себя связанным с Эльзой. – Мне нужно ко взводу, товарищ майор.
–я вас надолго задерживать не стану. Эльза говорила, что вы очень смелый. Но, так как вы ещё не были в реальном бою, я должен сообщить вам порядок правильных действий на случай отступления.
Иса хотел было гордо возразить, что отступать не собирается, но майор с таким сочувствием посмотрел на него, что Иса сдержался.
–121-я дивизии укрепилась хорошо, тыл её, у деревни Расховец, подпирает 111-я стрелковая бригада; недалеко находится 14-я танковая бригада. Однако с соседями 121-й не всё в порядке. В стоящей севернее 15-й стрелковой дивизии 13-й армии я ещё не побывал, но командующий фронтом считает, что 15-я может не выдержать концентрированного удара. Такое же у меня сложилось мнение о вашем соседе слева – 160-й стрелковой. Если 15-я или 160-я дивизии попятятся, вскоре придётся отходить и 121-й. В связи со всем этим, вам нужно кое-что знать. Надеюсь, приказы в вашу роту, в ваш взвод будут поступать чёткие, но я много раз слышал, ещё в 41–м году, как погибли подразделения, которые, получив приказ на отход, пошли не туда. Поэтому знайте: в случае отступления, чтобы не попасть в окружение, отсюда нужно двигаться на северо-восток, по дороге, ведущей от станции Черемисиново к селу Расховец, а далее к переправе через реку Кшень.
Ермаков умолк и встал. В этот момент Иса, наконец, решил для себя, что майор – хороший человек.
–Пойдёмте, товарищ майор! Мне, и правда, нужно к солдатам.
Ермаков дружески хлопнул Ису по плечу, с высоты своего роста чуть наклонился к его лицу.
–Эльза очень хочет, чтобы вы были осторожнее. Постарайтесь, младший лейтенант! Смелому человеку тоже не следует глупо погибать.
–Ничего. Разберёмся!
Ермаков снова внимательно посмотрел ему в лицо и шагнул к выходу из блиндажа.
Вокруг царила ночь, тихая, безветренная, наполненная ещё остаткам дневного тепла. Стоявшие в ячейках солдаты неотрывно смотрели на запад, в сторону немецких позиций.
–Тихо слишком. И осветительных ракет не запускают, – сказал командиру старший сержант Крамаренко. – Видно, на минных полях теперь возятся. Разминируют.
Не выдержав напряжения, кто-то из взвода Исы выстрелил в темноту. Тут же раздалась злая ругань одного из командиров отделений. Но и на выстрел немцы не ответили.
По траншее в который раз пробежал вестовой командира полка с увещеванием не спать и соблюдать бдительность.
–Быстрее бы пошли! – проворчал кто-то в траншее.
Его тут же изругали в два голоса, и нетерпеливый умолк.
–Прощайте, Иса! – сказал Ермаков. – Мне, пора уходить.
–Со мной повоевать, значит, не хотите?
–я должен ещё побывать в 15-й стрелковой дивизии, – ответил Ермаков, не реагируя на иронию. – Там оборона может посыпаться, и я об этом должен вовремя сообщить командующему фронтом. А вы уж постарайтесь здесь. Помните, что я вам сказал!
Он с силой пожал Исе руку и пошёл по траншее. Вскоре его высокая фигура растворилась в темноте.
Около трёх часов ночи, Иса, сам не зная почему, положил на земляную приступочку свою каску, встал на неё и словно охотник на шорох лап зверя, принялся всматриваться в южном направлении, где очень далеко, за позициями 160-й дивизии небо вдруг посветлело и, откуда послышался глухой гул.
–А ведь правда, командир: как бы гроза, – сказал стоявший рядом Крамаренко. – Но я такое слышал. Пушки там во всю палят.
И в этот момент сзади, со стороны НП комполка раздались два пистолетных выстрела – оговорённый сигнал о том, что где-то на ближнем участке фронта немец, наконец, двинулся за своей смертью.
Глава 8. Зверь двинулся
Первый снаряд разорвался в трёх метрах от основной траншеи роты. «Случайный перелёт, или они целят не в переднюю позицию, а сюда?» – мелькнуло в голове Исы. И тут же череда разрывов накрыла полк, вычертив огненную линию по всему участку его обороны.
Многоголосый отчаянный крик разнёсся по траншее, но сразу же был поглощён чудовищным грохотом взрывающихся повсюду снарядов.
Иса упал на дно траншеи, ткнулся лицом в землю и запоздалым суетливым движением прикрыл голову каской. Земля дрожала под ним, сверху на него что-то сыпалось, в воздухе стал чувствоваться запах крови.
Тяжёлое словно куль с камнями, на Ису упало тело. Он взвыл, пихаясь изо всех сил. И с ужасом увидел рядом мёртвое лицо Крамаренко.
–Нет, не так! Нет! – зарычал Иса, пытаясь встать.
Волны горячего воздуха носились по траншее, шевеля тела лежавших в ней людей. Иса подумал, что вокруг уже нет живых, но, подняв голову, увидел двух солдат, стоявших в метре от него на четвереньках. Они смотрели на своего взводного так, словно ждали, что он может остановить этот страшный обстрел.
Иса вдруг словно посмотрел на себя со стороны. Жалкий, измазанный землёй, привалившийся к стене, чтобы не упасть, уже мало похожий на командира. И всё-таки командиром он был, обязан быть.
–Взвод, встать! Быстро! – изо всех сил заорал он. – В переднюю траншею, мать вашу!!
Стараясь снова не упасть, Иса бросился по траншее, пиная лежащих солдат, поднимая их на ноги. Один за другим его бойцы ныряли в ход сообщения, ведущий к передней позиции. У многих на головах не было ни касок, ни даже пилоток, но все они были с оружием.
Пробежав весь участок своего взвода, Иса остановился, увидев, что до следующего изгиба траншеи в ней лежат только трупы. Соседний взвод был полностью уничтожен.
Осколки продолжали бить по брустверу, стенки траншеи быстро осыпались, её дно колебалось так, что, казалось, вот–вот в нём образуется провал.
Тут новая горячая волна снесла Ису с ног. На этот раз он поднялся быстрее, уже не хватаясь за стену. Иса понимал, что ведёт себя глупо, медля с уходом, но он снова встал на приступок и огляделся, пытаясь увидеть, что происходит на дальних участках позиции батальона. За густым дымом и непрерывно разлетающимися вокруг земляными брызгами трудно было что-либо разглядеть.
Кто-то ухватил его сзади за руку и потащил к ходу сообщения. Иса инстинктивно вырвал руку.
–Чего стоишь, командир? – злобно закричал ему в лицо Головач. – Сдохнуть здесь хочешь?
–Руки убери! – прохрипел в ответ Иса, но за Головачом всё-таки побежал.
Недалеко от начала хода сообщения Иса увидел валявшееся на дне траншеи противотанковое ружьё. Двое мёртвых бронебойщиков лежали у развороченной взрывом стрелковой ячейки. Едва Иса шагнул туда, словно тонкая игла царапнула его по руке. Он ткнулся спиной в стенку окопа, завозился, повторяя:
–ПТР взять! ПТР взять!
Головач яростно выругался, сбросил с плеча винтовку, метнулся по траншее и через несколько секунд вернулся, волоча за собой одной рукой противотанковое ружьё, а в другой неся несколько сумок с патронами к нему.
Когда они появились в передовой траншее, со всех сторон понеслись радостные крики:
–Командир! Командир здесь!
Ротный санинструктор Иванов тут же подбежал к Исе и принялся обрабатывать спиртом глубокую царапину от осколка на его правом предплечье.
–Отделенных ко мне! – приказал Иса.
И только в этот момент он с радостью осознал, что передовая траншея обстрелу не подвергается.
–Семеро убитых во взводе, – доложил командир первого отделения Яговдик. – Пока по списку 43 человека. Оружие с собой, но ящики с запасом патронов там остались. Один пулемёт разбит, и миномёт немцы угробили. И петеэрщиков. Хорошо хоть ружье Головач принёс.
–Да, видно, нафотографировали «рамы» нашу основную позицию, – зло произнёс Иса. – Всё разглядели!
Он отнял у санинструктора свою перевязанную руку, болезненно поморщился, указал стоявшим рядом сержантам в сторону немцев.
–Скоро полетят бомбами нас добивать. Всем теперь здесь маскироваться, чтобы с воздуха в траншее людей видно не было! Пусть хоть землёй бойцы засыплются! А, как только обстрел закончиться, отправить в основную траншею половину бойцов, кто пошустрее. Чтобы перетащили сюда уцелевшие боеприпасы. Пусть выяснят ещё, что с другими взводами, и что там, на позициях артиллеристов. А посыльному Святкину, наконец, важное дело: пусть отыщет командира роты, если тот жив, или того, кто вместо него.
–Значит, воевать здесь будем? – спросил Яговдик.
–Как комроты прикажет. Но лучше бы здесь затаиться, – Иса говорил быстро, глотая слова. – Как бы: там почти все погибли, а здесь никого нет. Тогда мы немцам засаду устроим.
–А ну как самолёты решать и сюда ударить?
–Мы их к основной позиции подманим – десяток бойцов там выставим. Они на подлёте самолётов сделают по ним пару залпов трассерами.
Сержанты только покачали головами, снова удивившись сообразительности молодого комвзвода.
Через сорок минут артобстрел прекратился. И сразу же вдалеке стал слышен гул моторов.
–Пятнадцать минут, чтобы обернуться! – крикнул Иса посыльному Святкину, первым бросившемуся по ходу сообщения.
За посыльным к основной траншее поспешили назначенные бойцы. Среди них были десять солдат, вооружённых самозарядными винтовками Токарева.
«Надо было им «мосинки» взять! – запоздало подумал Иса. – СВТ, если в грязи побывала, ненадёжна».
Между тем вдалеке, за вражескими траншеями нарастал гул моторов. Одновременно высоко в небе в свете Луны стали видны вражеские самолёты. Около четырёх десятков чёрных точек плыли с запада ровными линиями.
Неожиданно в траншею стали быстро входить солдаты и сержанты из других взводов роты.
–К вам под команду, товарищ младший лейтенант! – сказал черноусый сержант. – Все как есть – двадцать два человека от двух взводов. А офицеров всех побило. Святкин сказал, что наши здесь – ну и мы сюда.
–Значит, комроты и Гречаный погибли?
–Как есть. Вы у нас в роте последний офицер.
Между тем, вражеские самолёты быстро приближались.
–Разбейте ваших солдат на две группы, и пусть идут на фланги! – приказал Иса. – Командиров выберите сами. Теперь нас всего пол роты, а держать придётся весь ротный участок!
Со стороны основной позиции навстречу самолётам понеслись короткие прочерки трассирующих пуль. Одновременно в траншею начали один за другим возвращаться бойцы взвода с патронными и гранатными ящиками.
–По местам, и замерли! – закричал Иса, и голос его по-мальчишески истончился. – Начинаем! Начинаем воевать!
Пикирующие бомбардировщики летают только в светлое время суток, поэтому на рассвете 28 июня на советские дивизии обрушили бомбовый груз с высоты тяжёлые «Хейнкели–111». Цели они накрыли, окончательно разрушив большую часть советских траншей на участках прорыва. Другие группы «Хейнкелей» совершили налёты на выявленные авиаразведкой сосредоточения советских резервов, на командные пункты, узлы связи. В результате 15-я, 121-я и 160-я стрелковые дивизии понесли очень большие потери. Некоторые части потеряли до 80 процентов личного состава; было разгромлено не менее половины артиллерийских батарей. Сильный налёт был совершён и на находившуюся недалеко от реки Тим в полосе обороны 121 сд, станцию Черемисиново, где был разбомблен бронепоезд «Челябинский железнодорожник».
У Брянского фронта по-прежнему не было серьёзной авиационной поддержки, так как эшелоны с топливом для самолётов 2-й Воздушной армии, которая срочно перебазировалась на аэродромы фронта, туда ещё не прибыли. Действующих авиагрупп не хватало даже для прикрытия фронтовых аэродромов. Поэтому удары от них отводились в основном благодаря оперативно организованным ложным аэродромам. Уже 28 июня только на ложный аэродром у реки Кшень немцами было совершено двести двадцать семь самолетовылетов.
Немедленно после окончания авианалёта немецкие сапёры начали взрывать свои и советские минные поля, чтобы открыть путь для наступательных действий пехоты и танков.
4-я танковая армия Вермахта двинулась в наступление на участке Щигры–Тимское. Прорвать советскую оборону там было назначено её 48–му танковому корпусу, в который входили три танковые дивизии – 9-я, 11-я и 24-я, элитная моторизованная дивизия Вермахта «Великая Германия» и пять пехотных дивизий.
Той же ночью южнее 48-го немецкого танкового корпуса, на позиции 212-й стрелковой дивизии 40-й армии пошли в наступление передовые пехотные дивизии 2-й Венгерской армии – 6-я и 9-я.
121-я стрелковая дивизия оказалась на острие удара 9-й немецкой танковой дивизия, в которой было около 80 танков. Танковую дивизию поддерживала немецкая 377-я пехотная дивизия.
30 вражеских танков, появившихся из-за холмов напротив позиции роты, не произвели на Ису особо сильного впечатления. После только что пережитой чудовищной бомбёжки, это испытание показалось ему вполне посильным. Да, в роте, и, видимо, во всём полку стало меньше людей и орудий. Но воевать можно было и так. Посыльный Святкин сообщил, что противотанковая батарея 297-го артиллерийского полка из шести 45-мм орудий потеряла лишь два и готова нанести удар по вражеским танкам, когда они на сто метров подойдут к передовой траншее. В подкрепление батареи командир полка подполковник Шабанова прислал два 76,2-мм орудия и две 12,7-мм зенитные установки.
–Комбат майор Аристов назначил вас исполняющим обязанности командира нашей роты, – уважительным тоном сообщил Святкин. – Надеется на вас!
Иса холодно кивнул и снова приник биноклю, продолжив наблюдение за танками. Как он и ожидал, немцы применили свою обычную тактику прорыва, о которой говорили преподаватели в школе младших лейтенантов. Немецкие танки шли двумя линиями: в первой было десять средних танков PZ-III, за ними – два десятка лёгких PZ-II. Пехота же – около батальона, передвигалась перебежками в трёхстах позади. Расчёт был на то, что танки добьют оставшиеся советские огневые точки, отутюжат траншею, а затем туда ворвутся немецкие пехотинцы. Такая атака в учебниках называлась «крейсерской».
–В танки не палить! Противотанковые гранаты готовить! – скомандовал Иса.
–А мне? – спросил Головач, пристроившийся в соседней стрелковой ячейке с противотанковым ружьём.
–Сумеешь? – спросил Иса.
–Проще, чем из «тулки» палить.
В двухстах метрах от передней траншеи танки дружно встали и дали залп по её брустверу. В траншее раздались крики раненых, санинструктор Иванов, задев плечом комвзвода бросился туда.
Танки выдули столбы выхлопов и, с рёвом, на форсаже, понеслись вперёд. Но в ста метрах от траншеи вокруг танков начались разрывы снарядов. Две «тройки» загорелись сразу, затем следующая за ними «двойка» наехала на непонятно откуда взявшуюся мину и опрокинулась набок.
Немецкие танки снова остановились и дали залп из 27 орудий по позициям врытой в землю батареи. И сразу же там раздался протяжный металлический скрежет.
Иса даже не оглянулся. Сняв каску, чтобы она не выдала его своим блеском в свете рассветных лучей, он следил за приближающимися вражескими танками. Ему вдруг показалось, что они уже подошли на пятнадцать метров – достаточное расстояние для броска тяжёлой противотанковой гранаты. Но тут же заставил себя признать, что танки ещё далеко, и что команду солдатам подавать рано.
–Ну же! – прорычал рядом Головач.
–Жди, чёрт! Будешь их бить, когда крутиться начнут!
Иса ухватил противотанковую гранату и, взвешивая её в руке, начал рассчитывать, перешли ли приближающиеся стальные чудовища ту черту, до которой он сам мог бы эту гранату добросить.
–Всё, командир! – заорал Головач.
–Рота, бить по гусеницам! – крикнул Иса и швырнул гранату в «свой» танк.
Снова загрохотали разрывы. Но теперь эти звуки были для бойцов как музыка, потому что взрывы гранат остановили–таки стальные фашистские коробки. Одновременно сзади открыла огонь батарея 297-го артполка. Правда, теперь стреляло меньше её орудий, чем в начале танковой атаки.
Ещё три «тройки» с перебитыми гусеницами замерли перед позицией роты, остальные начали резко сдавать назад, стараясь не поворачиваться к траншее бортами. В подбитые танки продолжали лететь гранаты, Головач вбил тяжёлую пулю в моторный отсек ещё одной «тройки» – и теперь уже семь танков горели перед позицией роты. Широкий шлейф гари потянулся по километровому лугу.
Радостно кричали бойцы, потрясая кулаками в сторону фашистских танков, кто-то даже запел весёлую песню.
И тут у Исы сработало какое-то особое боевое чувство, о существовании которого он до этого не знал. Схватка с врагами словно бы включила в нём все его способности, мозг стал работать быстрее, впитывая новую информацию и выдавая команды к действию.
–Рота, к оружию! – закричал Иса. – За дымом их пехота! Огонь настильный, бегло!
На позиции загремели выстрелы, и тут же со всех сторон начало раздаваться: «Пулемёты не стреляет!»
Проклиная себя за то, что перед боем лично не проверил оружие бойцов, Иса побежал по траншее. Он вырвал у ближайшего пулемётчика «Дегтярёв», сбросил диск и увидел, что патронник пулемёта весь забит землё. Заклинившую в руках другого бойца самозарядку Токарева он проверять не стал. Было ясно, что во время артобстрела его новобранцы просто побросали оружие в рыхлую землю, а затем не удосужились его вычистить.
–Отчищайте патронники! – заорал Иса и сам принялся чистить пулемёт.
Он уже слышал топот множества ног, раздающийся за подбитыми танками. В ответ на редкие пока выстрелы бойцов взвода, из тёмной дымки вёлся интенсивный огонь.
Иса хотел было скомандовать, чтобы бойцы береглись гранат, но голос, надорванный криками, вдруг пропал. Однако его солдаты уже привыкли к своему страху и тоже начали чувствовать задачи боя. В тёмный туман летели осколочные гранаты, один за другим оживали оттёртые от грязи пулемёты.
Из дымки слышались болезненные вскрики и проклятья на немецком языке. Несколько гранат с длинными ручками вылетели из-за танка и упали перед бруствером. Затем одна граната угодила в траншею и, словно дождавшись, когда находившиеся там бойцы отскочат в стороны на пять метров, взорвалась, образовав в траншее неровную воронку.
Шесть молодых бойцов без команды бросились за танк со штыками наперевес, и тут же там началась громкая возня, перемежаемая смертельными вскриками. Затем за танком барабанно застучал немецкий автомат МП, но сразу же поперхнулся очередью.
Из-за танка, отмахиваясь от клубов пыли, вышли четверо бойцов и, радостно ухмыляясь, потрясая винтовками с окровавленными штыками, побежали к траншее. У одного из них из раны на плече текла кровь, но он этого словно не замечал.
«Отбили атаку?» – подумал Иса, и вдруг из уже немного осевшей дымки на позицию роты буквально выпрыгнули два немецких лёгких танка. Один из них, сходу перескочил через траншею и понёсся к батарее. А второй, резко развернувшись на бруствере, открыл огонь по траншее.
Иса видел, как стоявшие перед ним бойцы падают один за другим, сбитые очередями 20–милллиметровой автоматической пушки. Он мог бы попытаться выскочить наверх и залечь за бруствером, но не стал позорить себя бегством перед солдатами.
Выпущенный из-за спины Исы заряд ПТР ударил в тонкий лобовой щиток лёгкого танка и проломил его. Танк заёрзал над окопом и замер.
На башне откинулся люк, и из танка быстро выбрался человек в чёрном комбинезоне; его лицо было вымазано машинным маслом. Ошалело оглядевшись, он вдруг словно кошка прыгнул на бруствер и бросился бежать.
Сразу несколько винтовочных пуль впились ему в спину. Танкист изогнулся, сделал ещё несколько шагов от траншеи, но длинная очередь, выпущенная из ППШ, завершила расстрел.
Наверное, комвзвода положено было сделать внушение солдатам за то, что не взяли пленного. Но Исе, после того, как экипаж танка только что положил нескольких его бойцов, это даже в голову не пришло.
Вскоре после восхода Солнца в расположение 1-й роты батальона майора Аристова подошла смена – рота из резервного батальона 121-й дивизии. Командир новой роты, широколицый капитан, увидев следы только что происшедшего боя, и не подумал вести себя с Исой как старший по званию. Капитан лишь попросил Ису не уводить оставшихся бойцов далеко, а занять разбитую основную траншею и помогать им в бою.
Капитан Исе понравился, но их знакомство было недолгим, потому что вскоре немецкие атаки возобновились, и около полудня, капитан погиб.
Противник снова и снова подтягивал войска на этот участок, бросал в атаку танки, обрушивал на позиции 383-го стрелкового полка артиллерийский огонь.
Через каждый час, при полном отсутствии в небе советских истребителей происходили налёты немецких пикировщиков. Но воздушные атаки на полк уже не были успешными, потому что теперь каждый раз немецкие самолёты встречал не только огонь зенитных установок, но и залпы из стрелкового оружия.
К часу дня 18 подбитых немецких танков дымилось перед траншеями полка. Но после очередной, массированной атаки, в 383-м осталось не более трети личного состава.
Новые потери понесла и рота Исы. Теперь у него было лишь 22 человека, многие из которых имели лёгкие ранения. Каждого тяжелораненого бойцы под присмотром санинструктора Иванова сразу же уносили к стоявшим в километре от места боя санитарным повозкам.
Во время одной из пауз между немецкими атаками, Иса наведался на соседнюю позицию к своему комбату майору Аристову. Майор, голова которого была перевязана окровавленной повязкой, был рад увидеть его живым, а в ответ на вопрос о новых распоряжениях, ответил, думая о чём-то своём, что сам ждёт распоряжений от командира полка – а пока им лишь посылают подкрепления.
–Командиры других моих рот, как и ты, Мажиев, догадались увести бойцов из-под обстрела в передовую траншею, – сказал майор. – Жаль, твой бывший ротный, капитан Мачихин, был не слишком умным командиром.
–Но что теперь? – с нажимом спросил Иса. – К чему нам готовиться?
Майор сочувственно посмотрел на него и пожал плечами.
–Я спрашивал подполковника Шабанова о 14-й танковой бригаде. Оказалось, из штаба дивизии ему сообщили, что она в 11.00 выступила к нашему участку фронта. Но… всякое может измениться. Мы, младший лейтенант – должны воевать, исполняя приказ. Если тебе так легче, вспомни кого-нибудь из своих, которого ты здесь защищаешь.
Иса отдал честь и твёрдым шагом пошёл прочь.
К трём часам дня стало ясно, что 383-й полк без танкового или хотя бы артиллерийского подкрепления позицию не удержит. Но танки 14-й бригады всё не появлялись, а от артиллерийского прикрытия полка уцелели лишь одно 76,2-мм орудие, одна «сорокопятка» и 12,7-мм зенитный пулемёт.
Теперь команду «сорокопятки» составляли пятеро бойцов Исы, а сам он, изучивший азы артиллерийского дела в школе младших лейтенантов, стал командиром орудия. В основной же траншее осталось лишь десять бойцов его взвода. После ранения всех сержантов, Иса без малейшего сомнения командовать этим отрядом назначил Головача, умудрившегося за весь день не получить ни царапины.
Во время атаки, начавшейся около 17 часов дня, через переднюю траншею прорвались пять немецких танков. Два сразу встали, подорванные гранатами, брошенными вслед из основной траншеи, ещё одного выстрелом из ПТР в гусеницу обездвижил Головач. Но два оставшихся танка – «тройка» и «двойка», набирая скорость, понеслись на батарею.
Первым там оказался лёгкий танк. Выстрелом сходу он разметал команду 76,2-мм орудия, затем ворвался на позицию «сорокопятки», раздавил её и стал кружиться на окопе, куда успели прыгнуть Иса и посыльный Святкин. Ещё трое бойцов Исы, составлявших орудийную команду, замешкались и были раздавлены гусеницами.
–Гранату ему! Так не хочу! – прохрипел Иса, вжимаясь в стену окопчика.
Судорожным движением Святкин вытащил из поясного чехла противотанковую гранату. И тут сильнейший удар потряс танк. Наполовину засыпанный окоп быстро наполнился тяжёлым запахом горящего бензина. Иса и Святкин, словно мыши, попавшие под песчаный отвал, принялись изо всех сил сучить руками, пробивая ход под днищем танка. Но едва они выползли из завала, как увидели, что подошедшая к батарее «тройка» давит 76,2-мм орудие, выстрел которой только что спас им жизнь – кто-то из раненых артиллеристов сумел найти в себе силы навести орудие в «двойку».
Сжимая гранату в руке, Иса бросился к танку, который в этот момент тяжело поворачивался в его сторону на куче металлического лома, в который превратилось орудие. Но немцы не успевали. Граната разорвалась на корме «тройки» за секунду до того, как Иса попал под прицел танкового пулемёта.
Успевший упасть до взрыва Иса, поднялся с трудом, чувствуя, что силы его быстро оставляют.
–Дураки! Могли бы из люка вылезти, чтобы в меня пальнуть! – сказал Иса, вытирая ладонью грязное лицо.
–А вы же снова ранены, товарищ младший лейтенант, – с отчаянием в голосе произнёс Святкин, указывая на расплывающееся по груди Исы красное пятно. – Осколок гранаты, да?
И тут Иса почувствовал, что теряет ощущение неба и земли, что ноги его стоят в пустоте, и что он кружится, кружится на быстрой, широкой карусели.
А потом сразу наступил вечер. Чувствуя в теле тупую боль, Иса откликнулся на зов человека с голосом Головача, и увидел, что его несут на носилках мимо бесконечного ряда вагонов, у многих из которых в стенках зияли осколочные отверстия.
–Ты держись, командир! – сказал Головач. – Мы здесь все, кто остался от роты. Шестнадцать человек. Только рядовые. А от 121-й дивизии одни клочки.
–Бежим? – с ужасом выговорил Иса.
–Нет, отступаем по приказу. Мы же герои теперь. Сам комполка сказал, когда командовать ими меня пока назначил. Я теперь, вишь, младший сержант.
–Тебя назначил?
–Ну не Вохрякова же! Этот-то, «застывший» тоже жив. Вот умора!
Исе захотелось одобрительно кивнуть, но он не смог даже пошевелиться.
–Сильно я ранен?
–Контузия. Но полежать тебе нужно. Время есть. Мы на станции Черемисиново. Дивизия отходит, – сказал Головач.
–Через Расховец, – вспомнил Иса.
–Да. Машины нам не досталось, так что пойдём, как есть – ногами. Станцию-то здешнюю самолёты разбомбили. Вон, на путях у вокзала бронепоезд «Челябинский железнодорожник» горит. А недалеко бронепоезд «Дзержинец» брошенный. Говорят, целый день с немецкими танками здесь бился, но затем пути перед ним разбомбили.
И тут Иса запоздало вспомнил.
–Оружие? Оружие не побросали?
–Дураков нет, – с кривой усмешкой ответил Головач. – Подсобрали у мёртвых-то. Шесть «Дегтярёвых», шесть ПТР-ов. Ну, винтовки. А сверх того, каждый по автомату с боезапасом прихватил. Теперь у всех по два ствола. Думаю у кой-кого и пистолеты по карманам припрятаны – трофейные и советские. Так что мы теперь навроде ударного отряда.
–Я рад, что ты жив! – прошептал Иса. – Не думал, что ты так воевать будешь.
–А как же иначе? Я тоже человек. Я ведь тоже был тогда в Парке Пионеров.
Наклонившись к Исе, Головач прошептал, криво подмигнув в шпанской манере.
–Знаешь, командир, отступать – это, наверное, правильно, но как-то шкурно, после того, столько наших здесь погибло. Против немецкой силы всё равно себя не сбережёшь. Так мы с ребятами решили: пойдём пока, куда велено – в тыл, но, если надоест, попросим тебя хотя бы временно повести нас к какой-нибудь части, которая воевать соберётся. Как бы мы заблудились. Лишние правильные бойцы тем, кто воюет, всегда пригодятся.
Упорная оборона позиций 121-й стрелковой дивизией, находившейся в центре мощного удара 48-го немецкого танкового корпуса, ненадолго придала жёсткости фронту 40-й армии. Потому что, в отличие от 121-й, её правый и левый соседи – 15-я и 160-я стрелковые дивизии, удержаться на позициях не смогли.
Ещё утром 28 июня, после трёх часов ожесточённого боя 47-й полк 15-й стрелковой дивизии 13-й армии был сбит с позиций, и 15-я с боями начала отходить на восток, постепенно открывая северный фланг 121-й дивизии. Находившаяся там во второй линии 119-я стрелковая бригада также не удержалась на позиции и отступила к реке Кшень.
Около 8 часов утра немецкие части были уже вблизи села Расховец, где в качестве прикрытия южного фланга 121-й стрелковой дивизии стояла лишь 111-я отдельная стрелковая бригада.
Во второй половине дня 28 июня уже оборона 160-й дивизии, сражавшейся против немецких 24-й танковой, 16-й моторизованной и 387-й пехотной дивизий, начала терять устойчивость по вине комдива полковника Анашкина. После того, как около 11.00 60 танков противника на узком участке пробились через позиции 160-й дивизии и ворвались в село Панское, где находился её штаб, Анашкин умчался на машине в расположение находившейся в тылу, южнее, 6-й стрелковой дивизии. Несмотря на это, части 160-й дивизии продолжили бой. Двинувшиеся было из Панского на восток немецкие танки были встречены сильным артиллерийским огнём и отошли. Но отсутствие общего командования всё равно привело к хаотизации действий дивизии.
Командарм Парсегов, узнав об этих событиях по радиосвязи, с согласия Военного Совета 40-й армии отстранил полковника Анашкина от командования дивизией, а её новым командиром назначил полковника Серюгина – замкомандира находившейся южнее 212-й стрелковой дивизии. Но выправить положение новый комдив 160-й уже не мог. Нанеся за день противнику большие потери в живой силе и технике, подбив 30 танков, сбив 6 немецких самолетов, части дивизии смешались и начали отходить на северо-восток.
Отход 160-й прикрывала 170-я танковая бригада, в которой имелось лишь 5 английских танков «Матильда» и 20 лёгких советских танков Т-60. У деревни Лобовские Дворы бригада неожиданно для преследующей 160-ю дивизию немецкой танковой группы нанесла по ней всеми силами фланговый удар, в результате которого противник отступил, потеряв 29 танков и до 200 человек пехоты. У 170-й бригады в ходе этого боя было подбито лишь 2 танка.
Во многом успеху бригады способствовали решительные действия авангардной танковой роты и её командира старшего лейтенанта Лобанова. Танк «Матильда» Лобанова шёл впереди роты во время атаки на головную немецкую колонну из 20 танков. Не давая немцам собраться в боевой порядок, чтобы отразить нападение, Лобанов приказал своему экипажу вести машину вдоль вражеской колонны и вести постоянный огонь.
Экипаж Лобанова подбил уже 5 танков противника, когда в «Матильду» попал снаряд. Покидать обездвиженную машину под пулемётами противника было нельзя, к тому же необходимо было по радиосвязи продолжать координировать действия роты, которая уже смешалась с немецкой колонной. Для кругового обзора Лобанов стоял в открытом люке своего танка и по радиосвязи руководил ротой.
За несколько минут было подбито ещё 11 немецких танков, а оставшиеся начали быстро уходить назад. В этот момент в «Матильду» Лобанова попал второй снаряд. В огне, быстро охватившем танк, экипаж погиб. Старший лейтенант Лобанов за этот свой последний бой был удостоен звания Героя Советского Союза.
У деревни Лобовские Дворы 170-я танковая бригада будет продолжать вести ожесточенный бой и 29 июня, успешно маневрируя, отбивая новые атаки противника. Лишь, после того, как 160-я стрелковая дивизия уйдёт за реку Кшень, 170-я бригада получит приказ отступать.
Глава 9. Отход
К участку обороны 111-й отдельной стрелковой бригады у села Расховец Ермаков прибыл около семи утра 28 июня. Он отправился туда сразу же после того, как на рассвете 47-й полк 15-й дивизии начал отступление на северо-восток, открывая путь немцам в восточном направлении. Теперь лишь 111-я бригада могла спасти от окружения 121-ю дивизию, так как именно через Расхоцев проходила дорога от Черемисиново к станции Мармыжи и далее к переправе через реку Кшень.
Все первые три часа немецкого наступления – до момента начала отхода 47-го полка, Ермаков находился на КП командира 15-й дивизии полковника Слышкина. Когда же стало ясно, что штаб дивизии может лишь замедлить отход своих частей, но не сможет их остановить, Ермаков отправил радиосообщение командующему фронтом Голикову и получил его приказ немедленно отправиться в Расховец и проверить готовность 111-й стрелковой бригады к обороне.
Это было уже седьмое инспекционное поручение Ермакову со вчерашнего вечера. За ночь с 27 на 28 июня он побывал на позициях пяти дивизий 40-й армии, находившихся на передовой, а затем – в 15-й стрелковой дивизии 13-й армии. Конечно, ночью он никак не мог оценить оборонительные позиции, но задача у него была другая – с его помощью Голиков хотел узнать обстановку в штабах дивизий – нет ли там неразберихи, неуверенности или, не дай Бог, паники.
Выполнение инспекционной задачи сначала не показалось Ермакову сложным делом. Однако, по мере того, как он объезжал линию фронта, беседовал с командирами дивизий, разговаривал со штабными офицерами, наблюдал за движением в ночи колонн, направляемых светом фонариков идущих впереди сержантов, он всё сильнее поддавался сильнейшему ощущению тревоги, которой были охвачены на передовой все. Нет, он мало в ком чувствовал бессильный страх, заставляющий людей смириться, лишавший желания сопротивляться – лишь на лицах некоторых солдат и офицеров он замечал плохо скрываемый ужас перед грозившей опасностью. Большинство же вели себя спокойно, деловито; они понимали, что их ждёт, но со своей участью смирились, оттолкнув от себя надежду, заботясь теперь лишь о том, чтобы в оставшиеся им часы сделать своё положенное воинское дело.
Ермаков был на войне уже почти год. Его мобилизовали в июле, и, благодаря его знанию языков сразу же привлекли к разведывательному делу. Он не раз ходил за линию фронта, участвовал и в локальных боях на передовой, отступал вместе со всеми. Но никогда он не видел войну в таком масштабном виде, представленную множеством обречённых на скорую смерть людей.
Из каждого штаба Ермаков по радиосвязи посылал сообщение командующему Голикову согласованным с ним кодом. О находящейся на левом фланге 40-й армии 45-й дивизии, с которой от начал объезд линии фронта, а затем о 62-й и 212-й дивизиях, он сообщил, что их командиры и штабы готовы к бою, но озабочены тем, что в их распоряжении мало резервов. По поводу штаба 160-й он передал негативное мнение. 121-я показалась Ермакову очень хорошо организованной. А о недавно переформированной 15-й стрелковой было передано, что сам её командир считает дивизию пока недостаточно слаженной и стойкой.
Распоряжение Голикова остаться в 15-й до начала немецкого наступления Ермакову пришлось по душе. После всего, что он видел за эту ночь, после разговора с Исой, Ермакову претила мысль об уходе в безопасный тыл. Когда же на передовой началась канонада, Ефремов почувствовал сильнейшее желание сбросить с себя обязанности офицера штаба фронта и бежать к окопам, где теперь шло сражение.
Но он, конечно, не дал себе такого права и продолжал оставаться в штабе 15-й дивизии до получения нового приказа командующего.
Когда «Виллису» Ермакова оставалось проехать до Расховца всего несколько километров, он вдруг понял, что в тыл отсюда не поедет. Непрерывный гул сражения, которое происходило менее чем в двадцати километрах, звал его, выворачивая душу. Ермаков был боевым офицером и не хотел считать себя трусом, под благовидным предлогом бегущим с передовой.
В двух километрах от Расховца, на посту боевого охранения молоденький лейтенант с сонными глазами долго изучал документы штабного майора, вздумавшего в одиночку разъезжать по фронтовой полосе. Затем, так и не поверив до конца в то, что Ермаков не шпион, но не решившись задержать его до выяснения, лейтенант, в качестве штурмана, вызвался показывать ему в темноте дорогу к штабу бригады, расположенному в центре села. Лишь когда начальник караула принял Ермакова с рук на руки, лейтенант ушёл обратно на пост, так себя майору и не назвав.
Командир 111-й стрелковой бригады подполковник Дрёмов Ермакову понравился. Выслушав сообщение о движении немцев к Расховцу, Дрёмов спокойно сказал, что уже получил эту информацию из штаба фронта по радиосвязи. А затем добавил без улыбки, что офицер штаба фронта может остаться в дивизии, чтобы лично понаблюдать за тем, как бригада воюет. Он был совсем не прост этот комбриг с сильным крестьянским лицом. Ермаков знал о Дрёмове немного, что он – боевой командир, принимавший участие в боевых действиях в ходе Смоленского сражения и в оборонительных боях под Москвой. Голиков высказывался о Дрёмове, как о надёжном, очень умелом командире. Оказалось, что комбриг ещё и весьма проницателен – он как-то сразу понял, что штабной майор прибыл не только с сообщением о приближении противника, но и с инспекционными целями.
Совещание штаба бригады, которое Дрёмов провёл вскоре после прибытия Ермакова, было недолгим, так как целью его было только принять рапорты о боеготовности подразделений. Командиры трёх стрелковых батальонов, двух артдивизионов, миномётного дивизиона и роты автоматчиков докладывали коротко и по существу. Было ясно, что каждый хорошо знает, что, как и когда он должен делать в предстоящем оборонительном бою. Склонившись над картой района, Дрёмов делал на ней пометки карандашом, изредка задавая подчинённым уточняющие вопросы. Ни малейшего волнения не было на лице комбрига. Лишь выслушав всех и дав окончательные распоряжения, Дрёмов, в конце совещания, проявил подобие эмоций.
–Передайте всем: нам нужно выстоять здесь любой ценой! – сказал он, пристукнув ладонью по карте. – Противник навалится на нас большой силой – но мы не может бросить рубеж и уйти раньше, чем у Расховца пройдёт 121-я дивизия. Иначе ей конец! Каждый наш солдат должен знать об этом! Мы здесь должны сражаться, потому что больше некому!
Сразу после совещания Ермаков из помещения оперативного отдела передал радиосообщение командующему, а затем вернулся в кабинет Дрёмова и сказал, что решил пока остаться в бригаде.
–Пожалуйста, майор! – ответил комбриг равнодушным тоном. – Но вы же понимаете, что скоро даже в этом здании штаба будет небезопасно.
Услышав, что штабной офицер хочет во время боя находиться в расположении какой-либо части, Дрёмов позволил себе удивиться. Он оглядел Ермакова с ног до головы, ткнул взглядом в его орден Красной звезды и поинтересовался, хмуря брови:
–Соскучились по настоящему бою? Но здесь очень скоро многие погибнут.
–Я не позёр и не самоубийца, – ответил Ермаков. – Просто, мне это нужно.
–Ну, нужно, так нужно.
Дрёмов бросил взгляд на часы.
–В артиллерийском деле что-нибудь понимаете?
–Да. В школе разведки нас многому учили.
–Значит, отправитесь в батареи артдивизион, которые находятся за северо-западной окраиной села, рядом с траншеей 2-го батальона. С командиром дивизиона майором Сущёвым мне не повезло – не умеет с солдатами по-человечески. Поэтому лишний старший офицер при батареях не помешает.
Внешней линией обороны села являлась сплошная траншея, в которой находились пехотинцы. От траншеи на каждом стыке рот в сторону села отходил 200–метровый ход сообщения, ведущий к позиции прикрывавшей этот учаток пары орудий. Все орудийные окопы вокруг села были соединены ходом сообщений, образующим второе, малое кольцо обороны. Миномётные батареи были размещены ближе к окраинам села.
Артиллерии в 111-й, как и в любой другой отдельной стрелковой бригаде было достаточно много. На 5000 человек личного состава бригады, имелось восемь 76-мм пушек УСВ образца 1939 года, четыре 76-мм полковые пушки образца 1927 года и двенадцать «сорокопяток»; а в её миномётном дивизионе было восемь 120-мм миномётов и по двадцать четыре 82-мм и 50-мм миномётов. Кроме того в бригаде имелось 80 противотанковых ружей. А роль зенитной артиллерии выполняли многочисленные пулемёты: 3 – крупнокалиберных, 48 – станковых и 145 – ручных.
Несомненно, участок обороны 111-й стрелковой бригады для немцев не был лёгким рубежом.
Блиндаж командира артдивизиона майора Сущёва Ермаков нашёл быстро – в километре от северо-западной окраины села, недалеко от двухорудийной батареи 76-мм пушек УСВ. Подходя к блиндажу, он услышал доносящийся оттуда резкий неприятный голос.
–Как ты смеешь со мной спорить? Ты – командир батареи, я – командир дивизиона! Мне не нужны никакие запасные площадки для орудий. В бою нужно стрелять, а не от обстрелов прятаться!
–…Лишимся орудий… Засекут позицию… – бубнил в ответ глухой, упрямый голос. –
–Это паникёрство! Молчать старший лейтенант!
–Разрешите подать рапорт комбригу?
–Пошёл вон, старший лейтенант Скоробогатов! Ты у меня в штрафбат за паникёрство!…
Сопровождаемый площадной бранью, из блиндажа выбежал старший лейтенант с красным от злости лицом и, размахивая рукой, словно продолжая спор, пошёл вдоль траншеи к позиции батареи, находившейся в трёхстах метрах справа. Ермаков заметил, что стоявшие у ближних орудий артиллеристы, также слышавшие этот разговор, смотрели на старшего лейтенанта с сочувствием.
Затем из блиндажа вышел командир дивизиона. Несколько секунд майор Сущёв непонимающим взглядом смотрел на Ермакова, но всё-таки вспомнил, что видел его в штабе бригады.
–Вы, майор? Зачем здесь?
Ермаков церемонно отдал честь.
– С разрешения комбрига буду пока находиться в расположении вашего дивизиона.
–Ну, как хотите.
Пожав плечами, Сущёв тяжёлой походкой пошёл по ходу сообщения к батарее, находящейся слева. Через минуту до Ермакова снова донёсся его злой крик.
«Это человек, кажется, очень боится, и срывается на подчинённых, – подумал Ермаков. – Неужели он не понимает, что может здесь всех погубить?»
Ермаков подошёл к орудийной позиции и стоя на краю батарейного окопа, оглядел местность впереди. Ломаная линия траншеи, за ней – покрытая высоким густым кустарником низина, несколько зелёных рощиц в полутора километрах впереди. И чистое голубое небо, наполненное утренним светом.
–Здесь красивее, чем было у Исы, – пробормотал Ермаков, отчего-то улыбаясь, и пошёл по ходу сообщения к батарее Скоробогатова.
Он нашёл старшего лейтенанта сидящим на снарядном ящике рядом с «сорокопяткой». Надорванным голосом Скоробогатов отдавал приказания артиллеристам, копавшим в тридцати метрах в стороне ещё одну орудийную позицию.
–Не вставайте! – сказал ему Ермаков. – Я офицер связи штаба фронта. Побуду пока на вашей батарее.
Скоробогатов не удивился и не смутился. Видимо, теперь его занимала только подготовка к предстоящему бою.
–Так что за спор с комбатом, старший лейтенант?
–О чём с ним спорить? – резко произнёс Скоробогатов и тут же понизил тон, косясь на артиллеристов. – Он, конечно, прав, что в бою нужно стрелять как можно активнее. Но комбат на фронте недавно и слишком любит это: «Батарея, огонь!». Ясно же, что нас по залпам засекут – поэтому нужно время от времени менять позицию. Что толку будет, если все орудия уничтожат на дальнем расстоянии?
–Вы, конечно, правы, старший лейтенант, – ответил Ермаков. – Но, также думаю, что ваш комбат своего мнения не поменяет
Было восемь утра. Солнце уже давно встало. Вдалеке на ясном небе стали отчётливо видны быстро приближающиеся самолёты. Их было около тридцати.
–Нельзя так с людьми обходиться. Хоть и с солдатами, – продолжал бормотать Скоробогатов. – Я – воронежец, земляков в батарее половина. Тем более, я за них отвечаю. Сам-то комбат двойной блиндаж себе построить приказал – там бомбы и снаряды его не достанут. А батарейцы как? На случай артобстрела у нас вырыты щели. А при бомбёжке?
«О себе не говорит. Молодец! Перед боем человек всегда искренен, – подумал Ермаков. – Этому парню, видимо, кривить душой незачем. А комбат? В бою такие выживают только если вовремя бегут».
–Воздух! – раздался крик наблюдателей.
И сразу же хорошо обученные артиллеристы, быстро, но без суеты попрыгали в вырытые вокруг площадки укрытия. Старший лейтенант указал майору на свой окопчик.
Стоя рядом со Скоробогатовым в узкой щели, Ермаков неотрывно следил за вражескими самолётами, заходившими на линию атаки. Но неожиданно они один за другим начали выходить из пике, бросая бомбы неприцельно, с высоты. Над укрытием с отвратительным свистом пролетели осколки, комья земли осыпали орудийную площадку. Но Ермаков не спрятал голову и продолжал наблюдать за тем, как вражеские самолёты, отогнанные залпами из противотанковых ружей, станковых и ручных пулемётов суетятся в небе, стараясь быстрее выйти из зоны обстрела. Один самолёт всё-таки получил снаряд в брюхо, задымил и обрушился на землю.
В этот момент позиции бригады накрыли разрывы снарядов. Словно в замедленном кадре Ермаков увидел вдалеке поднятые взрывом над землёй части большого орудия – очевидно УСВ. Послышались громкие стоны раненых, призывы к санитарам. И вдруг среди этих криков раздался истерический вопль командира дивизиона:
–Отходим! Быстро всем отступать!…
Тут же голос Сущёва умолк.
Как только через четверть часа артобстрел начал стихать, Скоробогатов приказал своим расчётам готовить орудие к открытию огня. Чтобы не мешать артиллеристам, Ермаков вошёл в ход сообщения и принялся наблюдать за происходящим на поле перед траншеей. Около четырёх десятков танков, и за ними – полтора десятка броневиков с пехотой, неслись к позиции. Очевидно, немцы рассчитывали, что оборона у Расховца не слишком сильная, иначе их пехота покинула бы броневики.
Залп орудий дивизиона с расстояния четырёхсот метров одновременно обездвижил восемь идущих впереди немецких танков и буквально разнёс один из броневиков, превратив его в горящий факел.
Оставшиеся танки сразу же начали откатываться назад. Однако высыпавшиеся из броневиков пехотинцы, которых было около батальона, явно намеревались быстрым броском вперёд захватить траншею. Но тут среди бегущих к селу немцев начали рваться разнокалиберные мины, и наступавшая пехота бросилась назад.
Смеялись артиллеристы; сбрасывая с себя напряжение боя, радовался выпачканный грязью Скоробогатов; впереди, в траншее улюлюкали немцам пехотинцам.
–Батарея отлично стреляла! – сказал Ермаков Скоробогатову, почему-то в этот момент посмотрев на свои чистые руки.
«Пьер Безухов», – подумал он о себе, сравнив с героем романа «Войны и мира», который незваным явился на ведущую бой батарею.
В этот момент по ходу сообщения мимо Ермакова пронесли на плащ-палатке тело убитого майора Сущёва. На груди командира дивизиона была рана, окружённая небольшим кровяным пятном. Менее искушённый в военном деле человек мог бы принять её за осколочную, но Ермаков сразу понял, что майор убит штыком.
Это понял и Скоробогатов. Но Ермаков убрал глаза из-под его вопросительного взгляда и сделал вид, что ничего не заметил.
Вскоре новым командира дивизиона был назначен командир батареи полковых пушек, с которым у Скоробогатова были хорошие отношения, и сразу же по дивизиону был отдан приказ срочно обустроить для каждого орудия запасную позицию – в 50 метрах от имеющейся. К удивлению артиллеристов Скоробогатова, штабной майор, засучив рукава своей новенькой офицерской гимнастёрки, принялся копать новый орудийный окоп вместе с ними.
Незадого до 10 часов утра на село был совершён авианалёт уже 70 немецкими самолётами. Затем на позиции бригады снова двинулись танки. Как и предполагал Ермаков, исходя из численности передового отряда немцев, главные силы ударной группы, наступавшей через прорыв в обороне 15-й дивизии, составляли около ста танков. На этот раз удар по селу был нанесён сразу с трёх сторон. С юго-запада наступали до 30 танков и 250 пехотинцев, с востока – 40 танков и 300 пехотинцев, и столько же – с севера.
Этот бой, длившийся всего лишь час, стоил 111-й бригаде большой крови. С трудом отразив атаку противника, уничтожив ещё 14 немецких танков, бригада только убитыми потеряла пятую часть личного состава. Четверть её орудий и миномётов вышли из строя.
Село, подожжённое вражескими снарядами, горело с трёх сторон. Сбитый немецкий бомбардировщик упал прямо на площадь, повредив более десятка стоявших там машин бригады.
Последующие три часа для частей 111-й бригады прошли в подготовке к новому штурму. Раненые на машинах отправлялись на восток к мосту через Кшень, убитых хоронили в спешно вырытых общих могилах, приводились в порядок разрушенные позиции, подтаскивались из села в окопы боеприпасы.
По вызову подполковника Дрёмова Ермаков снова прибыл его штаб и подробно рассказал о ситуации в дивизионе, не упомянув, конечно, случай с майором Сущёвым. Несмотря на то, что бригада была в жёсткой осаде, комбриг, к удивлению Ермакова, теперь пребывал в хорошем настроении. «Бригада испытана, – пояснил Дрёмов, в ответ на прямой вопрос. – Теперь я знаю, каковы мои солдаты. Никто из них не побежал – вот что главное! Так что можете докладывать командующему!»
Однако сделать это Ермакову не удалось. Едва связист начал вызывать штаб фронта, связь прервалась. Одновременно перестали отвечать на вызовы радиостанции штаба 40-й армии.
По просьбе Дрёмова, Ермаков немедленно выехал на своём «Виллисе» в сторону Ефросимовки, где находился штаб 40-й армии. 111-я должна была получить подтверждение приказа оборонять район, так как силы её всё время таяли.
Отдаляясь от Расховца, Ермаков спешил, но не только чтобы быстрее выполнить поучение комбрига, а чтобы как можно скорее вернуться в «свой» артдивизион. Мысль о том, что его недавние боевые товарищи, могут подумать, что он попросту сбежал в тыл, мучала его.
Позади снова загрохотало, и теперь в этом голосе войны стали слышны завывания пикировщиков, что свидетельствовало о том, что бойцы бригады уже не смогли, как раньше, удержать вражеские бомбардировщики на высоте.
Ермаков гнал и гнал машину, обгоняя попутные колонны грузовиков, санитарные обозы, многочисленные группы беженцев. Иногда он останавливался, чтобы расспросить водителей попуток, где находятся ближайшие воинские части. Но водители знали лишь о том, что какая-то стрелковая бригада воюет возле Расховца.
Наконец, Ермаков увидел движущуюся навстречу легковую машину. И тут же затормозил, чувствуя, что ему, наконец, повезло. Оказалось, что в этой машине находится направлявшийся в расположение 111-й бригады офицер связи штаба 40-й армии, с которым Ермаков был знаком. Как тот сообщил, передавая Ермакову пакет от замкомандующего 40-й армией генерал-майора Жмаченко, 111-й бригаде по-прежнему предписано оборонять Расховец. Нужно было держать коридор отхода 121-й стрелковой дивизии, которая всё ещё сражалась на передовом рубеже. Лишь в том случае, если 121-й пройдёт по дороге через Расховец, 111-я бригада получит права на отход.
Вернувшись в штаб подполковника Дрёмова в половине четвёртого, под грохот оглушительной канонады, Ермаков передал ему пакет и устное сообщение. Тот, хмуро кивнул, прочитал приказ, и посмотрел на Ермакова так, словно ждал от него чудесного совета.
–Знаете, что происходит там? – комбриг указал в окно. – Очевидно, противник подтянул резервы, в том числе пехотные. При этом «кавалерийские» атаки их танков закончились. Немцы действую уже осторожнее и потому намного опаснее. Теперь их танки лишь показываются нашим орудиям и тут же прячутся за другими подбитыми танками, едва наши начинают артиллеристы по ним стрелять. После этого немцы концентрируют огонь исключительно на только что стрелявших батареях, так что расчёты не успевают откатить орудия на вторые позиции. К тем участкам, где у нас образовываются орудийные бреши, немецкие танки подходят углом, чтобы огонь из противотанковых ружей приводил к рикошетам. После этого начинается охота за расчётами ПТР.
–Но наши ещё держаться!
–Пока держатся. Но бои стали по-настоящему ожесточенными. На отдельных участках нашу пехоту сильно потеснили. Эти позиции удалось вернуть контратаками рот резерва, но с большими потерями. Значительная часть артиллеристов убиты или ранены. Вместо них к орудиям встали пехотинцы.
Наконец, Ермаков понял, зачем комбриг затеял с ним этот разговор.
–Приказ – есть приказ, – медленно произнёс Ермаков. – Людей жалко, всех нас – но вы правы, когда приказываете им стоять до конца. К тому же, село почти окружено, так что в светлое время суток нам всё равно не уйти. Будем ждать 121-ю дивизию, а заодно и ночи!
–Да, по-другому нельзя, – удовлетворённо произнёс Дрёмов и пристукнул ладонью по лежавшей на столе карте.
Когда Ермаков перебежками добрался до начала хода сообщения у северо–восточной окраины и пошёл по нему, то и дело прячась от взрывов за бруствером, он вдруг подумал, что там, впереди – лишь разбитые орудия и трупы. Когда же он увидел «свой» расчёт в целости, а возле него Скоробогатова, то едва не запел от радости. Артиллеристы тоже были рады его появлению.
–19 танков уже, и пехоты побили не менее батальона! – крикнул ему Скоробогатов, который был контужен. – Из штаба бригады посыльный прибегал. Сказал, что все УСВ и полковые пушки разбиты. Но «сорокопяток» ещё три целых: кроме наших двух, там, слева ещё одна. И петеэрщиков хватает. Так что держимся. Вы, товарищ майор, сходите на левый фланг! Может, офицеров там всех побило.
Ермаков махнул рукой и побежал по ходу сообщения налево, куда указывал старший лейтенант. Бежать было тяжело – то и дело встречались участки, где стенки прохода были снесены в результате прямых попаданий.
Миновав перепаханный снарядами участок, где раньше, как помнил Ермаков, находилась батарея УСВ, он пробежал ещё около ста метров и, наконец, увидел впереди «сорокопятку». Справа от траншеи откатывались, ведя огонь на ходу, несколько немецких танков.
Внезапно возникшее острое чувство опасности заставило Ермакова остановиться, когда до «сорокопяток» оставалось метров пятьдесят. Он увидел, как из серой дымки перед траншеей выдвигается угловатая «тройка». Точно пущенный снаряд взорвался на позиции батареи, разбив орудие и убив обоих его последних артиллеристов.
В этот момент пехотинцы в траншее закричали, махая руками, указывая вверх. Там, словно ангелы над адовой пеленой неслись над нашими позициями в сторону немцев пять нежданных штурмовиков Ил-2. Несколько десятков бомб обрушились на группу немецких танков, рассыпав её в считанные минуты; затем, штурмовики развернулись и прошли над полем в дыму и пламени, обстреливая немецкую пехоту из пушек.
Неподалёку раздался металлический грохот, земля вздрогнула так, что у Ермакова зашлось сердце. Пронзительная танковая сирена взвыла у траншеи и быстро затихла. Теперь уничтоживший «сорокопятку» немецкий танк представлял собой груду дымящегося железа. Его башня валялась на краю площадки, обе гусеницы лопнули и растянулись в стороны, словно кишки убитого зверя.
Уносящийся на восток «штурмовик» покачивал крыльями; его лётчик, явно, был доволен выполненной работой.
После того, как в пятом часу немцы, наконец, отошли, комбриг Дрёмов принял решение уплотнить оборону бригады. Остатки подразделений он отвёл в село, откуда население ушло ещё днём. За крайними домами бойцы бригады спешно вырыли окопы и устроили стрелковые точки в подвалах, пробив оттуда окна. Обе оставшиеся «сорокопятки» Дрёмов разместил на восточной окраине, чтобы простреливать подходы к дороге, ведущей от Черемисиново через Расовец. Это позволяло прикрыть части 121-й, если бы они, наконец, появились у села.
Все работы велись под непрерывной бомбёжкой. И, хотя «петеэрщикам» и пулемётчикам удалось свалить ещё два пикировщика «Юнкерс», потери бригады от бомбёжек продолжали увеличиваться.
В 18.00 началась четвёртая атака на Расховец. К немцам к этому времени подошло новое подкрепление, так как уже сразу шесть групп танков, каждая численностью до 30 единиц, поддержанных большими десантами, пошли в наступление на село. Очень скоро группы наступавших достигли новой линии обороны бригады. Танки были остановлены расчётами противотанковых ружей, но всё равно пехота противника ворвалась в окопы. Впервые за день в расположении бригады начался ближний бой, то и дело доходивший до рукопашной. Ни одна, ни другая сторона пленных в этой бою не брала.
Теперь немцы уже не отходили, лишь подкрепляли подразделения, ведущие жестокий бой на окраине села.
Трём немецким танкам удалось прорваться через позицию 2-го батальона. Два из них были тут же сожжены бутылками с горючей смесью, а третий, получив в упор множество пробоин от пуль ПТР, взорвался и сгорел.
Но к дороге, ведущей к Расховцу от Черемисиново, немецким танкам подойти не удалось из-за точного огня двух прикрывавших дорогу советских орудий.
С наступлением сумерек накал сражения лишь усилился. Бойцы 111-й бригады сражались упорно и яростно, не зная ещё, что около шести вечера 121-я стрелковая дивизия, к которой так и не пришла на помощь 14-я танковая бригада, начала отступать от передовой к реке Кшень.
Теперь путь понёсшей большие потери 121-й дивизии шёл на восток, по автодороге, ведущей через село Расховец к мосту через реку Кшень. От Черемисиново до Расховца всего 16 километров, но этот путь был для дивизии непростым, так как ей приходилось вести непрерывные арьергардные бои с преследующими её немецкими танковыми частями.
Лишь около девяти вечера колонны 121-й приблизились к Расховцу, где всё ещё продолжался бой. К этому времени на северной окраине села танками были раздавлены последние защищавшие этот рубеж расчёты ПТР, и теперь немцы постепенно продвигались вглубь села, преодолевая сопротивление рассыпавшихся по нему разрозненных подразделений бригады.
В тот момент, когда части 121-й дивизии вошли в Расховец с запада и двинулись через него к восточной окраине, подполковник Дрёмов, наконец, принял решение эвакуировать свой штаб. Но немецкие танки с северной окраины уже начали обстрел центральной площади, когда оттуда на восточную дорогу стали выезжать штабные машины. Один из снарядов угодил в грузовик с секретными документами, картами и ключом кода. Машина вспыхнула и сгорела в считанные минуты. В ней погиб комендант штаба бригады лейтенант Молдавский.
По-прежнему над селом кружили немецкие бомбардировщики, но теперь уже зенитчики 121-й дивизии отгоняли их от движущейся через село колонны. Объединились и противотанковые подразделения 111-й бригады и 121-й дивизии, что заставило немецкие танки прекратить продвижение к дороге.
Последними через село уехали машины с остатками 2-го батальона бригады, державшего оборону на западе села. Единственное уцелевшее орудие поддерживавшего батальон артдивизиона – «сорокопятка» старшего лейтенанта Скоробогатова, было подцеплено к замыкающему грузовику, перед которым ехал «Виллис» помощника командующего фронтом майора Ермаков.
Установленные в грузовике артиллеристов два крупнокалиберных пулемёта беспрерывно обстреливали проулки, не давая немецкой пехоте высунуться из-за домов. А сидящие за спинами пулемётчиков четверо бойцов с заряженными противотанковыми ружьями в руках, готовы были немедленно открыть огонь, если на дороге появятся немецкие танки.
Двигаясь без отдыха, с трудом отбив нападение ещё одной группы танков, выдвинувшихся из деревни Успенка, остатки 121-й стрелковой дивизии и 111-й отдельной стрелковой бригады вышли к станции Мармыжи, откуда под прикрытием 14-й танковой бригады около пяти утра 29 июня перешли на восточный берег реки Кшень и двинулись дальше на северо-восток. По приказу командарма Парсегова, эти части должны были сосредоточиться к северу от Воронежа, чтобы там получить пополнение и полностью восстановить боеспособность.
Глава 10. Орда Хорти
28 июня одновременно с дивизиями 4-й танковой армии Вермахта против войск левого крыла Брянского фронта начала наступление 2-я Венгерская армия.
Венгрия была давней союзницей Германии. В 1-ю Мировую войну, ещё в составе Австро-Венгерской империи венгерские войска сражались вместе с германскими против войск Антанты. После окончания 1-й Мировой войны, вследствие поражения и распада Австро-Венгрии, согласно заключённому в 1920 году Трианонскому мирному договору стран Антанты с Венгрией, в новообразованное Венгерское королевство не были включены две трети тех территорий бывшей Империи, в которых проживало большое количество венгерского населения. Трансильвания была отдана Румынии, Хорватия – Королевству Югославия; Словакия и Карпатская Русь – Чехословакии. Это позволило правителю Венгрии – авторитарному регенту адмиралу Миклошу Хорти, укреплять свою власть на основе лозунга «возвращение исконных территорий». Короля в Венгерском королевстве не было, поэтому Хорти без какой-либо конкуренции принял роль лидера нации.
После начала экспансии гитлеровской Германии в Европе Хорти составил с Гитлером прочный союз, который вскоре привёл к возврату части земель, утерянных Венгрией по итогам 1-й Мировой войны. На основании так называемых «Венских арбитражей», а на самом деле просто на основании подкрепленных военной силой решений нацистской Германии и фашистской Италии, в 1938 году Венгрия аннексировала южную Словакию, в 1939 году – Закарпатскую Украину, а в 1940 году отняла у Румынии Северную Трансильванию.
В 1941 году войска Венгрии поддержали Германию и Италию в кампании против Югославии и сделали зоной венгерской оккупации те югославские земли, которые были отогнуты у Венгрии по Трианонскому договору.
Это был триумф Хорти и его сторонников. Но возвращение «исконных земель» лишь усилило стремление хортистов к экспансии. Теперь она распространилась на земли СССР.
В апреле 1941 года в беседе с Гитлером Хорти заявил: «Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства, вопрос был бы решён. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества».
26 июня 1941 года, через четыре дня после нападения Германии на Советский Союз, немецкие самолёты без опознавательных знаков, с целью провокации, совершили налет на венгерский город Кашша. Генеральный штаб Венгрии немедленно объявил эти самолеты советскими, что дало Хорти предлог на следующий же день объявить войну СССР.
1 июля на Восточный фронт в украинское Прикарпатье для подкрепления 17-й немецкой армии была направлена 50–ти тысячная венгерская «Карпатская группа» в составе механизированного корпуса, 1-й горнострелковой бригады и 8-й пограничной бригады.
Продвигаясь вместе с немецкими войсками, «Карпатская группа» воевала активно, но не слишком удачно, и к тому моменту, когда она вместе с немецкой 1-й танковой армией в октябре 1941 года подошла к городу Сталино (в 1961 году переименован в Донецк) венгерские части понесли огромные потери в личном составе и потеряли 80% техники. В ноябре 1941 года войска «Карпатской группы» были отозваны на родину. На Украине остались лишь несшие гарнизонную службу венгерские бригады сил безопасности: 102-я, 105-я, 108-я, 121-я и 124-я, общей численностью 6 тысяч человек.
Но фюрер немецкой нации по-прежнему нуждался в большом количестве союзных войск, какого бы военного качества они не были. Поэтому в январе 1942 года в Будапешт к Хорти по поручению Гитлера прибыл фельдмаршал Кейтель и передал просьбу фюрера снова направить венгерские войска на территорию СССР. За это Гитлер обещал не только отдать Венгрии часть завоёванных там земель, географию которых он готов был обсудить позднее, но и, дополнительно, награждать отличившихся в боях венгерских офицеров и солдат персональными крупными земельными наделами.
Это предложение отвечало желаниям Хорти и его окружения, и 11 апреля 1942 года началась отправка на Восточный фронт срочно набранной, теперь уже 200–тысячной 2-й Венгерской армии под командованием ярого хортиста генерал-лейтенанта Густава Яни. В составе трёх корпусов 2-й армии – 3-го, 4-го и 7-го было в общей сложности 15 пехотных дивизий, 2 горные бригады, кавалерийская бригада, бронетанковая дивизии и 10 дивизий для несения охранной службы.
К идеологической подготовке этой военной компании правительство Венгрии во главе с премьер-министром Миклошом Каллаи подошло со всей серьёзностью. Она была объявлена для Венгрии национальной, как «возврат старого долга» – ответ на подавление Россией в 1849 году венгерского восстания, целью которого был выход Венгрии из Австрийской империи.
В напутственной речи, обращённой к отправляющимся на фронт солдатам 2-й армии, Миклош Каллаи сказал: «Наша земля должна быть защищена там, где лучше всего победить врага. Преследуя его, вы обезопасите жизни ваших родителей, ваших детей и обеспечите будущее ваших собратьев».
Зоной размещения 2-й Венгерской армии немецкое командование определило район Курска. К маю туда прибыл 3-й венгерский корпус, в который входили 6-я, 7-я и 9-я легкие пехотные дивизии. Также к Курску прибыл 30-й танковый полк 1-й венгерской бронетанковой дивизии. Полк состоял из двух танковых батальонов, каждый из которых имел одну тяжелую танковую роту из 11 немецких танков Pz-IV и две танковых роты, вооруженные чешскими лёгкими танками Pz-38.
Однако переброска двух других венгерских корпусов задерживалась из-за низкой обученности их дивизий и слабой организации транспортных служб. Поэтому для усиления неполной 2-й Венгерской армии генерал-полковник Вeйхс временно придал ей немецкие 16-ю моторизованную и 387-ю пехотную дивизии.
Наступление 2-й Венгерской армии началось в 3 часа утра 28 июня к югу от Щигров, на участке от Сетенева до Рождественского. Там оборонялись 212-я, 45-я и 62-я стрелковые дивизии 40-й армии Брянского фронта. В первой линии вместе с немецкими частями наступали 6-я и 9-я венгерские дивизии. Их поддерживала 1-я венгерская бронетанковая дивизия. Во второй линии за ними шла 7-я венгерская дивизия.
Основной удар пришёлся на советскую 212-ю стрелковую дивизию полковника Шутова.
Начало наступления, доносящийся с передовой грохот взрывов, широкие огненные всполохи на горизонте, обозначающие позиции русских, от которых скоро должен был остаться один лишь прах, приводили подполковника жандармской службы Сабо в сильное возбуждение. Он едва удерживался от того, чтобы, нарушив правила поведения старшего офицера, начать приплясывать на месте.
Начиналось первое для Сабо сражение этой войны. В 41-м году в «Карпатской группе» для него должности не нашлось, и лишь со 2-й Венгерской ему удалось попасть на фронт. Он был из уважаемого рода, поэтому ему самому предложено было выбрать дивизию, в которой он возглавит группу жандармов. И он назвал 7-ю дивизию генерал-лейтенанта Барнаи, где командиром 35-го полка служил его давний приятель ещё с 1-й Мировой – полковник Шоймаши.
Стоя у палатки штаба 35-го полка вместе высыпавшими из неё штабными офицерами, обмениваясь предположениями с Шоймаши о ходе боя, идущего в пяти километрах впереди, Сабо с нетерпением ждал, когда ночное зарево начнёт смещаться к горизонту, что означало бы прорыв русской обороны. Офицеры громко сожалели о том, что лишь 6-й и 9-й дивизии теперь достанутся все лавры за эту победу, и что обещанными фюрером поместьями будут награждены офицеры только этих дивизий. А Шоймаши с важным видом рассчитывал, сколько километров успеют пройти до рассвета дивизии прорыва.
–Русской обороне конец! Это им не 41-й год. Теперь наша армия в пять раз сильнее! – восклицали офицеры, внимая своему командиру, прихлопывая в ладоши.
Потом из штаба вынесли несколько ящиков с вином и бокалами, и офицеры принялись пить за победу и за новые венгерские земли, приветственно поднимая бокалы в сторону дороги через палаточный лагерь 35-го полка, по которой непрерывным потоком двигались колоны автомашин с подкреплениями и боеприпасами для сражающихся дивизий.
До дороги было пятьдесят метров, поэтому в свете фар лиц солдат, сидевших в этих машинах, различить было нельзя, но, судя по многочисленным воинственным возгласам, несущимся из колонны, и ободряющим крикам стоящих у палаток солдат 35-го, настроение у всех было великолепное.
Такого народного единения Сабо не наблюдал уже давно. И он искренне огорчился, когда Шоймаши снова пригласил его и офицеров в штабную палатку, чтобы продолжить заниматься делами также готовящегося к наступлению 35-го полка.
Несмотря на общее нетерпение, приказа о его выдвижении всё не поступало. Вместо этого из штаба 7-й дивизии, находящегося недалеко – в расположении 4-го полка, постоянно прибывали курьеры со сведениями о ходе боёв.
Первый успех был достигнут через 45 минут после начала наступления. 6-я дивизия прорвала фронт и начала быстро продвигаться к участку Морозово – Второе Никольское. Правда, офицеров 35-го полка несколько огорчило странное сообщение о том, что по мере продвижения от участка прорыва 6-я дивизия начала встречать всё усиливающееся сопротивление. Это было непонятно, так как бегущие части сопротивляться не могли.
В 4.10 утра из 9-й дивизии, наступавшей южнее, пришло сообщение о том, что она достигла района западнее хуторов Кабицы и Прудок, восточнее деревни Дмитриевка и хутора Еськов.
Не выдержав ожидания, Шоймаши, позвонил в штаб 7-й дивизии и поинтересовался у дежурного офицера, готовит ли генерал-лейтенант Барнаи приказ о её движении вслед за передовыми дивизиями. Ответ он получил обнадёживающий, за что Шоймаши и Сабо выпили ещё по бокалу.
Ещё через полчаса из штаба 7-й позвонили Сабо и передали, чтобы он и его десять жандармов проследили за порядком у дороги, ведущей через лагерь. На свой вопрос, в чём причина беспорядка, Сабо ответа не получил.
Отправив, ждущего у штабной палатки бездельника денщика Ласло в палатку жандармов, Сабо поспешил к дороге. Там в это время от передовой медленно двигался длинный конный обоз с ранеными. Испуганные выражения на лицах выпачканных в крови санитаров, по одному сидевших на телегах среди стонущих раненых, и хмурые мины возчиков показались Сабо совершенно неуместными.
–Эй, бодрее, солдаты! – крикнул он, приветственно взмахнув рукой. – Слава Венгрии!
Ближний возчик быстро обернулся к нему, явно собираясь сказать что-то дерзкое, но заметив знаки отличия жандарма, тут же отвернулся.
Солдаты полка, стоявшие за спиной Сабо, зашумели, высказывая предположения, что на передовой что-то не так. Расталкивая их, к подполковнику подошли все десять его жандармов, и солдаты примолкли.
Неожиданно, к линии фронта, обходя санитарный обоз впритык к палаткам, потянулась немецкая колонна. Лица сидевших в кузовах солдат Вермахта были спокойны. Взгляды, которые они бросали на венгров, показались Сабо не слишком уважительными.
«Ничего, мы ещё покажем им, какие у Венгрии солдаты!» – подумал Сабо.
И вдруг он осознал, что командующий 2-й Венгерской армии генерал-лейтенант Яни, почему-то направил в подкрепление сражающимся венгерским войскам приданные немецкие подразделения.
Увидев рядом с возницей одной из санитарных телег лейтенанта санитарной службы, Сабо пошёл рядом. Младший офицер привстал, намереваясь слезть с телеги, но подполковник его остановил.
–Сидите, лейтенант! Отвечайте на вопрос! Что там, на передовой на самом деле теперь происходит?
Лейтенант замялся, но всё же ответил жандармскому офицеру, осторожно подбирая слова:
–Наши сражаются хорошо. Прорвали фронт. Там артобстрел очень помог.
–А почему не ведут русских пленных?
–Так нет пленных, – лейтенант пожал плечами с таким видом, словно сам был в этом виноват. – Русские в траншеях в рукопашную бились. Многих наших положили. Ну, и их всех…
–Так, – Сабо раздражённо мотнул головой. – А что теперь? Где теперь венгерские войска?
–Командир нашей 6-й пехотной дивизии генерал Гинский приостановил наступление у Морозово. У русских там вторая полоса обороны оказалась. Пушек у них много, и стреляют они очень точно. Бьют наши танки как орехи.
Гневным жестом Сабо прервал лейтенанта и быстро пошёл к штабной палатке полка, на ходу приказав своим жандармам продолжать следить у дороги за порядком.
В шестом часу утра в штаб 35-го полка пришло сообщение из штаба 7-й дивизии о том, что в 4:50 остановилась уже 9-я венгерская дивизия. 2-й батальон её 17-го пехотного полка был встречен сильным пулеметным огнём с западной окраины хутора Прудок. Затем последовала яростная контратака роты советских солдат, в результате которой втрое превосходивший по численности венгерский батальон был рассеян и побежал. Только под угрозой расстрела на месте, командир батальона остановил своих солдат.
На хутор Прудок вместе со 2–м батальоном был брошен резерв 17-го полка – его 3-й батальон. Но атака снова захлебнулась.
К 8.00 другой полк 9-й дивизии – 47-й, потеряв половину личного состава, пробился к хутору Кабица. Но дальше полк не продвинулся, даже несмотря на то, что его атаку активно поддерживала немецкая авиация. Группы пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс» в сопровождении «Мессершмиттов» каждые десять минут подлетали к передовой, чтобы расчищать венгерским войскам дорогу.
По всей новой линии соприкосновения советские части оборонялись бесстрашно и упорно. Их миномётные и артиллерийские батареи, укрытый в оврагах, вели непрерывный губительный огонь.
Лишь поддерживающим 2-ю Венгерскую армию немецким 16–м моторизованной и 387-й пехотной дивизиям, наступавшим на её левом фланге, удалось продвинуться достаточно далеко – к реке Тим.
Вскоре, крайне разочарованный действиями венгерских войск командующий Яни приказал командирам своих дивизий приостановить движение и в течение суток подготовить их к скоординированным штурмовым ударам, так как обороняться при наступлении противника в форме преследования русские были явно готовы.
«Наступление 3-го корпуса не было успешным. Если перед корпусом сосредоточены значительные силы противника, то приостановка наступления разумна. Подготовившись, мы штурмовым ударом окружим крупные силы», – написал Яни в журнале боевых действий 2-й Венгерской армии.
Но и возобновившееся 29 июня в 13:00 наступление венгерских пехотных дивизий и танковых частей не привело к решительной победе. Сильный дождь мешал действиям немецкой авиации, поддерживающей венгерские войска. А сопротивление советской 212-й стрелковой дивизии в районе сел Кленовка, Липково и хутора Прудок было настолько сильным, что в 15.30 командир 9-й венгерской дивизии доложил командиру 3-го корпуса: «По моему убеждению, из хутора Прудок в южном направлении можно ожидать атаки крупных сил противника. Усталость, потери в личном составе побуждают отказаться от наступления на сегодняшний день и подготовиться к отражению русских контратак».
Однако при повторной атаке, после продолжительно артиллерийской подготовки и активной авиаподдержке, венгерским войскам ценой больших потерь удалось пройти на восток от хуторов Прудок и Кабицы и приблизились к селу Гнилое. К исходу дня после кровопролитного боя село Гнилое было захвачено.
В приказе по войскам командующий Яни, чтобы их подбодрить, указал в качестве причины затруднений наступления плохую погоду. «Дождливая погода выгодна для противника», – подчёркивалось в приказе.
Советская 212-я дивизия, выполняя приказ командующего 40-й армии, начала отходить на восток к селу Рождественское. Так, с боями, эта дивизия, держа противника на расстоянии, отступит к Дону, и затем будет оборонять мост к северу от Воронежа – у Новоживотинного, обеспечивая переправу на восточный берег других отступающих дивизий 40-й армии, а также частей 6-й сапёрной армии, 15-й стрелковой дивизии 13-й армии и многочисленных беженцев.
В 19 часов 29 июня немецкий открытый полугусеничный бронетранспортер, в котором ехала жандармская группа подполковника Сабо через час после колонн 4-го и 35-го полков 7-й венгерской пехотной дивизии, подъезжал к хутору Прудок, за которым к этому времени должен был быть раскинут новый лагерь. 6-я, 9-я пехотные и 1-я бронетанковая дивизии были снова впереди, но теперь, после того, что Сабо и его люди видели на бывшем переднем крае, они уже не завидовали дивизиям прорыва. Всё пространство на полкилометра перед русскими траншеями было усыпано трупами венгров и немцев, десятки сгоревших танков стояли вблизи траншей, а некоторые даже громоздились на брустверах. Сами траншеи представляли жуткое зрелище, так как там перепачканные кровью и грязью лежали вперемешку погибшие в рукопашных схватках солдаты – русские, венгры, немцы. На сотни метров за траншеями вся трава и кусты были выжжены, а голая земля сплошь покрыта глубокими воронками.
Дымились остовы танков, тлели трупы, горели остатки блиндажей и деревянная основа траншей. Всё вокруг было покрыто пеплом и чёрной пылью.
После такого побоища особая работа могла предстоять жандармской службе. Наверняка, нашлось пара-тройка малодушных, которые пытались сбежать с поля боя. Теперь, арестованные командирами, они должны были быть отправлены жандармами в Венгрию, где их ждало длительное тюремное заключение.
Летний день длинен и потому безлюдные окрестности дороги были видны до самого горизонта. Цветущие на полях злаки, зелёные рощицы и покрытые цветочными узорами невысокие холмы своей красотой только усугубляли впечатление о том, что здесь, словно на чумных территориях, правила смерть. Казалось, опасность затаилась повсюду. Каждую секунду Сабо ждал, что на дороге вдруг начнётся бой с возникшими ниоткуда русскими отрядами. Те же чувства, судя по выражениям их лиц, испытывали и его люди. Все, кроме управлявшего бронетранспортёром тупоголового денщика Ласло – лишённого воображения дремучего крестьянина.
Особенно не по себе Сабо становилось, когда дорога проходила через очередную группу деревьев. Спрятаться, устроить засаду в просматриваемых насквозь пространствах маленьких рощ было совершенно невозможно, но понимание этого не могло унять охвативший подполковника страх.
Когда Сабо увидел неподалёку от дороги три горящих сарая посреди поля, ему показалось, что здесь нападения на дорогу менее вероятно. Ветер широко раздувал пламя, которое то и дело прижималось к земле. Это означало, что рядом с сараями никаких злоумышленников быть не могло.
И всё-таки выстрел, раздавшийся вдалеке, не застал Сабо врасплох. Он успел нагнуть голову за мгновение до того, как над ним, впритык к краю борта шикнула пуля. Очевидно, стрелок целился именно в Сабо, у которого на голове была не каска, а фуражка. Но, потеряв главную цель, снайпер выстрелил снова – на этот раз в сидевшего рядом капрала Габаша. Пуля ударила по его каске и, крутясь в воздухе, перескочила через броневик.
Верзила Габаш, отличавшийся среди жандармов Сабо особой жестокостью, упал на пол и сжался как младенец, потянув колени к подбородку.
–Меня ранили, господин граф! – простонал он, щупая так и не слетевшую с него каску.
Ласло резко остановил бронетранспортёр и схватился за карабин. Но с дороги по полю уже открыли огонь мотоциклисты и водители тыловых машин. Словно в бездонную толщу воды, влетали пули в массу колосьев, выбивая из неё столбики пыли. В ответ с поля выстрелы уже не раздавались.
–Я ранен, ранен, о Господи!…
Сабо отодвинул свою ногу, за которую пытался ухватиться Габаш, и требовательно кивнул Ласло. Денщик снял с Габаша каску, на которой была небольшая вмятина, посмотрел след от пули на свет, и лишь после этого начал осматривать голову продолжавшего стонать капрала.
–Повезло тебе, парень. Пуля ударила вскользь, каску не пробила, – заключил Ласло, вытирая руки о рубашку.
Габаш сразу перестал стонать и принялся быстро ощупывать голову.
–А ведь больно. И голова кружиться.
–Вставай, идиот! Будь мужчиной! – резко произнёс Сабо.
Капрал вскочил, неловко прихватывая лежащий рядом карабин. Ласло сунул ему в руку свою флягу со спиртом. Морща бледное лицо, тот отхлебнул большой глоток и довольно оскалился.
–Все по местам! – скомандовал Сабо. – Некогда нам здесь выстаивать!
Броневик снова двинулся по дороге, и начал набирать скорость, обходя всё ещё стоявшие на дороге машины.
Однако, уже вблизи лагеря 7-й дивизии, один из жандармов вдруг вскрикнул, указывая через борт, и выстрелил. Ласло снова остановил броневик, но на этот раз свой карабина не тронул.
Вдалеке по полю в сторону хутора шёл сутулый человек, держа что-то в руке. Жандармы, принявшие молчание подполковника за команду, начали палить в далёкую фигуру, соревнуясь, кто первый в неё попадёт. Ласло рассмотрел человека, выругался, и снова двинул броневик.
–А ведь это всего лишь крестьянин. С корзиной из леса идёт, – сказал Сабо, презрительно оглядывая подчинённых.
Те сразу же прекратили стрельбу. Но в этот момент далёкая фигура упала.
Продолжая вести броневик, Ласло всё время косил глазом в поле, почему-то ощущая и свою вину за глупость, которую сотворили жандармы. И увидел, как крестьянин медленно встаёт на ноги. Прижимая к груди руки, в которых уже не было корзины, он медленно заковылял к хутору.
На этот раз палаточный лагерь дивизии был организован в большой роще, в пятидесяти метрах от дороги. Едва броневик въехал в рощу, по листьям деревьев мерно застучал дождь.
Это было удивительное природное явление, потому что на солнечном небе виднелись лишь небольшие полупрозрачные тучки. Подполковник, надев свой плащ-накидку, быстро ушёл вглубь лагеря, к палатке штаба 7-й дивизии, опознав её по развивающемуся над ней флагу. Жандармы вместе с большинством возящихся у палаток солдат, спрятались от дождя в палатки и под деревья. Ласло же, спрыгнув с броневика, остался на открытом месте, подставляя лицо тёплым каплям, с силой вдыхая аромат потревоженной дождём чужой земли.
Из медицинской палатки вышел главный врач госпиталя 7-й дивизии Гула Бода. У пожилого капитана медицинской службы был острый язык и склонность к фрондёрству, что нравилось в нём Ласло.
–Ну, капрал, прохлаждаетесь и охлаждаетесь? – врач невесело хмыкнул, становясь рядом, растирая дождевые капли по лицу. – Вымойте руки заранее. Придётся вам нынче немного запачкаться.
–Дурно шутите, доктор.
–Какие там шутки? Недавно с передовой паникёров привезли. И знаете, сколько их на три венгерские дивизии? Больше сорока. Вот так-то.
–Значит, будет один – к двадцати? – пробормотал Ласло.
–Так у вашей службы заведено. Двоих расстреляете, а остальных – в тюрьму!
Прикрывшись полой медицинского халата, Бода закурил.
Через пост в лагерь въехала низкая грузовая машина, в кузове которой копошились гуси. Машина была старая, разболтанная. На мокрой глинистой дороге её колёса сильно скользили. На небольшом изгибе лагерной дороги она съехала в накатанный кювет и ударилась колесом. Гуси сразу испуганно загоготали, а одна птица выпала из кузова и заметалась перед палатками.
Забыв о дожде, солдаты с хохотом принялись её ловить, пиная ногами, стараясь ухватить за шею.
–Всё-таки, мы, венгры, иногда бываем настоящими свиньями, – сказал доктор, хмуро наблюдая за этой сценой. – К нам в плен лучше не попадать.
И указал на медицинскую палатку.
–Вы, Ласло, кажется, знаете русский? Там у меня один раненый русский танкист. Чтобы его допросить, сюда прибыл майор из 30-го танкового полка нашей 1-й бронетанковой дивизии. Немцы с нами почему-то разведданными об их танковых войсках не делятся.
–Понятно почему. Чтобы наши меньше боялись. Я слышал, слабоваты наши танковые части против русских.
–Вот и помогите этому майору. Майор русский язык плохо знает, изорался на пленного. А у того раны у него тяжёлые, скоро умрёт. Ему бы перед смертью хотя бы немного покоя.
Как пояснил капралу Ласло Таваши обрадованный переводчику майор, тяжело раненого в бок русского танкиста нашли в этой роще, в разбитом Т-60. Судя по форме воронки рядом с танком, он был уничтожен авиабомбой. Второй член экипажа танка был мёртв, а этого, зная интерес начальства к сведениям о танковых частях русских, солдаты перенесли в медицинскую палатку. Русский был в сознании, но почти не стонал, хотя бок его был разворочен осколком. Очевидно из-за постепенного омертвения тела, у него уже не было болевых ощущений.
К тому времени, когда Ласло присоединился к майору, тот уже исписал несколько листков бумаги. Умирающий младший сержант отвечал на вопросы охотно, хотя говорил с трудом. Ласло сразу понял, почему тот так откровенен. Каждая фраза молодого танкиста была проникнута уверенность в силе своей армии. Он, видимо, хотел убедить врагов в том, что они должны бояться Красную Армию.
Да, все знают, что советские танковые войска не уступают немецким и по всем параметрам превосходят венгерские. О применении противником кумулятивных снарядов известно, но русские танки скоростные, и сконструированы так, чтобы снаряды рикошетировал с их брони. Да, большинство советских танков не радиофицировано, но благодаря отличной выучке танкистов, недостаток раций не мешает организовывать и маневрирование подразделений, и массированные атаки. Советские танкисты также отлично действуют в огневых поединках с танками противника и умеют уклоняться от встречного обстрела противотанковых батарей.
–Мы знаем, знаем всё про ваши хитрости, – в полубреду бормотал умирающий. – Мы сначала выбиваем вражеские командирские танки. Антенны у них всегда более сложные, флаги…, движутся за первой линией, но недалеко… словно погонщики… Трусоватые у вас командиры… Даже наша пехота сильнее всех ваших фашистских танков. ПТРД с очень длинным стволом и сошкой… легко пробивает вашу броню… Только подождать, пока ваши танки подойдут немного ближе. Пуля на четырнадцать с половиной миллиметров – в триплекс… Решето из этих ваших гробов…
–Всё, он нас уже не слышит! – устало произнёс майор, вытирая пот с лица. – А ведь правда это про командирские танки. Чуют, словно звери, в каком танке находится командир подразделения.
–Это страшно для чужих… Должны бояться, когда нас видят издалека… Если не видно наших звёзд, смотрите, как мы сигналим… Бойтесь, если видите поднятый красный флажок! Значит, мы развёртываемся к атаке… А если жёлтый флажок?… Спешивание… Это значит… это значит, мы победили!…
Когда Ласло вышел из медицинской палатки, к его удивлению, был уже поздний вечер. А ему показалось, что на допросе он присутствовал совсем недолго. Дождь уже кончился, на ясном небе плыла полная Луна. Правда, сквозь прозрачную рощу были видны у горизонта частые грозовые всполохи, но это лишь украшало вечерний пейзаж.
Глава 11. У реки Кшень
Свой первый бой Иван Савкин ждал как спасения. Болезненное, отстранённое восприятие окружающей действительности всё чаще охватывало его по мере того, как отдалялся тот страшный день 13 июня, когда на его глазах от немецкой бомбёжки в Саду Пионеров погибла его младшая сестра. Теперь душа Ивана словно сжалась, спряталась, уступив место поселившемуся в его сердце незнакомому ранее чёрному духу. Эта перемена ужасала Ивана, но противиться ей было невозможно, потому что, едва он начинал вспоминать, каким добрым человеком он был, как тут же в его памяти возникало окровавленное лицо маленькой Светки. Лишь снова начав слушать голос чёрного духа, Иван успокаивался и начинал чувствовать себя живым.
Вся его жизнь, наполненная большими целями, понятная, и лишь казавшаяся сложной, вдруг рухнула, рассыпалась, лишённая основы. Жестокость этого мира превысила предел его понимания. Родители Ивана, его друзья как-то сумели, в конце концов, смириться, успокоиться после ужаса 13 июня, а он, который всегда был сильным и волевым, уже не мог жить как раньше. Внешне перемена в нём была почти незаметна, он по-прежнему казался всё тем же Иваном, к которому все относились хорошо и которому, кажется, по-женски симпатизировала Эльза. На самом деле того Ивана уже не было – все иные чувства умерли в нём, кроме одного, теперь владеющего им целиком: жажды уничтожить фашистов всех до единого.
Поэтому он так жёстко вёл себя, когда на заводе его не хотели отпускать на фронт, поэтому он перестал разговаривать с друзьями по душам, редко заходил к ним в гости, всё своё время и усилия посвящая лишь тому, чтобы ускорить военкоматскую процедуру.
Когда родители уехали из Воронежа, он сразу забыл о них; точно также он вскоре забыл и о провожавших его Эльзе и Севе, хотя понимал, что, возможно, видит их в последний раз. Теперь всё это было для него не важно. Его мысли и желания были уже далеко – на передовой, где он, наконец, мог бы дотянуться до нелюдей, у которых он должен был отнять жизни.
В ходе начавшейся 24 июня двухдневной подготовки новобранцев, которая свелась лишь к проверке заявленных ими в военкомате умений, Иван, ранее служивший в армии танкистом, хорошо показал себя, и как механик–водитель, и как пулемётчик. Поэтому его просьба о зачислении в танковые войска была удовлетворена, и 26 июля он был приписан к 14-й танковой бригаде полковника Семенникова.
Батальоны бригады находились в районе между селами Расховец, Средний Расховец и железнодорожной станцией Мармыжи, поэтому пополнения 14-й отправлялись на эту станцию, куда по железной дороге подвозили для бригады новую технику.
В Мармыжи грузовик с группой новобранцев, в которую входил Иван, прибыл вечером 26 июня. В этой группе в танкисты был записан лишь он один, а остальные тринадцать человек были зачислены в моторизованный стрелково–пулемётный батальон 14-й бригады. В качестве сопровождающего с ними ехал младший политрук Сахно, возвращавшийся в МСПБ из госпиталя.
После недолгого разговора с находившимися на станции представителем 14-й бригады старшим техником–лейтенантом Вакуленко, Сахно сразу же повёз мотострелков к Среднему Расховцу, где находился батальон. Иван же, к его большому огорчению, был временно назначен стрелком пулемёта ДШК на бронепоезд «Южноуральский железнодорожник», прикрывавший своими средствами ПВО станцию. Техник–лейтенант Вакуленко, манерой разговора похожий на Старкова, начальника ОТК завода имени Тельмана, пояснил новобранцу, что тот приписан к 530–му танковому батальону майора Фомичева, но так как на станцию пока не прибыл запаздывающий эшелон с новыми танками для батальона, Иван командируется на бронепоезд, где не хватает пулемётчика.
«До прибытия танков», – повторил Вакуленко таким тоном, словно сам в своих словах сомневался.
Командир зенитного взвода бронепоезда лейтенант Закаев новым стрелком остался доволен. Ему понравилось железное спокойствие Ивана и то, как умело он обращался с установленным на зенитной площадке ДШК.
–Попадёшь, если что? – спросил его лейтенант в завершении разговора.
И одобрительно улыбнулся, когда Иван вместо обычного «постараюсь», коротко бросил: «Да».
Хотя Иван по-прежнему мечтал о танке, бронепоезд ему понравился. На его четырёх бронеплощадки было установлено большое количество вооружения, позволяющего вести интенсивный бой и с наземным, и с воздушным противником. Бронепоезд имел два 75-мм французских орудия, каждое из которых было установлено в башенках бронеплощадок, 25-мм автоматическую советскую зенитную пушку образца 1940 года, три станковых крупнокалиберных 12,7-мм пулеметы ДШК, семь бортовых 7,62-мм пулемёта ДТ и 5 пулеметов «Браунинг» на треногах.
Огорчило Ивана лишь то, что в качестве личного оружия ему выдали некрасивую, похожую на длинную палку 6,5-мм японскую винтовку.
Что касается бойцов 1-й бронеплощадки лейтенанта Уварова, где стоял его пулемёт, Иван решил вести себя с ними по-дружески, так как все они вскоре должны были вместе с ним воевать.
От своих новых товарищей, Иван узнал, что кроме «Южноуральского железнодорожника», на станционных путях в Мармыжах находились ещё два бронепоезда – «За Родину» и «Смерть фашизму». Но эти были лишь артиллерийскими и не обладали сильной системой ПВО. По поводу же 14-й танковой бригады, Ивану рассказали, что её 531-й танковый батальон встал на позиции у Мармыжей в поселке Ленинский, а 530-й находится севернее, вместе с моторизованным стрелково–пулемётным батальоном.
Ивана вполне устроило то, что, кроме как по делу, никто на бронепоезде к нему не обращался. Все были заняты чисткой орудий и личного оружия, проверкой боеприпасов, хозяйственными работами, и главное, непрерывными учениями, устраиваемыми командиром бронепоезда старшим лейтенантом Орловым и комиссаром Горкушенко. Лишь один раз перед вечерним отбоем, когда на 1-ю бронеплощадку с проверкой явился командир зенитного взвода лейтенант Закаев, он по завершении осмотра оружия неожиданно спросил Ивана, окинув его с ног до головы быстрым взглядом, сможет ли он сбить хотя бы один фашистский самолёт? «Собью столько, сколько смогу, – спокойно ответил Иван, не опуская глаз. – Они пришли нас убивать – поэтому умрут сами!». Ответ удивил не только Закаева, но и всех стоявших рядом бойцов – однако, никто и после этого с душевными разговорами к Ивану не приставал.
Когда в ночь на 28 июня экипаж бронепоезда был поднят по тревоге, вдали на западе уже грохотало; вдоль всей линии горизонта играли огненные всполохи. Иван с трудом сдерживая нетерпение, добежал до своего пулемёта и, морщась из-за нервных вскриков командира бронеплощадки лейтенанта Уварова «Орудия готовь!», принялся быстрыми, точными движениями заряжать ленту в пулёмёт. Затем он обнял ДШК одной рукой и застыл так в ожидании боя.
По приказанию старшего лейтенанта Орлова, бронепоезд начал медленно маневрировать в западном направлении, чтобы утром, когда начнутся авианалёты, встретить вражеские самолёты перед станцией. Два других бронепоезда, находившихся на станции Мармыжи, остались на месте.
Несколько часов стояли бойцы у орудий и пулемётов, готовые в любой момент открыть огонь. Ночной бомбардировки никто не ждал, однако, всем было известно, как опасно подпустить к поезду диверсантов, которые одной толовой шашкой могут взорвать под ним рельс и этим его обездвижить.
Едва забрезжил рассвет, как сразу же к звукам непрекращающейся далёкой орудийной пальбы добавился надсадный гул приближающихся самолётов. Уставшие от напряжённого ожидания люди сразу же оживились, со всех сторон послышались злые воклицания, матерная ругань, некоторые бойцы нервно засмеялись.
–я здесь ненадолго. Но я успею! – прошептал Иван, с силой сжав пулемётные рукояти.
–Не зевать, ребята! – закричал лейтенант Уваров. – Команды не ждать! Бейте сразу, как только они приблизятся метров на пятьсот!
Сразу же вокруг загрохотало. И через секунду к звукам многочисленных зенитных выстрелов добавился отвратительный скрежет пуль, ударявших в броневые листы.
Однако в небе над бронепоездом вражеских самолётов не было. Иван быстро огляделся по сторонам, и увидел, что «Юнкерсы» заходят в атаку сбоку, с севера. Он начал выворачивать на станке тяжёлый пулемёт, но, опережая его выстрел, в верхний край бронещита ударил авиационный снаряд. Несколько осколков отскочило на бронеплощадку. Был убит наповал пулеметчик Смирнов; рядом с ним упал с башенной лестницы, ударившись головой, стрелок орудия Дудин. Болезненный крик раздался и на соседней бронеплощадке.
Два десятка вражеских самолётов, стремительно носились над бронепоездом, непрерывно обстреливая его. Они почти не маневрировали, так как ответная хаотичная стрельба не причиняла им никакого вреда.
«Почему я боюсь? – подумал Иван, ловя в прицел несущийся на него самолёт. – Это они должны бояться!»
Но прежде чем Иван открыл огонь, самолёт резко дёрнулся в сторону, получив в борт снаряд, выпущенный со 2-й бронеплощадки. Иван раздражённо зарычал и попытался нащупать очередью другой самолёт, но два десятка вражеских «Юнкерсов» уже выворачивали к западу, уходя из-под обстрела.
По поезду на крики раненых побежали санитары. Один их них на две секунды склонился над неподвижно лежавшим Дудиным, покачал головой и побежал дальше. По приказу лейтенанта Уварова, его бойцы накрыли одеялами тела двух погибших товарищей и снова изготовились к стрельбе.
Второй налёт начался через полчаса. Эта группа «Юнкерсов» действовала уже не так смело, как первая. Рассыпав строй, вражеские самолёты во время бомбометания кружили высоко над бронепоездом, отчего почти все бомбы упали в стороне. Но и в результате этого налёта в команде старшего лейтенанта Орлова были потери – тяжёлую контузию получил командир 2-й бронеплощадки лейтенант Шалаев.
Третью атаку «Юнкерсы» снова предприняли с пикированием.
–Что, бойцы, а мы достанем хоть одного гада? – крикнул лейтенант Уваров.
И сразу же радостно всплеснул руками, так как в этот момент точная очередь Ивана разорвала один из «Юнкерсов». Крутясь в воздухе, рассыпая белые искры, самолёт упал в рощу.
Остальные самолёты быстро поднялись на высоту, неприцельно отбомбились и понеслись прочь.
Последняя бомба взорвалась на рельсах между 1-й и 2-й бронеплощадками. Иван, почувствовавший после уничтожения вражеского самолёта огромный прилив сил, кинулся было туда, но лейтенант Уваров его остановил.
–Не твоя работа, солдат! У пулемёта стой! Там пусть шубинцы возятся.
Вскоре у вагона появилась команда техника–лейтенанта Шубина; ремонтники волокли за собой сварочный аппарат. Отмахиваясь от вопросов стрелков, они принялись резать повреждённый рельс.
Лейтенант Уваров, обеспокоенный тем, что на этот раз на 1-ю бронеплощадку после налёта не зашёл командир зенитного взвода лейтенант Закаев, принялся разыскивать его по внутренней связи. Взводный нашёлся в медотсеке. Он сообщил, что ранен в ногу, но командовать продолжит, и что во время третьего налёта тяжёлые ранения получили парторг бронепоезда Симаков и пулемётчик Таранухин.
–Ты следи там у себя! – сказал Закаев. – Командир связывался с Мармыжами – станцию всё-таки бомбят. Без нас, конечно, долбили бы сильнее.
–У меня все при деле.
–Как твой танкист?
–Он и сбил второй немецкий самолёт.
–Ну, пусть ещё здесь повоюет! А то у станции уже эшелон с танками разгружается.
Бомба, разорвавшая рельс под бронепоездом, обездвижила его ненадолго. Ремонтники засыпали воронку, прикрыли её тремя шпалами, затем скобами закрепили сверху вместо куска рельса дубовый брус. По сигналу техника–лейтенанта Шубина машинист на медленной скорости перетащил бронепоезд через повреждённый участок на несколько сот метров к востоку.
И снова с короткими промежутками начались авианалёты. В течение шести часов зенитчики сбили ещё два самолёта, однако около трети команды бронепоезда было за это время выведено из строя, а половина орудий и пулемётов разбиты.
Около часа дня с самолёта, который лично сбил из ДШК командир 4-й бронеплощадки младший лейтенант Куплевахский, выпрыгнул с парашютом пилот. Ветер начал сносить парашютиста в сторону бронепоезда и по приказу комиссара Горкушенко несколько бойцов бросились к тому месту, куда лётчик доложен был приземлиться.
Весь бронепоезд слышал гневную ругань фашиста, который в воздухе принялся стрелять из пистолета в подбегавших бойцов. Одному он попал в руку, за что, несмотря на крики комиссара, был сильно избит прикладами винтовок.
Когда пленного вели вдоль бронепоезда к находившейся в паровозном блоке командирской рубке, немец продолжал ругаться, оглядывая советских бойцов ненавидящим взглядом. Ох, как захотелось Ивану выстрелить в него из своей дурацкой японской винтовки! Его остановила лишь мысль о том, что за это полагается штрафбат, где никакого танка он не получит.
В два часа дня, отразив восемь авианалётов, расстреляв почти весь боезапас, бронепоезд вернулся на станцию Мармыжи. Там лейтенант Уваров не без сожаления передал Ивану сообщение от старшего лейтенанта Орлова о том, что тот должен прибыть на площадь у вокзала, где его ждёт представитель 14-й танковой бригады.
–Жаль отдавать такого бойца! – сказал напоследок Уваров. – Может, хочешь перевестись на наш бронепоезд насовсем?
Но Иван в ответ лишь покачал головой и, отдав честь, поспешил на станционную площадь. «Хорошие ребята, но воевать я там не буду, – подумал Иван, припоминая, как хотя и избитым, но живым провели недавно мимо него злобного врага. – В танке с этим легче. Танкистам брать фашистов плен некогда. Им их давить надо!»
Он прошёл через железнодорожные пути мимо искорёженных бомбовыми взрывами бронепоездов «За Родину» и «Смерть фашизму», и вышел на площадь, где сразу же наткнулся на техника–лейтенанта Вакуленко.
–А, это ты, боец! – сказал Вакуленко таким тоном, словно расстался с Иваном пять минут назад. – Вовремя ты – скоро выдвигаемся. Вон четыре наших танка на краю площади. Три «Валентайна» и БТ-7. Я бы тебе предложил даже «КВ» или Т-34, но в бригаде их нет. Так что, ты, как молодой боец, назначен механиком–водителем «бетэшки». Броня её, конечно, слабовата, но зато бегает, как молодая.
Ирония техника–лейтенанта не трогала Ивана. Все его мысли были теперь лишь о том, как он скоро будет воевать по-настоящему – наблюдая в смотровое окошко механика–водителя, как гибнут враги от огня и гусениц его танка.
БТ-7 – «быстроходный танк», произвёл на Ивана хорошее впечатление. Эта машина была больше и красивее, чем БТ–5, на котором он ездил во время службы в армии, и в отличие от «пятёрки» корпус имела не клёпаный, а сварной. Кое в чём БТ-7 отличался в лучшую сторону и от британского танка МК–3 «Валентайн». Броня МК–3 была, конечно, мощнее, но орудие «англичанин» имел 40–миллиметровое, в отличие от 46–миллиметрового орудия БТ-7. Но главное, чем «семёрка» понравился Ивану – большим боекомплектом. 72 орудийных снаряда и 2700 патронов к 7,62-мм пулемёту, нёсли в себе множество фашистских смертей.
Что касается экипажа, Иван просто принял к сведению, что теперь в его жизни появился командир танка – широколицый украинец сержант Олиференко, а также заряжающий рядовой Степанков, родом из Калуги. Командир и заряжающий были старше Ивана – им было за тридцать, они с прошлого года воевали вместе, а недавно потеряли механика–водителя, когда их предыдущий танк был подбит. Новые товарищи вели себя с Иваном несколько свысока. Но ему было всё равно.
После прорыва обороны 15-й дивизии 13-й армии, наступавшая на юго-запад в направлении станции Мармыжи 9-я немецкая танковая дивизия с её 144 танками создала угрозу окружения частей 40-й армии, находящихся на передовой. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы советская 14-я танковая бригада двигалась к позиции 121-й стрелковой дивизии. Вместо этого, командующий 40-й армией Парсегов приказал по радиосвязи комбригу–14 полковнику Семенникову до вечера задержать продвижение танков противника с северо-запада.
В 14-й бригаде имелось только 38 танков – 20 «Валентайнов, 16 БТ-7 и 2 БТ–5, поэтому лобовой удар по 9-я немецкой танковой дивизии был бесполезен, даже несмотря на то, что теперь танки противника наступали расходящимися группами, расстояние между которыми было более 5 километров. Единственным шансом остановить их было нанесение двух ударов из засад по флангам танковой дивизии.
Группу, которая должна была у села Средний Расховец атаковать северный фланг 9-й дивизии, полковник Семенников решил возглавить сам. В эту группу были включены 530-й танковый батальон майора Фомичева и моторизованный стрелково–пулемётный батальон. По южному флангу немецкой танковой дивизии должен был нанести удар у Мармыжей 531-й батальон капитана Богатюка.
Засада у дороги, идущей с запада через Средний Расховец, была устроена по всем правилам. 10 «Валентайнов» 530-го батальона были скрыты в роще перед селом, позади разместились батареи МСПБ, а две группы по четыре БТ заняли позиции по флангам. Вражеские танки, появись они на дороге, оказались бы под кинжальным огнём с трёх сторон.
БТ-7 сержанта Олиференко, в экипаже которого имелся новобранец, был поставлен комбатом майором Фомичёвым на самую безопасную, по его словам, позицию – крайним слева, дальше всех от дороги. Однако механику–водителю этого танка Ивану Савкину позиция безопасной не показалась. Если бы он был вправе высказывать мнение о командирских решениях, он бы сказал комбату, что немцы могли двигаться и не по дороге, а по окружающим её лесопосадкам – тогда они объехали бы засаду и оказались на фланге танкового батальона.
–Повезло тебе – считай, прямо в бой попал, – сказал Ивану сержант Олиференко, очевидно, так желая его подбодрить. – Ты, солдат, следи за командами, и всё будет хорошо! Первый бой – дело непростое.
Почему-то в этот момент Иван вспомнил об Эльзе – о том, как она при расставании внимательно смотрела на него своими красивыми глазами. И тряхнул головой, прогоняя видение.
Было около шести вечера 28 июня, когда комбат по радиосвязи сообщил, что слышен гул приближающихся с запада танков.
–Стоять и ждать команды! – приказал майор Фомичёв. – Кто выдаст засаду – своими руками удавлю! Когда скомандую наступать, действуйте умно – складки местности, кусты используйте как укрытие. Главное не красоваться, а противника уничтожать!
–Хороший нам комбат попался, – уважительно произнёс заряжающий Степанков.
–Да, деловой, – ответил Олиференки.
Не прошло и десяти минут, как вдалеке из лесополосы у дороги показались два немецких лёгких танка. Они двигались медленно, то и дело прячась за естественными укрытиями, точно так же, как недавно своим танкистам советовал комбат.
–Немецкая разведка! Не стрелять! – снова раздался в шлемофонах голос Фомичёва.
Позади Ивана щелкнул затвор орудия. Он бросил взгляд назад и заметил, как мелко дрожит на спуске рука Олиференко.
–Сейчас появится группа, я знаю! – сказал Иван, сам не понимая, почему эта мысть пришла вдруг ему в голову. – Из рощи слева, до которой триста метров.
Олиференко ничего не успел ответить, потому что из ближней рощи, на которую указывал Иван, бортами к засаде начали выползать движущиеся на юго-восток танки. Их было много, десятки; впереди колонны ехали три тридцатьчетвёрки.
–Стреляй! – закричал Иван, увидев, как башня переднего танка начала поворачиваться.
Рука Олиференко дернулась, раздался орудийный выстрел, и борт «тридцатьчетвёрки» охватило пламя.
–Кто подбил своего, косорукие?
На этот раз это был сам командир 14-й танковой бригады полковник Семенников.
–Кресты немецкие на них! – быстро произнёс Олиференко. – Они наши танки приспособили…
Договорить ему не дали. Теперь уже все советские танки, артбатарея, зенитчики, расчёты ПТР, лежащие в неглубоких окопчиках, открыли бешеный огонь по вражеской колонне.
И сразу же Иван Савкин словно нырнул в этот бой, став частью своего танка. Автоматически повинуясь приказам Олиференко, он начал делал резкие маневры, уводя машину из-под вражеских выстрелов; потом он вдруг увидел перед собой немецкий грузовик, повалил его набок и тут же погнал танк дальше. Враги разбегались перед БТ и падали под пулемётными очередями Олиференко, а Савкин сбивал и давил тех немцев, которых не доставали пули, и очень жалел, что не может догнать каждого врага.
Пришёл в себя он так же резко – просто снова вдруг обретя волю над собой. Растягивая губы в улыбке, Иван молча кивал в ответ на похвалы Олиференко и Степанкова, а они на его молчание не обижались; наоборот, его сдержанность только усиливала симпатию к нему товарищей.
Потом по радиосвязи голос полковника Семенникова сообщил, что потерь в советской группе нет, а немецкий отряд отброшен, потеряв 9 танков, 3 автомашины, 7 мотоциклов и около роты пехоты. И похвалил танкистов, мотострелков, артиллеристов и зенитчиков, благодаря которым теперь войска северного фланга 9-я немецкой танковой дивизии остановятся для приведения подразделений в порядок.
Комбриг пообещал награды всем отличившимся, первым отметив экипаж танка сержанта Олиференко, вовремя среагировавший на обходной маневр противника. Затем Семеников упомянул командира отделения ПТР замполитрука Сахно, который поджёг немецкий средний танк, и похвалил автоматчиков Павлова и Овсянникова, застреливших по десятку фашистов.
Только после этого, комбриг сообщил, что теперь, согласно приказу, полученному по радиосвязи от командарма Парсегова, бригада начинает отход.
Около восьми вечера 530-й танковый батальон и моторизованный стрелково–пулемётный батальон двинулись к переправе через реку Кшень, которую, согласно приказу командующего 40-й армии, 14-й бригаде теперь предстояло оборонять.
А у Мармыжей ещё продолжался бой 531-го танкового батальона с южной частью 9-й немецкой танковой дивизии – её 33–м полком. Бой начался с того, что, подпустив немецкие танки на 100 метров, батальон, по команде комбата капитана Богатюка, кинжальным огнём уничтожил 13 вражеских танков. При этом в перестрелке были подбиты два «Валентайна» 531-го батальона.
Старший техник–лейтенант Михаил Вакуленко на тягаче сумел под огнём противника быстро вытащить один подбитый танк с поля боя; затем, вытаскивая на буксире второй, он был тяжело ранен осколком и, доставив танк к своим, умер на руках санитаров.
Благодаря тому, что 14-я бригада задержала 9-ю немецкую танковую дивизию у Среднего Расховца и у Мармыжей, к вечеру к переправам у реки Кшень успели пройти части отступавшей 121-й стрелковой дивизии, а также разрозненные подразделения других дивизий 40-й армии и большое количество беженцев. Поэтому комбриг Семенников по радиосвязи отдал приказ на отход и 531-му батальону.
К этому времени поддерживающий батальон бронепоезд «Южноуральский железнодорожник» уже не мог вести бой. Все его орудия и средства ПВО были уничтожены в результате танковых обстрелов и авианалётов. Увезти бронепоезд было нельзя, так как на перепаханной взрывами станции Мармыжи не осталось ни одного целого рельса. Поэтому командир бронепоезда старший лейтенант Орлов и комиссар Горкушенко приняли решение взорвать бронепоезд. Когда его команда присоединилась к колонне 531-го танкового батальона, сапёры заминировали паровоз и все орудийные площадки. И вскоре после того, как колонна 531-го батальона ушла со станции, мощные взрывы превратили бронепоезд в груду искорёженного железа.
Последние несколько километров по дороге от Среднего Расховца до переправы через реку Кшень основным силам 14-го танкового корпуса предстояло пройти в темноте. Теперь его колонны двигались в нескончаемой толпе беженцев, тащивших на себе свой скарб или толкавших перед собой тележки. Вблизи и в отдалении от дороги сияли многочисленные огни пожаров, обозначающих брошенные дома и подожжённые самими селянами поля. Душный запах гари, смешанный с бензиновыми выхлопами, висел в воздухе. Повсюду раздавались крики уставших, испуганных людей, стоны лежащих в повозках раненых, проклятия, обращённые неизвестно к кому.
А на западе по-прежнему не умолкала канонада.
В тот момент, когда едущий на переднем танке колонны 14-й бригады комбриг Семенников увидел впереди в отдалении тускло блестевшую ленту реки, к нему с обочины дороги через толпу беженцев с отчаянной решительностью пробился незнакомый капитан медицинской службы с перевязанной рукой.
–Товарищ полковник, прошу о помощи. Там за рощей какие-то танкисты остановили нашу машину и выгружают раненых, чтобы машину забрать. Прошу разобраться! Это вопиющее безобразие!
И капитан протянул комбригу своё удостоверение.
–Разберёмся, – пробормотал Семенников и крикнул едущему вслед за танком на командирской «Эмке» своему офицеру связи старшему лейтенанту Ананьеву, чтобы тот взял с собой опытного бойца из взвода разведки старшего сержанта Кунгурякова и санитара и помог капитану решить вопрос с машиной для его раненых.
В глазах капитана мелькнуло искреннее огорчение, и он пошёл навстречу людскому потоку к «Эмке», поглаживая забинтованную руку.
Через десять минут в темноте, в той стороне, куда ушла «Эмка» раздалась стрельба. Но Семенников не отдал приказ бойцам выяснить, что там случилось. Ему стало ясно, почему так огорчился «капитан», когда с ним поехал не полковник, а старший лейтенант.
И вдруг возле дороги раздался автомобильный гудок и машина офицера связи, медленно продвинулась через толпу и поехала вслед за танком. Приглядевшись к машине, Семенников понял, почему люди на дороге не возмущались из-за наглых действий водителя. За рулём машины с изрешечённым пулями ветровым стеклом теперь сидел старший сержант Кунгуряков; рядом с ним боком, привалившись к дверце, лежало тело мёртвого старшего лейтенанта Ананьева. Ни санитара, ни «капитана» в машине не было.
До моста через Кшень оставалось не более километра, когда неподалёку раздался громкий протяжный щелчок. Это был взрыв противопехотной мины. Судя по тому, что впереди с обеих сторон дороги были протянуты белые сапёрные ленты, обозначающие границы минных полей, это была советская мина.
Людской поток остановился. Вдоль дороги с фонариками в руках забегали сапёры, покрикивая на людей, отталкивая их от белых лент. Один из сапёров объяснил строгому полковнику–танкисту, что лошадь одной из повозок беженцев чего-то испугалась, выбежала за обочину, порвав лету, и сразу же попала на мину. Теперь лошади конец, а вместе с ней и двум пожилым беженцам.
Затем колонна снова тронулась. Проезжая мимо места взрыва, полковник Семенников всё-таки заставил себя туда посмотреть. В пяти метрах от обочины рядом с изломанной повозкой лежало тело мёртвой лошади с разорванным брюхом. Погибших людей у повозки не было, очевидно их забрали санитары или похоронщики.
–Бригада, подготовиться к переходу через мост! – приказал полковник глухим голосом, и чтобы привести свои чувства в порядок принялся любоваться прекрасной гладью реки, неширокой, но в полной мере собравшей своей поверхностью все отблески расчерченного закатными лучами вечернего неба.
Глава 12. Командовать в реальном бою
Рано утром 29 июня в штаб 40-й армии, расположенный в селе Ефросимовка – в 52 км к востоку от линии фронта, командарму Парсегову был прислан пакет от командира 14-й танковой бригады, в котором содержались захваченные этой ночью штабные документы немецкого 86-го сапёрного батальона. Сведения были очень ценные, и чтобы командарм не сомневался в их достоверности, полковник Семенников приложил к документам отчёт об обстоятельствах их захвата.
В отчёте сообщалось, что мобильный отряд из 10 разведчиков моторизованного стрелково–пулемётного батальона 14-й бригады во главе с младшим политруком Сахно, скрытно продвигаясь на БТ–5 в стороне от дороги, в середине ночи, в районе Среднего Расховца наткнулся на палаточный лагерь немецких сапёров. Боевое охранение было перебито ножами, затем отряд на своём скоростном танке подъехал прямо к дому, где находился штаб батальона. Уничтожив караул автоматным огнём, разведчики ворвались в здание. В течение пяти минут они нашли помещение оперативного отдела и собрали там все документы и карты, затем младший политрук Сахно дал приказ отходить. Отряд смог вырваться из лагеря без потерь, благодаря охватившей немцев панике. Более того, бойцы Ермакова прихватили с собой штабную легковую машину и два мотоцикла. Но на этом история не закончилась. При движении отряда к реке Кшень, он столкнулся на опушке леса с возвращавшейся со стороны мостового перехода разведгруппой противника из 15 человек. Семеро фашистов были застрелены в упор, остальные бежали в лес.
Согласно добытым разведчиками документам, на 29 июня сапёрному батальону была поставлена задача быть в готовности наводить мосты через реку Кшень. То есть немецкое командование рассчитывало, что уже на второй день наступавшим войскам удасться пройти до 35 км. Такое продвижение было возможно, только если на участке прорыва вводились всё новые и новые танковые части. Исходя из этого, полковник Семенников указал на необходимость переброски в помощь 121-й, 160-й и 212-й дивизиям резервов находившихся южнее ещё двух дивизий 40-й армии – 45-й и 62-й, не подвергшихся 28 июля сильному удару.
Однако Парсегов не принял совет командира 14-й танковой бригады, так как не хотел ослаблять фронт и на южном участке. Он был уверен, что у реки Кшень и так удастся задержать противника на три–четыре дня. Этого срока было достаточно, чтобы к 40-й армии подошли подкрепления, которые, наверняка, уже посланы Генеральным штабом. Кроме того, сам Брянский фронт располагал четырьмя танковыми корпусами – 1-м, 4-м, 17-м и 24 и четырьмя отдельными фронтовыми танковыми бригадами – 14-й, 170-й, 115-й, 116-й. Поэтому, несмотря на неблагоприятно складывающуюся обстановку на учаске 40-й армии, Парсегов в разговорах со своими подчинёнными продолжал выражать уверенность в том, что немцы при прорыве скоро исчерпают свои силы.
Генерал-лейтенант артиллерии Парсегов знал, что о каждом его действии Верховному главнокомандующему немедленно становится известно от присутствовавших в штабе Брянского фронта начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенанта Федоренко и члена Военного совета ВВС РККА армейского комиссара 2-го ранга Степанова. Из генерального штаба Парсегов был немедленно уведомлен о телефонограмме генерал-лейтенанта Голикова, направленной 28 июня на имя Сталина, в которой Голиков утверждал, что не может добиться от командующего 40-й армией эффективной координации действий обороняющихся частей. Якобы, дивизии 40-й были предоставлены сами себе и никакого общего плана не придерживались. Но несмотря на это Парсегов был уверен, что Сталин по-прежнему ему благоволит.
Микаел Артемьевич Парсегов всегда считал, что верно выбрал профессию. Сын карабахского гончара, он сразу после революции вступил в Красную армию, и с того времени его жизнь была связана с военной службой. Прежде чем стать командармом, он прошёл все этапы военной карьеры, а в 1940 году в ходе Зимней войны с Финляндией, за то, что находившаяся под его командованием артиллерия 7-й армии успешно действовала при прорыве «линия Маннергейма», он был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако уже в начале войны с Германией, в 1941 году генерал-лейтенант Парсегов, командуя артиллерией Юго-Западного фронта, неожиданно для себя вдруг стал испытывать трудности в вопросах оперативного планирования. Ранее, на советско–финском фронте, достаточно было обеспечивать знание подчинёнными правил артиллерийской разведки, уничтожения дотов и обхода минных полей – но война с немцами, маневренная, с часто меняющейся обстановкой, да ещё ведущаяся при постоянном количественном и техническом превосходстве противника, требовала от военачальника не только умений, но и особых способностей. Даже артиллерии в этих условиях приходилось, порой, примерять на себя тактику пехоты, участвовать в засадах, обходных маневрах, или двигаться вместе пехотинцами во время атак.
С большим трудом Парсегов смог приноровиться к этой новой, «механизированной» войне. Будучи хорошим специалистом по организации массированного применения артиллерийского огня, он успешно обеспечивал действия войск Юго-Западного фронта. Но когда в марте 1942 года Сталин решил назначить его командующим 40-й армией, Парсегов едва удержался от того, чтобы взять самоотвод. Побеседовав несколько раз с командующим Брянским фронтом Голиковым, побывав на совещаниях штаба фронта, Парсегов понял, что не ухватывает все тонкие ходы управления войсками, понятные другим военачальникам. Тогда он стал попросту домысливать упущенные им на совещаниях посылы, что стало для него удобным способом сохранить самоуважение.
Когда в 14 часов 28 июня во время немецкого авианалёта на Ефросимовку несколько бомб взорвались недалеко от здания штаба 40-й армии, уверенность снова начала Парсегова покидать. Чтобы обезопасить штаб, он приказал немедленно перебазировать его на 17 километров к востоку, в село Быково. Это значительно снизило оперативность получения информации с линии фронта, так как из-за слишком большого расстояния до передовой затруднительно было посылать в дивизии штабных офицеров для изучения ситуации на месте, а нужно было принимал решения на основании сообщений, поступавших от командиров частей по радиосвязи.
Из-за этого запоздал приказ Парсегова об отправке 16-го танкового корпуса к реке Кшень, на участок севернее 14-й танковой бригады. Поэтому вышедшие на рассвете 29 июня к селу Волово бригады 16-го корпуса не имели времени оборудовать свои позиции должным образом, что дало дополнительные преимущества противостоящей корпусу, сравнимой с ним по численности 11-й немецкой танковой дивизии.
Ситуацию для советских войск, обороняющихся у реки Кшень, несколько улучшила непогода – с утра 29 июня шёл сильный ливень, благодаря чему немецкие танки не смогли сходу преодолеть неширокую реку, у которой от дождя раскисли глинистые берега. Также дождь исключил на время авиационную поддержку наступавших немецких частей. В результате, 16-й танковый корпус, 14-я танковая бригада и 119-я отдельная стрелковая бригада сумели, ведя огонь из укрытий, не допустить переправу передовых отрядов противника через реку.
Однако положение сражавшейся южнее 6-я стрелковой дивизии было критическим. На неё наступала мощная 24-я немецкая танковая дивизия, к которой постоянно подходили подкрепления. Командир 6-й дивизии генерал-майор Гришин доложил Парсегову по радиосвязи, что дивизия с трудом обороняется против очень большой группы танков и мотопехоты, прорвавшей через позиции 160 стрелковой дивизии. Но просьбу отправить в поддержку 6-й дивизии 115-ю и 116-ю танковую бригаду Парсегов отклонил, заявив Гришину, что тот попросту паникует. Это очень скоро привело к тяжёлым последствиям и для обороняющихся частей, и лично для командующего 40-й армией.
К полудню дождь закончился, и на позиции советских войск снова налетели немецкие бомбардировщики. Сразу же был накрыт бомбовыми ударами бронепоезд «Бесстрашный», поддерживающий огнём 14-ю танковую бригаду. Одна из бомб разорвалась на зенитной площадке паровозной группы. Осколками был убит кочегар Ляликов, тяжело ранены орудийный мастер Иванов и сержант Верясов. Но команда бронепоезда не снизила интенсивность зенитного огня, и вражеские самолёты были отогнаны.
Также огонь из всех видов оружия вели по самолётам и другие сражавшиеся у Кшени советские части. Особенно удачно действовали зенитчики 119-й стрелковой бригады, сбившие 4 бомбардировщика. И всё же активная авиаподдержка позволила противнику возобновить попытки форсирования реки во второй половине дня, когда берега Кшени просохли на Солнце.
В течение дня в результате боя на широком оборонительном участке 16-го танкового корпуса, его танкисты и артиллеристы, а также расчеты противотанковых ружей его 15-й мотострелковой бригады ценой больших потерь сумели остановить противника, подбив около 40 немецких танков. При этом корпус потерял до 15 % танков, а в его мотострелковой бригаде было выбито половина личного состава.
Также серьёзные потери понесла 14-я танковая бригада, сумевшая снова отбросить противостоящую ей танковую группу противника.
С трудом устояла 119-я бригада, которую атаковала большая группа пехоты, поддерживаемая 10 танками. Здесь немцы попытались применить изуверскую тактику, погнав впереди танков группу женщин и детей – жителей ближайшей деревни. Когда впереди показались советские позиции, группа начала разбегаться. Тогда из танков по людям в упор открыли огонь из пулемётов.
На участке 6-й стрелковой дивизии в середине дня группа из 100 немецких танков 24-й немецкой танковой дивизии прорвала оборону и стремительно двинулась вдоль трассы, ведущей к селу Быково, где теперь находился штаб 40-й армии. По роковой случайности, в это время радиосвязь 6-й дивизии со штабом армии была нарушена, из-за чего там не подозревали о надвигающейся опасности.
В штабе 40-й армии с момента прибытия в Быково из Ефросимовки шла напряжённая работа. Бегали по коридорам здания сотрудники с картами и схемами, звенели сигналы вызовов на аппаратах связи, в помещениях диктовались документы и стучали пишущие машинки, руководители отделов отдавали распоряжения. Но основная работа шла, конечно, в кабинете командующего. Лишь ненадолго прерываясь на сон, Парсегов, его начальник штаба генерал-майор Рогозный и члены Военного совета армии, контролировали с помощью ежечасно обновляемых оперативных карт ситуацию на линии фронта.
Парсегов, несмотря на приходившие с передовой тревожные сообщения, продолжал придерживаться мнения, что немцы, понёсшие 28 июня большие потери, должны были скоро утратить ударную мощь, и что его 40-я армия сумеет не только остановить противника, но и провести успешные контрудары. Поэтому, когда днём 29-го, наконец, прекратился ливший с утра дождь, Парсегов начал время от времени выходить из здания штаба на прогулки, демонстрируя офицерам штаба своё спокойствие. Во время этих прогулок он заводил разговоры с солдатами комендантского взвода, спрашивал их о том, как им служится, что пишут из дома – и одобрительно кивал, когда солдаты говорили, что у них всё хорошо. Если же кто-то вдруг начинал рассказывать о чём-то грустном, командарм просто хлопал солдата по плечу и шёл по улице дальше, бездумно любуясь зеленью деревьев в палисадниках.
Парсегов был добрым человеком и заслуженным командиром – он был глубоко убеждён, что этого было достаточно, чтобы всегда привлекать к себе удачу.
Около 17 часов 29 июня немецкие танки и мотопехота были замечены вблизи западной окраины Быково. Несмотря на внезапность появления противника, стоявшая у села батарея «сорокопяток» сразу же подожгла один из пяти немецких танков передового отряда. Не дожидаясь подкрепления, оставшиеся четыре танка быстро развернулись и понеслись на батарею, стреляя на ходу. За танками на небольшом расстоянии ехали бронетранспортёры с пехотой.
Второй немецкий залп накрыл батарею. Было уничтожего одно орудие вместе с расчётом. Сразу же с позиций побежали несколько новобранцев.
–Стойте! Куда, подлецы? – крикнул им из траншеи их комбат, размахивая пистолетом. Но стрелять вслед паникёрам не стал.
В этот момент немецкий снаряд угодил во второе орудие, которое от удара взлетело на три метра, перевернувшись в воздухе. Но тут же два оставшихся орудия подбили ещё один танк. После этого три немецких танка начали сдавать назад.
Благодаря мужеству артиллеристов, до подхода основных сил немецкой танковой группы бой прекратился, что позволило работникам штаба спешно загрузить машины имуществом и документами и вывести колонну из села на восток. При этом многие оперативные документы были оставлены в штабе.
Бледный от ярости Парсегов всё медлил садиться в свою машину, едва удерживаясь от того, чтобы не броситься на западную окраину села к батарее. Он знал, что едва прикоснувшись к орудию, участвуя в реальном бою, он сразу же обретёт уверенность и спокойствие. Но он отвечал за огромное количество людей и потому понимал, что теперь не имеет право воевать как простой солдат, как бы этого ему не хотелось.