Тысячелетнее царство: Христианская культура средневековой Европы
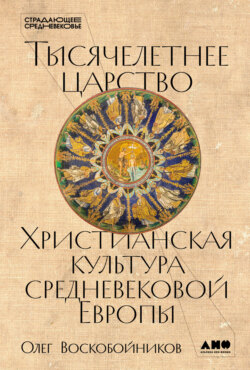
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Олег Воскобойников. Тысячелетнее царство: Христианская культура средневековой Европы
Предисловие
Средневековье: Образ культуры и культура образа
Христианство и культура
Средневековый человек?
Время и место
Истоки: Священное писание и его читатели
Откровение сокровенного и языческая религиозность поздней античности
Между небом и землей. Христианская антропология и особенности раннего христианского искусства
Эпоха отцов
Символическое мировоззрение и его парадоксы
Презрение к миру и красота творения
Праздное и непраздное любопытство
Человек на земле
Апокалипсис сегодня
Небесная бухгалтерия
Новый «шестоднев»
Астрология и эффективное воображение
Свобода и правда в средневековом искусстве
Копии, цитаты и риторика образа
Неуместность пространства
Споры о соборе
Заключение
Библиография
Отрывок из книги
Первую версию «Тысячелетнего царства» я опубликовал десять лет назад. Генетически она восходит к моим университетским конспектам середины 1990-х гг. Тогда я учился в МГУ на кафедре истории Средних веков, слушал лекции М. А. Бойцова, А. Я. Гуревича, Г. Г. Майорова, Г. К. Косикова, О. С. Поповой, А. А. Сванидзе, О. И. Варьяш, Л. М. Брагиной, С. П. Карпова и других замечательных педагогов. Едва ли не половины из них уже нет с нами. На рубеже тысячелетий я поехал в Париж и учился там в Высшей школе социальных наук (EHESS) в группе исторической антропологии, созданной Жаком Ле Гоффом. За несколько лет в моей жизни возник парижский круг общения – как с живыми классиками, так и с такими же начинающими медиевистами, как я, многие из которых теперь сами ходят в профессорах на трех континентах. Двадцать пять лет я провел, преподавая сначала на родной кафедре в МГУ, потом, до совсем недавнего времени, в Высшей школе экономики. Всем трем моим университетам, учителям, коллегам, друзьям я многим обязан, обязана и лежащая сейчас перед читателем книга.
Нас с самого начала учили концентрироваться на малом. Любое обобщение позволялось лишь в рамках введения какого-то конкретного события, текста или образа в исторический контекст. К счастью, как я сейчас понимаю, никому из моих учителей не приходило в голову давать мне задание написать эссе, скажем, о Крестовых походах, немецком романтизме или древнерусской живописи XV в. Из нас растили эмпириков, и всякую мысль мы должны были подкреплять, во-первых, историческим источником, во-вторых, мнениями исследователей, которые высказывались по поводу заинтересовавшего нас текста или изображения. Эта исследовательская матрица проста и понятна, более того, она ничем не отличается от французской научной модели, с которой я познакомился в Париже, а потом в лондонском Институте Варбурга. Четвертое (и, видимо, последнее) поколение «Анналов» – Жан-Клод Шмитт, Мишель Пастуро, Жером Баше – в университетских классах оказались такими же «занудами», как мои московские учителя. Мы медленно читали и комментировали латинские тексты, так же медленно описывали и анализировали памятники средневекового искусства.
.....
Трудно себе представить, что в XIII в. все жители, скажем, славного французского города Шартра, входя во вновь отстроенный после пожара собор, смотрели на его огромные витражи и понимали их одинаково. Одни и те же образы понимались их заказчиками, творцами и зрителями совершенно по-разному. Точно так же, слушая «Песнь о Нибелунгах», в целом популярную, монах из Южной Германии, где «Песнь» сложилась, или любой другой клирик того же XIII столетия испытывал не те же чувства, что его современник из рыцарского сословия. Крестьянин же вообще вряд ли понял бы, зачем обо всем этом рассказывать, – у него хватало забот. Действительно ли Средневековье стремилось к некоему «синтезу», как это представлялось некоторым историкам сто лет назад?
Поставим вопрос прямо: существовал ли вообще средневековый человек? Или следует говорить отдельно о мировоззрении средневекового купца, клирика, рыцаря, горожанина, короля, нищего, монаха, пахаря, папы римского, императора? Мы увидим, сколь непроходимая пропасть могла разделять их мнения по одному и тому же вопросу. Но ситуация мало изменилась: возможна ли история современного европейца? Или современного россиянина? Средневековое общество, как и всякое другое, было обществом неравенства, и, в отличие от нашего, у него не было таких более или менее действенных культурно уравнивающих средств, как интернет, цензура или система обязательного образования. В этом обществе можно было найти лишь одну «амфибию»: это святой[15].
.....