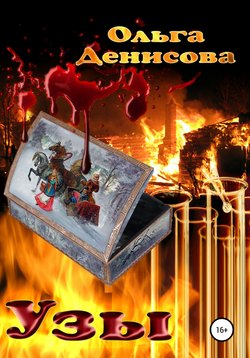Читать книгу Узы - Ольга Леонардовна Денисова - Страница 1
ОглавлениеЭтот человек убивал ее. Медленно, каждый день. И непонятно было, что он ищет, зачем копается в далеком прошлом, какую нить хочет нащупать. Но… это темный человек, и цели его черны, как зев ядовитого гада.
Она для него лишь инструмент, который не нужно беречь, который можно будет выбросить за ненадобностью, когда работа закончится. Личная машина времени, медиум в собственности…
Что стоит показать медиуму вероятное будущее? И восковая куколка на подставке обернется маленькой девочкой, а тонкая булавка – ледяной сосулькой, пробивающей ее тело сверху донизу. Какая мать не защитит свое дитя, пусть и ценой собственной жизни?
Полутемная комната, задернуты бордовые шторы, вышитые золотыми нитями, сквозь которые сочится густой темно-красный свет. Кровь. Этот человек каждый день приносит кровь в тонких пробирках: достаточно соприкосновения одной капли с кровью медиума, чтобы получить точный слепок памяти этой крови, памяти рода…
– На этот раз должно получиться, – сказал он и в нетерпении щелкнул пальцами.
– Я не могу брать на себя столько… жизней! Эти люди – они становятся моими кровными братьями и сестрами! Я несу на себе все их проклятья!
– Какие проклятья? – Он сморщил лицо. – Работай. У тебя есть стимул. Найдешь то, что мне нужно, и ты свободна и твое дитя невредимо.
– Я должна знать, что ищу.
– Необязательно. Ищи ответ на вопрос: у кого? Ты увидишь, я знаю. Давай, не ленись.
Хотелось плакать. Никто не поможет ни войти в транс, ни восстановить силы после транса, – потому что силы на черные дела дают черным людям. Когда все внутри дрожит от усталости, когда выжаты все соки, когда непомерный груз висит на шее – как начать? Самое трудное – это начать, потом будет легче.
Ярко-алая капелька упала в крохотный разрез на запястье, вливая в кровь память еще одного рода, слезы побежали по щекам на подбородок, и нельзя было сморгнуть, чтобы не потекла тушь.
– Готова? – нетерпеливо спросил темный человек, усевшись в кресло за спиной. – Я начинаю счет.
– Сразу счет?
– А что? Поиграем в игру: руки тяжелые – ноги тяжелые? – Он осклабился – не нужно было смотреть на него, чтобы это увидеть. – Или ты не умеешь быстро расслабляться?
– Я… умею.
Никакой надежды на отсрочку. Идти по чужой памяти, отступая назад поколение за поколением… Ловить призрачные видения, разглядывать бытовые подробности – этот человек всегда контролирует, не путаются ли истинные воспоминания с фантазией, не работает ли воображение вместо способности видеть прошлое. И счет уже закончен, и густой липкий свет летит навстречу, свивается мутными колтунами, взгляд теряет фокус – транс наступает быстро, привычно, но что он после себя оставит?
Темный человек расставляет знаки мелом на полу.
– Вправо или влево? Не думай, не смей думать! Шагай туда, куда тебе хочется шагнуть, слушай себя внимательней! Мать или отец?
Слушай себя… Легко сказать! Если не хочется шагать никуда: ни вправо, ни влево. Но пусть этот человек уже найдет то, что ищет! Пусть этот транс будет последним! Ну же? Ну? Куда? Вправо или влево?
Густой свет надавил на грудь, подтолкнул назад и вправо. Шаг дался легко, спокойно, а значит, это правильный выбор.
– Хорошо. – Новый знак на полу. – Как ты себя чувствуешь?
– Никак.
– Видишь что-нибудь?
– Телесериал. Я сижу в кресле перед телевизором. Плед на ногах…
Он не дал договорить:
– Уходи в прошлое, ищи родителей.
Это близко, это не так тяжело… Разглядишь родителей – сможешь шагнуть на поколение назад. Глубже, глубже в чужую память.
– У меня белый фартук и новенький пионерский галстук. Косички тугие, неудобные. Я бегу по лестнице через ступеньку. Это старый дом, широкая лестница, перила витые, очень красивые. Дверь покрашена в красно-коричневый цвет, шесть… нет, восемь звонков с надписями. У меня свой ключ, большой и тяжелый. Длинный широкий коридор, комнаты вдоль по одной его стороне. Наша – третья от двери. В кухне что-то громко шипит, пахнет горелым. Дверь в комнату филенчатая, серо-голубая. Папа в комнате, он одет в костюм и немного навеселе…
– Стоп. Шаг назад.
Шаг назад – это еще одно поколение. Свет изменился неуловимо, шум большого города ударил в уши – непрерывные автомобильные гудки, гомон толпы, стук каблуков…
– Кто ты?
– Мужчина. Мне чуть больше двадцати.
– Чего ты хочешь?
– Всего!
– Я имел в виду, чего ты хочешь добиться.
– Всего!
– А конкретней?
– Славы! Известности!
– Уходи в его детство.
Предрассветные сумерки посеребрили росу на высоких стеблях, заблестела вода в Волге, погас костер. В тумане пасутся спутанные кони. Небо со всех сторон, небо и туман. Тишина такая, что слышно, как струится вода меж берегов. Лошади иногда всхрапывают, да посапывают уснувшие вокруг костра ребятишки…
– Не надо ребятишек. Ищи, где его отец и мать.
Окрик грубо ворвался в счастливое воспоминание, туманный рассвет заволокло черным дымом, а запахи травы и реки перебил запах гари.
Языки пламени рвутся в окна, хотят дотянуться до перепуганных детей, сбившихся в кучку возле наспех вынесенных вещей. Мычит корова, вторя вою матери, мычит рядом с матерью глухонемая Дунька; Орлик бьется в конюшне, не дается отцу – боится идти сквозь горящие двери. Кудахчут куры, носятся по двору сломя голову. Воду льют теперь только с подветренной стороны, чтобы огонь не пошел дальше, – дом уже не спасти.
– Сколько детей? Сколько всего братьев и сестер?
– Я не вижу. Много. Стоят маленькие только, старшие воду носят… Отец выводит лошадь. Он очень высокий, черноволосый, кудрявый. И конь огромный, богатырский конь…
– Дура, мальчик-то маленький совсем, потому и отец очень высокий, и конь богатырский. Шаг назад.
Раскисшая дорога вдоль оврага, в левой руке вожжи, в правой – кнут. Орлик не торопится, чавкает по грязи; грохочет телега, поскрипывает. Лес впереди. Накрапывает дождь, небо затянуто серенькими, совсем осенними тучами: кончилось лето, и листья на деревьях желтеют потихоньку. Не хочется ехать к мельнику, а надо.
Лес сырой, неуютный. Дрожит осинка на опушке, трепещет листочками. Орлик останавливается на повороте, перед глубокой лужей. А в луже тоже осинка трепещет и тучи бегут, клубятся, то серые, то совсем черные. Приходится слезать с телеги и вести Орлика в поводу: конец проезжей дороге, теперь не завязнуть бы… И видна уже из-за леса мельница – машет посреди поля руками-крыльями.
– Все ясно с мельниками и Орликами. Погляди на самое значимое событие в его жизни.
– Свадьба. Лето, стол во дворе, яблоки… Невеста мелковата и худовата, но глаза черные, жгучие, глянет – мороз по коже.
– Какая скука… Оглядись, на свадьбе родственников много. На кого твой глаз ляжет?
– Бабушка! Очень полная женщина, лицо припухшее, в складках, щеки висят – почки, может, нездоровые. Платье ситцевое.
– Не может быть на ней ситцевого платья.
– Ситцевое, бежевое, в мелкий цветочек.
– А на голове что?
– Это не платье, это сарафан. На голове платок. Пестрый.
– Ладно. Два шага назад. Посмотрим, что за бабушка…
Августовское солнце и вечером припекает, хорошо сидеть на завалинке, греть старые кости… Поле золотится, переливается волнами под легким ветерком (на нем еще нет мельницы, но это то же самое поле). За ним чернеет лес, бежит мимо завалинки дорога в барскую усадьбу. Дорога идет в обход леса, но пройти в усадьбу можно и коротким путем, по тропинке, только надо перебраться через овраг, будь он неладен…
Хорошо прижаться спиной к черным, пропитанным дегтем бревнам – теплые они. Вот только завалинка узковата стала, как вторая доска прогнила и отвалилась. Максимушка обещал поправить, да так и не поправил: у чужих людей плотничает, а к матери все недосуг заехать. Старый дом, совсем врос в землю, торцы бревен крошатся. Дверь в сени так перекосилась, что перед входом теперь яма. А в сенях пол земляной, осенью дожди зарядят – не войти будет в дом.
– Это не деревенский дом. И вокруг нет никого, он на отшибе стоит, километра полтора до деревни.
– Так, так, давай, посмотри хорошенько. Что за дом?
– Низкий, в длину вытянут. Черный. Вместо крыльца – что-то вроде будки из досок. Пол земляной. Две комнаты. Первая – мастерская. Печь стоит в дальней комнате, небольшая печь, беленая, топится по-черному: нет трубы, есть дымоход в потолке. Стол в дальнем углу, над ним красный угол. Столешница толстенная, сантиметров пять толщиной…
– Хватит. Откуда взялся этот дом?
– Я не знаю.
– Где ее муж?
– Муж? Сейчас. Сейчас-сейчас… Ой, какая она была красавица! А муж – плюгавый такой мужичонка, светло-русый, кудрявый. Он умер.
– Как он умер?
Деревянный гроб на столе посреди комнаты. Красивый гроб. Максимушка хоть и учился у отца плотничать, а к столярному делу тоже способности имеет – крест вырезал на крышке. Стоят дети над гробом, все трое – Максимушка, Петруша и Танечка. Жалеют ли отца? Ведь долго помирал, плохо, намучил всех.
– От чего он умер? Смотри как следует.
Апрельский день, пасмурно. Снег давно сошел, а весны и не чувствуется вовсе, словно осень вокруг. Трава желтая, жухлая, деревья черные – ни листочка, ни травинки не проклюнулось. Митяйка в усадьбу идет, там всегда плотнику работа найдется. Навстречу ему, незваный-непрошеный, поп Филька из Подвязья. До чего же жирен: телеса под рясой колыхаются, грудь как у бабы на пузо свисает. Митяйка перед ним что мышонок против кота. Как попа увидел – аж присел с перепугу.
– Почему он испугался? Ну? Смотри, это важно. Почему это поп его вдруг напугал?
– Не знаю… А, это примета плохая – попа встретить. Особенно для плотника. Очень плохая, хуже, чем баба с пустым ведром. Смертью грозит или увечьем.
– Что он сделал дальше? Мужичок, не поп.
Митяйка с попом раскланялся, бочком его обошел и шмыгнул в лес, на тропинку. Лоб вспотел, и во рту пересохло. Через овраг (будь он неладен) перебирался и не стерпел: зачерпнул воды пригоршней, лицо вытер да хлебнул несколько глотков. Вода-то весенняя, мутная, из лесу течет… Ее, может, много кто пил, и ничего, а Митяйке вот не повезло…
– Понятно… Погляди, что поп дальше делал.
– Здравия тебе, матушка, – Филька пригнулся под притолоку и приподнял рясу на пороге.
– И тебе не болеть, отец Филимон… – она недовольно сложила губы.
– Что-то ты мне и не рада.
– А с чего мне радоваться? Поджидал, что ли, когда Митяйка уйдет? Так сейчас дети вернутся. Ничего у тебя, батюшка, не выйдет.
– Злая ты, Семеновна. Неласковая, – лицо его расплылось в плотоядной улыбке.
– Смотри, я и приласкаться могу. Не боишься?
Филька, подобрав рясу, расселся на скамейке возле Митяйкиного верстака, закинул ногу на ногу и локоть на верстаке разложил, ни дать ни взять – как у себя дома.
– А я, может, погадать к тебе пришел. Мне тут сон давеча приснился, будто захожу я в храм, а там собака перед Царскими вратами сидит и на меня щерится. Паршивая, знаешь, такая собака, шелудивая, шерсть клочьями, а с пасти слюна капает.
– Грех это, батюшка, к ворожейке ходить сны разгадывать. Ты у Богородицы спроси, ей виднее, что собака в Божьем храме делала и почему от тебя Престол охраняла. Может, не достоин ты к Царским вратам приближаться, потому что грешишь похуже шелудивого пса.
– Не согрешишь – не покаешься, – расхохотался Филька. – И не псу шелудивому моими грехами ведать.
– Все ясно с попом. Погляди, откуда взялся дом. Почему родители мужа жили на отшибе?
– Это ее дом, не мужа. Она одна жила в доме до свадьбы.
– Как так одна? А родители, братья, сестры?
– Родители были. Они умерли. Ей было лет тринадцать. Не было ни братьев, ни сестер. Она единственная дочь.
– Так… Почему они построили дом на отшибе?
– Они его не строили. Они пришли и заняли его, он пустовал.
– Откуда они пришли?
– Я не знаю.
– От чего они умерли?
– Я… не вижу… Они просто умерли. Оба. Заснули и не проснулись.
– Да ну? Так не бывает.
– Они угорели.
– Это уже лучше. А девочка? Почему не угорела девочка?
– Она… Она рада, что они умерли. Она хотела остаться одна…
– Погляди, что это за люди.
По спине бегут мурашки, холодком веет с пола, густой свет сочится сквозь шторы и душит, душит…
– Это… темные люди.
– Что значит «темные»?
– Я их не вижу. На их месте черные силуэты. Их боялись в деревне, девочка не играла с другими детьми… Она называет их «эти».
Сказать ему, этому темному человеку, что значит «темные»? Объяснить, что их помыслы черны, что они – такие же, как он?
– Они очень набожны, но в церковь ходят редко. Не староверы, нет. И не сектанты. Их набожность какая-то неправильная. Верней… непростая.
– Что значит «непростая»?
– Я бы сказала, она идет не от сердца, а от ума.
– Так… – мел скрипит по полу. – Давай еще один шаг назад. Погляди, что это за «темные люди».
Ноги затекли, и хочется сделать этот шаг только для того, чтобы пошевелиться.
– Я ничего не чувствую! Я ничего не вижу! – Чужая память исчезает, нити обрываются, тянет вперед и вверх – в будущее, в реальность, – словно пузырь из тяжелой толщи болота. – Это не ее родители!
– Я так и думал. Можешь на них больше не смотреть, я и без тебя все про них знаю. Шагай обратно. И смотри в ее детство, совсем раннее.
Равновесие постепенно возвращается, поток чужой памяти (чужой крови в венах) несется в прошлое. Он все про них знает… Не потому ли, что он такой же, как они? Не потому ли, что «эти» – родная ему черная кровь?
– Она родилась в бане. Женщина, очень красивая, очень. Это первые ее роды, но она рожает легко. Ей не так мало лет – больше двадцати… Она рада, что родилась девочка. Она хотела именно девочку.
– А муж? У нее есть муж?
– Я не вижу. Я не знаю. Образ этой женщины очень светлый, чистый. Она словно святая. Она умрет скоро. Через два года.
Скрипит мелок…
– Шаг назад и вправо.
– Да, у нее есть муж. Девочка была зачата в этой же бане. Он… Ой, это что-то не то…