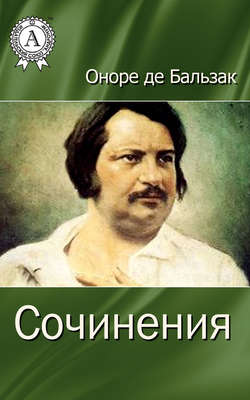Читать книгу Сочинения - Оноре де'Бальзак - Страница 1
Пьер Грассу
ОглавлениеВсякий раз, как вы серьезно отправляетесь на выставку произведений скульптуры и живописи, как она устраивается начиная с революции 1830, то не испытываете ли вы чувства беспокойства, скуки, тоски, при виде длинных, сплошь заставленных галерей? С 1830 г., салон уже не существует. Лувр был вторично взят толпой художников, которые там и удержались. Некогда, допуская только избранные произведения искусства, салон приносил величайшую честь созданиям в нем выставленным. Между двумястами избранных картин, публика делала свой выбор, венок присуждался лучшему произведению неведомыми руками. По поводу картин поднимались страстные споры. Брань, расточившаяся Делакруа, Энгру, столь же способствовала их известности, как и хвалы, и фанатизм их приверженцев. Теперь ни толпа, ни критика не относятся страстно к продуктам этого базара. Они принуждены сами делать тот выбор, который прежде был на обязанности экзаменационного жюри; их внимание утомляется этой работой, а когда она окончена, выставка уже закрыта. До 1817 принятые картины никогда не заходили дальше двух первых колонн длинной галереи, где помещены работы старинных мастеров, а в этом году они заняли все это пространство к великому удивлению публики. Историческая живопись, так называемый жанр, маленькие картины, пейзаж, живопись цветов и животных и акварель, эти восемь специальностей не могут дать более как по двадцати картин, достойных взоров публики, которая не в состоянии обратить внимание на большее количество произведений. Чем сильнее увеличивалось число артистов, тем разборчивее должна была бы становиться приемная комиссия. Все погибло с тех пор, как салон разросся до галереи. Салон должен бы остаться в определенном, ограниченном, с неумолимыми границами пространстве, где всякий род и выставлял бы свои лучшие произведения. Десятилетний опыт доказал пригодность прежнего устройства. Вместо турнира теперь свалка; вместо блестящей выставки шумный базар; вместо избранного – все. Что же проистекает из этого? Большие артисты там теряются, Турецкая кофейня, Деши у фонтана, Пытка крючьями и Иосиф. Декана более бы способствовали его славе, будь они выставлены все четыре в большом салоне вместе со ста хорошими картинами того года, – чем его двадцать картин, затерянных между тремя тысячами других, скученных в шести галереях. Странно, что именно с тех пор, как дверь открыта для всех, сильно заговорили о непризнанных гениях. Когда двенадцать лет раньше, Куртизанка Энгра и такая же картина Сигалона, Медуза Жерико, Сциоския убийства Делакруа, Крестины Генриха IV Евгения Девериа будучи приняты знаменитостями, обвиняемыми в зависти, доказали существование молодых и пылких художников, то не подымалось никаких жалоб. Теперь же, когда ничтожнейший пачкун может выставить свою картину, только и толку что о непонятых художниках! Там, где нет суждения, нет и обсуждаемого предмета. Что бы ни делали художники, а они возвратятся к комиссии, которая станет рекомендовать их произведения вниманию толпы, ради которой они работают. Без выбора академии, не будет салона, а без салона может погибнуть искусство.
С тех пор, как каталог превратился в толстую книгу, в него попадает много имен, остающихся неизвестными, несмотря на список десяти или двенадцати сопровождающих их картин. Между этими именами самое неизвестное, быть может, имя художника Пьера Грассу, уроженца Фужера, которого в артистическом мире зовут просто Фужер; ныне он человек заметный и внушает те горькие размышления, которыми начинается очерк его жизни, равно приложимый к некоторым другим индивидуумам из породы артистов. В 1832 г., Фужер жил на Наваринской улице, на пятом этаже одного из тех узких и высоких домов, которые напоминают Луксорский обелиск; в таких домах есть аллея и узкая темная лестница с опасными поворотами; на каждом этаже полагается не более трех окон, а внутри имеется двор, или говоря точнее, квадратный колодезь. Над тремя или четырьмя комнатами, из которых состояла квартира Грассу из Фужера, находилась его мастерская, смотревшая на Монмартр. Окрашенная в кирпичный цвет мастерская, тщательно выкрашенный коричневой краской и натертый пол, маленький вышитый коврик у каждого стула, канапе, впрочем, простое, но чистое, как те, что стоят в спальнях жен овощных торговцев, все там обличало робкую жизнь мелочного человека и расчетливость бедняка. Тут стоял комод для разных принадлежностей мастерской, стол для завтрака, буфет, конторка, наконец, необходимые для живописи снаряды, и все содержалось в чистоте и порядке. Голландская печка оказывала услугу огромной мастерской, тем более заметную, что чистое и ровное освещение с северной стороны наполняло ее ясным и холодным светом. Фужер, простой жанрист, не нуждался в огромных приспособлениях, которые разоряют исторических живописцев; он никогда не чувствовал в себе на столько сил, чтобы пуститься в высокую область живописи и держался маленьких картинок. В начале декабря этого года, время когда парижским буржуа периодически приходит в голову шутовская мысль увековечивать свой и без того громоздкий образ, Пьер Грассу, встав рано, приготовил палитру, затопил печку, съел длинный сухарь с молоком, и ждал, чтобы начать работу, пока окна оттают и станут пропускать свет. День был сухой и ясный. В эту минуту, артист, завтракавший с тем покорным и терпеливым видом, который говорит о многом, услышал шаги человека, имевшего на его жизнь то влияние, какое подобного рода люди имеют почти на всех артистов, шаги Илии Магуса, торговца картинами, ростовщика под залог картин. Действительно, Илия Магус вошел в то мгновение, когда художник хотел приняться за работу в своей необыкновенно чистой мастерской.
– Как поживаете, старый плут? – сказал живописец.
У Фужера был крест, Илия платил ему по двести и по триста франков за картину, и он вел себя с ним совсем по-художнически.
– Торговля плоха, – отвечал Илия. – У всех у вас теперь такие претензии; чуть истратите на шесть су красок, сейчас требуете двести франков за картину… Но вы честный малый! Вы любите во всем порядок, и я пришел предложить вам хорошее дело.
– Timeo Danaos etdona ferentes, – сказал Фужер. – Вы знаете по латыни?
– Нет.
– Ну, так это значит, что греки не предлагают троянам хороших дел без выгоды для себя. Некогда они говорили: «возьмите моего коня! A теперь мы говорим: «возьмите мою вещь…» Чего же вы хотите Улисс-Илия-Магус?
Эти слова показывают на меру кротости и остроумия, с которыми Фужер прибегал к тому, что художники зовут школьничеством мастерских.
– Я не говорю, что вы не нарисуете мне даром двух картинок.
– О, о!
– Я их не требую, и предоставляю это на ваше благоусмотрение. Вы честный артист.
– В чем дело?
– Ну, я сейчас вам приведу отца, мать и единственную дочь.
– Все единственные!
– Пожалуй, да… и требуется написать их портреты. Эти буржуа обожают искусство и доселе не отваживались войти ни в одну мастерскую. За дочкой сто тысяч франков приданого. Вы можете их отлично написать. Быть может, для вас они станут семейными портретами.
И старый деревянный немец, слывший за человека и называвшийся Илией Магусом, разразился тут сухим смехом, ужаснувшим художника. Ему показалось, будто он слышит, как Мефистофель говорит о женитьбе.
– За портреты заплатят по пятьсот франков за штуку; право, можно написать мне три картинки.
– Конечно, – весело сказал Фужер.
– A если женитесь на дочке, то меня не забудете.
– Мне, жениться? – вскричал Пьер Грассу, – да я привык спать один, вставать рано и у меня все в порядке.
– Сто тысяч франков, – сказал Магус, – и девица нежная с золотистыми тонами, точно настоящий Тициан.
– A что это за люди?
– Бывший торговец; теперь же любитель искусств, владелец дачи в Вилль д'Авре, и от десяти до двенадцати тысяч дохода.
– A чем торговал?
– Бутылками.
– Молчите, мне кажется, я слышу, как режут пробки, и у меня зубы скрежещут.
– Приводить?
– Три портрета, я их выставлю, и могу заняться портретной живописью… хорошо, приводите.
Старый Илия отправился за семьей Вервеллей. Чтоб понять какое действие возымело на живописца это предложение, и какое впечатление долженствовали произвести на него сер и дама Вервелли в сопровождении единственной дочки, необходимо бросить взгляд на предыдущую жизнь Пьера Грассу из Фужера.
Фужер изучал рисунок у Сервена, который в академическом кружке считался великим рисовальщиком. От него он перешел к Шинне, чтоб постигнуть тайну великолепного и сильного колорита, свойственного этому мастеру. И учитель, и ученики там были скромны, и Пьер там ничего не перенял. Оттуда Фужер перешел в мастерскую Соммервье, чтоб ознакомиться с той частью искусства, которая зовется композицией, но композиция оказалась к нему немилостивой. Затем он пытался вырвать у Гранэ, Дешана тайну их эффектов в изображении домашних сцен. И у этих мастеров ему ничего не удалось похитить. Наконец Фужер окончил свое образование у Дюваль-Лакомю. В течение этого обучения и различных преображений, Фужер вел себя скромно и тихо, – что давало повод в насмешкам в различных мастерских, где он работал; но всюду он обезоруживал товарищей своей скромностью, терпением и кротостью агнца. Профессора не питали никакого сочувствия к этому честному малому; профессора любят юношей блестящих, умы эксцентрические, шутливые, запальчивые, или мрачные и глубоко вдумчивые, которые говорят о будущем таланте. В Фужере все возвещало посредственность. Его прозвище Фужер, тоже что у живописца в пьесе Эглантина, было источником тысячи оскорблений; но в силу обстоятельств он назвался по городу, где увидел свет.
Грассу из Фужера походил на свое имя. Толстенький и среднего роста, с поблекшим цветом лица, он обладал карими глазами, черными волосами, носом в виде трубы, довольно широким ртом и длинными ушами. Его кроткий, страдальческий и покорный вид не прибавлял почти ничего к этим главным чертам его физиономии, полной здоровья, но неподвижной. Этот молодой человек, рожденный ради того, чтоб стать добродетельным буржуа, приехал с родины с целью сделаться правщиком у торговца красками, но превратил самого себя в живописца, единственно благодаря упрямству, которым отличаются бретонцы. Что он вынес, чем он только жил, пока был учеником, знает один Бог. Он вынес столько же, сколько выносят великие люди, когда их преследует бедность и за ними, как за диким зверем, гонится стая посредственностей и толпа честолюбцев, жаждущих мести. Как только Фужер почувствовал, что может летать на собственных крыльях, он нанял мастерскую в улице Мучеников, и стал прилежно работать. Он дебютировал в 1819. Первая картина, которую он представил жюри для Луврской выставки, изображала деревенскую свадьбу, и была довольно жалкой копией с картины Греза. Картина не была принята. Узнав роковой приговор, он не впал в ярость, его не одолели те припадки эпилептического самолюбия, которым предаются люди надменные, и которые порою оканчиваются посылкой вызова на дуэль директору или секретарю музея, или угрозами убийства. Фужер спокойно взял картину, завернул ее в платок и понес в мастерскую, дав клятву, что сделается великим живописцем. Он поставил картину на мольберт, и отправился к своему бывшему учителю, человеку громадного таланта, к Шинне, художнику кроткому и терпеливому, имевшему полный успех на последней выставке; он просил его прийти и разобрать его отвергнутое произведение. Великий живописец бросил все и отправился. Когда несчастный Фужер показал ему картину, Шинне, взглянув на нее, пожал руку Фужера.
– Ты славный малый, у тебя золотое сердце, и я не стану тебя обманывать. Слушай, ты достиг всего, что обещал учеником. Когда такие вещи выходят из-под кисти, милый мой Фужер, то лучше пусть уж краски лежат у Брюллона в магазине и не зачем отнимать холст у других. Вернись домой пораньше, надень бумажный колпак и ляг спать в девять часов; а завтра в десять отправляйся в какую-нибудь контору и попроси себе места, и оставь искусство в покое.
– Друг мой, – сказал Фужер, – моя картина уж подверглась осуждению, и я прошу от тебя не приговора, а объяснения причин.
– Ладно. Краски у тебя серые и темные, ты смотришь на натуру, точно сквозь креп; рисунок у тебя тяжелый, замазанный; твоя композиция – подражание Грезу, который искупал свои недостатки достоинствами, которых у тебя нет.
Указывая подробно на недостатки картины, Шинне заметил на лице Фужера выражение такого глубокого огорчения, что пригласил его обедать и старался утешить.
На следующий день с семи часов утра, Фужер уже сидел за мольбертом и переделывал отвергнутую картину; он исправлял ее согласно увязаниям Шинне, клал более живые краски, переписывал фигуры. Почувствовав отвращение к дальнейшей переделке, он снес картину к Илие Магусу. У Илии Магуса, помеси голландца, бельгийца и фламандца, было три причины сделаться тем, чем он стал: богачом и скупцом. Тогда он явился из Бордо в Париж, стал барышничать картинами и поселился на бульваре Благовещения. Фужер, рассчитывавший жить своей кистью, неустрашимо питался хлебом и орехами, или хлебом и молоком, или хлебом и вишнями, или хлебом и сыром, смотря по времени года. Илия Магус, которому Пьер принес первую картину, долго прищурясь рассматривал ее и дал за нее пятнадцать франков.
– С пятнадцатью франками дохода в год и с тысячью франков расхода можно пойти быстро и далеко, – улыбаясь сказал Фужер.
Илия Магус сделал движение, он кусал себе пальцы, раздумывая, что мог бы приобрести картину за сто су. В течение нескольких дней, всякое утро, Фужер отправлялся из улицы Мучеников, смешивался с толпою на бульваре, через улицу от лавки Магуса, и устремлял взор на свою картину, не привлекавшую к себе взоров прохожих. В конце недели картина исчезла. Фужер перешел улицу и направился к лавке торговца старинными вещами, притворяясь, будто гуляет без цели.
– Что ж, продали картину?
– Вот она, – отвечал Магус, – я заказал раму, чтоб иметь возможность предложить ее человеку, считающему себя знатоком в живописи.
Фужер больше не смел показываться на бульваре; он принялся за новую картину; он сидел за ней два месяца, питаясь как мышь и работая как каторжник.
Раз вечером он шел по бульвару; сами ноги роковым образом донесли его до лавки Магуса: его картины не было видно.
– Я продал вашу картину, – сказал торговец художнику.
– За сколько?
– Выручил свои с небольшим барышом. Рисуйте-ка мне семейные сцены из фламандской жизни, урок анатомии, пейзаж, и я стану покупать, – сказал Илия.
Фужер чуть не обнял Магуса, он смотрел на него как на отца. Он воротился домой с радостью в сердце; и так, великий Шинне ошибался! В огромном Париже нашлись сердца, которые бились в унисон с Грассу; его талант был понят и оценен. Бедный малый в двадцать семь лет был невинен как шестнадцатилетний мальчик. Другой художник, недоверчивый и суровый, заметил бы дьявольское выражение Илии Магуса; он увидел бы, как у него тряслась борода, иронию его усов и подергивание плеч, обнаружившие удовольствие Вальтер-Скотовского жида, обдувшего христианина. Фужер прогуливался по бульварам в такой радости, что его лицо получило гордое выражение. Он походил на гимназиста, покровительствующего женщине. Он встретил Жозефа Бридо, одного из своих товарищей, одного из эксцентрических талантов, осужденных на славу и несчастие. Жозеф Бридо, у которого, по его словам, было несколько су в кармане, повел Фужера в Оперу. Фужер не видел балета, не слышал музыки, – он сочинял картины, он рисовал. Он простился с Жозефом в середине вечера, и побежал домой, чтоб при лампе набросать эскизы; он придумал тридцать картин, напоминавших чужие, и почел себя за гения. На следующий же день, он накупил красок, разного размера полотна; он накупил хлеба, сыра, принес кружку воды, запасся дровами для печки, и затем принялся за работу; у него было несколько моделей, и Магус ссудил его материями для драпировок. После двухмесячного заключения, бретонец окончил четыре картины. Он снова обратился к Шинне за советом, присоединив к нему Жозефа Бридо. Оба живописца увидели в его картинах рабское подражание голландским пейзажам, жанрам Метцу, а в четвертой – копию с «Урока Анатомии» Рембрандта.
– Все подражания, – сказал Шинне. – Трудно Фужеру стать оригинальным.
– Тебе следует заняться чем-нибудь другим, только не живописью, – сказал Бридо.
– Чем же? – спросил Фужер.
– Пустись в литературу.
Фужер опустил голову, как овцы в дождь. Затем, он снова потребовал советов, снова получил их, и прошелся по картинам раньше, чем их отнести к Илии. Илия заплатил за каждую по двадцати пяти франков. При такой цене Фужер ничего не приобретал, но он не был в убытке, принимая во внимание его умеренность. Он предпринял несколько прогулок, чтоб узнать об участи своих картин, и испытал странную галлюцинацию. На его такие гладенькие и чистенькие картины, жёсткие, как натянутое полотно и блестевшие как живопись на фарфоре, точно насел туман; они стали похожи на старинные картины. Илии не было в лавке, и Фужер не мог добиться разъяснения сказанного явления. Он подумал, что дурно рассмотрел их. Живописец опять засел в мастерской ради производства новых старинных картин. После семилетней усидчивой работы, Фужер достиг того что стал сочинять и исполнять сносные произведения. Он работал не хуже других второстепенных художников. Илия покупал и продавал картины бедного бретонца, который с великим трудом зарабатывал сотню луидоров в год, и тратил не более тысячи двухсот франков.
На выставке 1829, Леон де-Лора, Шинне и Бридо, каждый занимал много места; они стояли во главе художественного движения, и прониклись жалостью к упорству своего бедного бывшего товарища, они настояли, чтоб картина Фужера была принята на выставку и помещена в большом салоне. Эта картина, весьма интересная по сюжету, напоминавшая Виньерона по чувству, а по исполнению первую манеру Дюбюфа, изображала молодого человека, которому в тюрьме подбривают волосы на затылке. С одной стороны священник, с другой старуха и молодая женщина в слезах. Пристав читает гербовую бумагу. На жалком столе видно кушанье, до которого никто не дотрагивался. Свет проходил сквозь решетку высоко расположенного окна. Было чем привести в трепет буржуа, и буржуа затрепетали. Фужер просто-напросто вдохновился прекрасной картиной Жерара Доу: он просто повернул группу Женщины, умирающей от водяной к окну вместо того, чтобы изобразить en face. Он заместил умирающую осужденным: та же бледность, тот же взгляд, тоже обращение к Богу. Вместо фламандского врача он нарисовал холодную и официальную фигуру одетого в черное пристава; но подле молодой девушки Жерара Доу добавил старуху. Наконец во всей группе выдавалось жестоко добродушное лицо палача. Такого весьма искусно прикрытого плагиата никто не заметил.
В каталоге стояло:
540. Грассу из Фужера (Пьер). Наваринская улица, 2.
Приготовление к казни шуана, осужденного на смерть в 1809.
Хотя и посредственная, картина имела громадный успех, потому что напоминала дело Мортонских поджигателей. Каждый день перед картиной собиралась толпа, пред ней остановился Карл X. Супруга старшего брата короля, узнав о страдальческой жизни бретонца, пришла в энтузиазм. Герцог Орлеанский приценивался к картине. Духовенство доложило жене дофина, что сюжет полон прекрасных мыслей; действительно от нее в достаточной степени веяло религиозным духом. Монсеньер дофин пришел в восторг от «Шили на полу», – грубая ошибка, потому что Фужер внизу стен нарисовал зеленоватые пятна, указывавшие на сырость. Супруга старшего брата короля купила картину за тысячу франков, дофин заказал для себя второй экземпляр. Карл X пожаловал крест сыну крестьянина, который некогда дрался за короля в 1799. Жозеф Бридо, великий живописец, не имел еще ордена. Министр внутренних дел заказал Фужеру две картины для церкви. Эта выставка дала Фужеру состояние, славу, будущность, жизнь. Изобретать что-либо – значит желать сгореть на медленном огне; копировать значит жить.
Открыв наконец-то золотоносную жилу, Грассу из Фужера отчасти осуществил эту жестокую истину, которой общество обязано тем, что позорным посредственностям ныне предоставляется избирать людей выдающихся во всех общественных классах; но они естественно избирают самих себя и ведут ожесточенную борьбу против настоящих талантов. Избирательный принцип, в приложении ко всему, ложен; Франция когда-нибудь опомнится. Тем не менее, скромность, простота и удивление доброго и кроткого Фужера заставили умолкнуть недовольство и зависть. Притом, за него были уже успевшие Грассу, солидарные с будущим Грассу. Некоторые, удивляясь энергии человека, которого ничто не могло обескуражить, вспоминали Доменикино, и говорили: «В искусствах надо поощрять волю. Грассу не украл своего успеха; ведь он, бедняжка, усердно трудился десять лет!» Это восклицание «бедняжка» было на половину причиной тех пожеланий и поздравлений, которые получал живописец. Жалость возвышает столько же посредственностей, сколько зависть принижает великих артистов. Газеты не скупились на критики, но кавалер Фужер переносил их так же, как советы друзей, с ангельским терпением.
Получив около пятнадцати тысяч франков, добытых с таким трудом, он меблировал свою квартиру и мастерскую в Наваринской улице, и написал там картину, заказанную монсеньором дофином, и две картины для церкви, по заказу министерства, к условленному дню, с точностью, приведшую в отчаяние кассу министерства, привыкшего к иным порядкам. Но подивитесь счастью аккуратных людей! Опоздай Грассу, и ему, благодаря июльской революции, не заплатили бы. Тридцати семи лет от роду, Фужер приготовил для Илии Магуса около двухсот картин вполне неизвестных, но при помощи которых он достиг до такой сносной манеры, до такой высота исполнения, которая заставляет художника пожимать плечами и которую так любит буржуазия.
Друзья любили Фужера за честность, за неизменные чувства, за полную готовность помочь и за великую верность; если они не чувствовали никакого уважения к его кисти, то любили человека, державшего ее в руках.
– Как жаль, что Фужер предался пороку живописи! – говорили между собою его друзья.
Тем не менее Грассу давал превосходные советы подобно фельетонистам, неспособным написать книгу, но знающим чем грешат книги; но между литературными критиками и критиками Фужер существовала разница: он в высокой степени чувствовал красоты, он признавал их, и его советы отличались чувством справедливости, которая заставляла признавать правильность его замечаний.
С июльской революции Фужер представлял на всякую выставку с дюжину картин, из которых жюри принимало четыре, или пять. Он жил с самой строгой экономией, и вся его прислуга состояла из ключницы. Вместо развлечений, он посещал друзей, ходил осматривать художественные вещи, позволял себе небольшие поездки по Франции, и мечтал о том, чтобы отправиться в Швейцарию и поискать там вдохновения. Этот негодный художник был превосходным гражданином; он ходил в караул, являлся на парады, и с чисто буржуазной аккуратностью платил за квартиру и съестные припасы. Он век прожил в трудах и нужде, а потому ему некогда было любить. Он был до сих пор холостяком и бедняком, и не мечтал об усложнении своего столь простого существования. Будучи не в силах изобрести средства для увеличения своего состояния, он каждую четверть года относил свои сбережения и свой заработок нотариусу Кордо. Нотариус, когда у него скапливалось тысячу экю, принадлежащих Грассу, помещал их под первую закладную за поручительством жены, если заемщик был женат, или за поручительством продавца, если заемщик занимал под покупаемое имение. Нотариус сам получал проценты и присоединял их к частным взносам Грассу. Художник ждал вожделенного мгновения, когда его доход возрастет до двух тысяч франков, чтобы предоставить себе артистическое otium cum dignitate и приняться за картины, – о, за картины! но за настоящие картины! за картины вполне законченные, чудо картины, такие что в нос бьют! Его будущность, его мечта о счастье, высочайшее его желание, – знаете ли, в чем они заключались? в том, чтобы попасть в Академию и носить офицерскую розетку почетного легиона! Сидеть подле Шинне и Леона де-Лора, попасть в Академию раньше Бридо! ходить с ленточкой в петличке! Какая мечта! Только посредственность умеет подумать обо всем!
Услышав шум нескольких шагов по лестнице, Фужер поправил тупей, застегнул бархатную бутылочно-зеленого цвета куртку, и был немало изумлен, увидав лицо из тех, которые в мастерских зовутся попросту дынями. Этот фрукт сидел на тыкве, одетой в голубое сукно и украшенной множеством издававших звон брелоков. Дыня сопела как морская свинка, тыква двигалась на двух брюквах, неправильно именуемых ногами. Настоящий живописец вытурил бы маленького торговца бутылками, и немедленно выпроводил бы его за двери, объявив, что не пишет овощей. Фужер без смеха посмотрел на заказчика, ибо у г. Вервелля на рубашке красовался бриллиант в тысячу экю.
Фужер взглянул на Магуса, и сказал: Толстосум! употребляя словцо, бывшее в то время в ходу в мастерских.
Услышав это г. Вервелль сморщил брови. За буржуа тянулись другие овощи в лице его жены и дочери. Лицо жены было разделано под красное дерево; она походила на стянутый по талии кокосовый орех, на который насажена голова. Она вертелась на ножках; платье на ней было желтое с черными полосами. Она гордо показывала митенки на пухлых руках, вроде перчаток на вывесках. Перья с похоронных дрог первого разряда развивались на нелепой шляпке. Кружева прикрывали плечи равно толстые как спереди, так и сзади; отчего сферическая форма кокоса являлась во всем совершенстве. Ноги, в том роде, который живописцы зовут гусиными, в башмаках из лакированной кожи с длинными гамашами. Как вошли ноги в башмаки? – неизвестно.
Следовала молодая спаржа, в зеленом с желтым платье, с маленькой головкой, с причесанными en bandeau волосами желто-морковного цвета, в которые влюбился бы римлянин; у нее были тоненькие руки, веснушки на довольно белой коже, большие наивные глаза с белыми ресницами, чуточные брови, шляпа из итальянской соломы, обшитая белым атласом, с двумя изрядными атласными бантами, добродетельно красные ручки и ножки, как у маменьки. Эти три существа оглядывали мастерскую со счастливым видом, свидетельствовавшим об их почтительном энтузиазме к искусствам.
– Вы будете нас срисовывать? – спросил отец вызывающим тоном.
– Точно так, – отвечал Грассу.
– Вервелль, у него крест, – шепнула жена мужу, когда художник отвернулся от них.
– Да разве я заказал бы наши портреты живописцу без ордена? – сказал бывший торговец пробками.
Илия Магус раскланялся с семейством Вервеллей, и вышел; Грассу проводил его на лестницу.
– Только вы и могли выудить таких чучел.
– Сто тысяч приданого.
– Да, но за то и семья!
– Триста тысяч в будущем, дом в улице Бушера и дача в Вилль-д'Аврэ.
– Бушера, бутылка, пробочник, пробки, – сказал живописец.
– За то будете жить в довольстве до конца дней своих, – сказал Илия.
Эта мысль осветила голову Пьера Грассу, как утренний свет его чердак. Усаживая отца молодой девицы, он нашел, что у него славное лицо, и восхищался тем, что на нем так много фиолетовых тонов. Мать и дочка вертелись вокруг живописца, восхищаясь всеми его приготовлениями; он им казался богом. Это видимое обожание нравилось Фужеру; от золотого тельца падал на эту семью волшебный отблеск.
– Вы должны зарабатывать бешеные деньги? – сказала мать, – но вы все и проживаете?
– Нет, – отвечал живописец, – я их не проживаю, у меня нет средств на то, чтоб жить в свое удовольствие. Мой нотариус помещает мои деньги, он ими заведует; передав ему деньги, я уже о них не забочусь.
– A мне говорили, – вскричал Вервелль, – будто живописцы – дырявые горшки.
– A кто ваш нотариус, если не секрет? – спросила г-жа Вервелль.
– Отличный, славный малый, Кардо.
– Э, э! вот так штука! Кардо и наш нотариус, – сказал Вервелль.
– Не шевелитесь, – сказал живописец.
– Сиди же смирно, Антинор, – сказала жена, – ты мешаешь художнику, а если б ты видел, как он работает, ты понял бы…
– Боже мой! Отчего вы меня не учили искусству? – сказала девица Вервелль своим родителям.
– Виржини, – вскричала мать, – молодой девушке не прилично учиться некоторым вещам. Когда ты выйдешь замуж… ну!.. а пока, потерпи.
В этот первый сеанс семья Вервеллей почти сблизилась с честным художником. Они условились, что явятся через два дня. Выходя, отец и мать велели Виржини идти вперед; но, не взирая на расстояние, она услышала следующие слова, которые не могли не возбудить ее любопытства:
– С орденом… тридцать семь лет… у него есть заказы, деньги он помещает у нашего нотариуса… Спросить Кардо… Гм! называться m-me де-Фужер!.. он человек, по-видимому, не дурной… Ты мне скажешь: за купца? Но выдав дочь за купца, пока он не оставил дел, еще нельзя сказать, что с ней станется! Между тем как бережливый художник… притом, мы любим искусства… Словом!..
В то время как семья Вервеллей разбирала Пьера Грассу, он сам разбирал семью Вервеллей. Он был не в силах сидеть спокойно в мастерской, он пошел погулять по бульвару, он рассматривал рыженьких, которые попадались на встречу! Он предавался самым странным размышлениям: золото самый лучший метал, желтый цвет – цвет золота, римляне любили рыжих, и он станет римлянином и т. д. Притом, через два года после женитьбы, кто заботится о цвете волос своей жены? Красота пропадает… но безобразие остается! Деньги половина счастья. Вечером, ложась спать, живописец уже считал Виржини Вервелль хорошенькой.
Когда, в день второго сеанса, вошли трое Вервеллей, артист встретил их любезной улыбкой. Негодный! он побрился, надел чистое белье; он мило причесался, он надел панталоны к лицу и красные туфли a la poulaine. Семейство отвечало на его улыбку такой же лестной улыбкой. Виржини покраснела пуще своих волос, опустила глаза и, отвернувшись, начала рассматривать этюды. Пьер Грассу нашел ее кривлянья восхитительными. Виржина была грациозна; она по счастью не походила ни на отца, ни мать; на кого же она походила?
– А, понимаю! – говорил он про себя, – мамаша любовалась на красивого приказчика.
Во время сеанса, семья и художник слегка поспорили, и у живописца хватило смелости найти, что отец Вервелль остроумен. Эта лесть заставила всю семью скорым шагом проникнуть в сердце артиста, он подарил рисунок Виржини и эскиз матери.
– За даром? – спросили они.
Пьер Грассу не мог воздержаться от улыбки.
– Не следует так дарить картин: они денег стоят, – сказал ему Вервелль.
На третьем сеансе, отец Вервелль заговорил о прекрасной картинной галерее у себя на даче, в Виль-д'Аврэ: там есть Рубенс, Жерар Доу, Мьерис, Тербург, Рембрант, Поль Поттер, одна картина Тициана и т. д.
– Г. Вервелль наделал глупостей, – хвастливо сказала г-жа Вервелль, – он накупил картин на сто тысяч.
– Люблю искусство, – отозвался бывший торговец бутылками.
Когда был начат портрет г-жи Вервелль, портрет ее мужа был почти кончен, и восторгам семьи не было предела. Нотариус отозвался о живописце с величайшей хвалой. Пьер Грассу, по его словам, был честнейший малый на свете, один из самых порядочных артистов, вдобавок он скопил тридцать шесть тысяч франков; время нужды для него миновало, он получает ежегодно десять тысяч франков, он не проживает процентов; словом, его жена не может быть несчастна. Последняя фраза сильно накренила весы. Друзья Вервеллей только и слышали, что про славного живописца Фужера. В тот день, как Фужер начал портрет Виржини, он был уже in petto зятек Вервеллей. Все трое процветали в мастерской, которую привыкли считать одной из своих резиденций; это чистое, прибранное, милое артистическое помещение имело для них невыразимую привлекательность. Abyssus abyssum, буржуа притягивает буржуа.
С концу сеанса, лестница затряслась, и Жозеф Бридо с шумом отворил дверь; он влетел как буря, волосы у него развевались; показалась большая растерзанная фигура, повсюду, как молния, блеснул он глазами и, обойдя мастерскую, шумно подошел к Грассу, подбирая сюртук на животе, и стараясь, хотя и тщетно, застегнуть его, потому что пуговица отлетела.
– Дрова дороги, – сказал он Грассу.
– А!
– За мной гонятся англичане… Стой, ты пишешь этих?..
– Да замолчи же.
– Твоя правда.
Семейство Вервеллей было в высшей степени смущено этим странным видением, и лица у них, обыкновенно красные, стали вишнево-красными.
– Это выгодно! – сказал Жозеф. – A не отыщется ли у тебя не нужных бумажек?
– Много надо?
– Билет в пятьсот… За мной один из этих негоциантов бульдожьей породы, которые, как вцепятся, так не отпустят, пока не вырвут куска. И порода же!
– Я напишу сейчас записку к нотариусу.
– A у тебя есть нотариус?
– Да.
– В таком случае я понимаю, почему ты до сих пор рисуешь щеки розовыми тонами, превосходными для парикмахерских вывесок.
Грассу невольно покраснел: позировала Виржини.
– Бери натуру, какова она есть! – продолжал великий художник. – У девицы рыжие волосы. Что ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно. Положи на палитру киновари, напиши потеплей щеки, сделай на них коричневые крапинки, жизни поддай! Иль ты хочешь быть умней натуры?
– Возьми-ка, – сказал Фужер, – поработай, пока я напишу записку.
Вервелль докатился до стола и наклонился над ухом Грассу.
– Да этот мужлан напортит, – сказал купец.
– Если б он писал портрет вашей Виржини, то вышло бы в тысячу раз лучше моего, – с негодованием отвечал Грассу.
Услышав это, буржуа потихоньку отступил к своей жене, изумленной вторжением дикого зверя и несколько испугавшейся, что он принялся за портрет ее дочери.
– Слушай, следуй этим указаниям, – сказал Бридо, отдавая палитру и беря записку. – Я тебя не благодарю; теперь я могу воротиться в замок д'Артеза, где я расписываю столовую, а Леон де-Лора делает над дверьми чудные вещи. Приезжай посмотреть.
И он ушел не кланяясь: слишком уж нагляделся он на Виржини.
– Кто это такой? – спросила г-жа Вервелль.
– Великий художник, – отвечал Грассу.
Небольшое молчание.
– Уверены ли вы, что он не принес несчастия моему портрету? – сказала Виржини, – он так напугал меня.
– Он принес только пользу, – отвечал Грассу.
– Если он великий художник, то, по-моему, лучше великие художники, которые похожи на вас.
– Ах, maman, г. Грассу еще более великий художник, он меня напишет всю, – заметила Виржини.
Повадки гения взбудоражили этих привыкших к порядку буржуа.
Наступало то время осени, которое так мило зовут летом св. Мартына. С робостью неофита пред лицом гениального человека, Вервелль отважился пригласить Грассу приехать в ним на дачу в будущее воскресенье: он знал, как мало привлекательна буржуазная семья для художника.
– Ну, вы, художники! – говорил он, – вам требуются волнения, великолепные зрелища и умные люди; но у нас будут хорошие вина, и при том, я рассчитываю, что моя галерея вознаградит вас за скуку, какую артист, как вы, может испытывать в купеческой среде.
Это идолопоклонство чрезвычайно польстило самолюбию бедного Пьера Грассу, стол мало привыкшему к подобным любезностям. Этот честный артист, эта позорная посредственность, это золотое сердце, эта примерная жизнь, этот глупый рисовальщик, этот добрый малый, украшенный королевским орденом почетного легиона, отправился в поход, чтобы насладиться последними хорошими днями в году, в Виль-д'Авре. Живописец скромно поехал в общественной карете, и не мог не залюбоваться на красивую дачу купца, расположенную посреди парка в пять десятин, на холме, в самом красивом месте. Жениться на Виржини значило сделаться со временем владельцем этой дачи! Вервелли встретили его с восторгом, радостью, добродушием, с откровенной буржуазной глупостью, которые смутили его. То был день его торжества. Жениха повели гулять по усыпанным песком аллеям, которые были, как подобает, вычищены для приезда великого человека. Даже у деревьев был какой-то причесанный вид, трава была скошена. В чистом деревенском воздухе слышался бесконечно возбуждающий запах кухни. Все в доме говорили: «У нас сегодня великий художник!» Бедняжка Вервелль точно яблоко катался по саду, дочка извивалась точно угорь, а мамаша следовала за ними благородной и важной походкой. Все трое не отходили от Пьера Грассу в течение семи часов. После обеда, которого длина не уступала его великолепию, г. и г-жа Вервелль прибегли к главному театральному эффекту, в открытию галереи, освещенной лампами с рассчитанным эффектом. Трое соседей, бывших торговцев, дядя с наследством, приглашенные ради чествования великого артиста, старая девица Вервелль и гости проследовали за Грассу в галерею, любопытствуя узнать его мнение о коллекции маленького Вервелля, который уничтожал их баснословной стоимостью картин. Торговец бутылками, по-видимому, вздумал соперничать с королем Луи-Филиппом и Версальскими галереями. Картины, в великолепных рамах, были снабжены золотыми ярлычками, где черными буквами стояло:
Рубенс.
Пляска фавнов и нимф.
Рембрандт.
Внутренность анатомического театра. Доктор Тромп читает лекцию ученикам.
Было всего полтораста картин, покрытых лаком, обметенных веничком; некоторые были задернуты зелеными занавесками, которых не отдвигали в присутствии девиц.
Артист стоял с опущенными руками, с открытым ртом, будучи не в силах произнести ни слова; в этой галерее он увидал половину своих картин; он был Рубенсом, Поль Паттером, Миерисом, Метцу, Жераром Доу! Он один был двумя десятками великих мастеров.
– Что с вами? – вы побледнели!
– Дочь, стакан воды! – вскричала мать Вервелль.
Живописец взялся за пуговицу фрака отца Вервелля, и отвел его в сторону под предлогом рассмотреть Мурилло. Испанские картины были тогда в моде.
– Вы купили картины у Илии Магуса?
– Да, все оригиналы.
– Между нами, сколько вы заплатили за те, на которые я укажу вам?
Они вдвоем обошли галерею. Гости были изумлены, с каким серьезным видом художник в сопровождении хозяина продолжал осмотр образцовых произведений.
– Три тысячи франков! – тихо сказал Вервелль, дойдя до последней картины, – а говорю, что сорок.
– Сорок тысяч франков за Тициана? – громко сказал художник, – да это задаром!
– Говорю же вам, что у меня на сто тысяч экю картин! – вскричал Вервелль.
– Я написал все эти картины, – сказал ему на ухо Пьер Грассу, – и за все вместе не получил и десяти тысяч франков…
– Докажите мне это, – сказал торговец бутылками, – и я удвою приданое моей дочери, потому что в таком случае вы – Рубенс, Рембрандт, Тербург, Тициан.
– A Магус отличный торговец картинами! – сказал живописец, поняв старинный вид своих картин и пользу сюжетов, которые заказывал ему торговец старинными вещами.
Г. де-Фужер, – ибо вся семья настойчиво звала так Пьера Грассу, – не только нисколько не потерял в уважении своего поклонника, но напротив возрос настолько, что даром написал семейные портреты и, понятно, поднес их своему тестю, теще и жене.
Теперь без Пьера Грассу не обходится ни одной выставки и в буржуазном мире он считается хорошим портретистом. Он зарабатывает двенадцать тысяч франков в год, и портит полотна на пятьсот франков. За женой он взял в приданое шесть тысяч франков дохода, и живет с тестем и тещей. Вервелли и Грассу живут в полном согласии, держат карету и счастливейшие люди на свете. Пьер Грассу не выходит из буржуазной среды, где почитается одним из величайших художников в мире. Между Тронной заставой и улицей Храма не пишется ни одного семейного портрета иначе, как у великого художника и за каждый платится не менее пятисот франков. Главная причина, почему буржуа держатся этого художника, следующая: «Говорите что хотите, а он каждый год помещает двадцать тысяч у нотариуса». В виду того, что Грассу показал себя с хорошей стороны в возмущении 12-го мая, ему пожалован офицерский крест почетного легиона. Он командир батальона национальной гвардии. Версальский музей не мог не заказать такому примерному гражданину батальной картины, и Грассу ходил по всему Парижу с целью встретить бывших товарищей и сказать им небрежным тоном: «А король заказал мне батальную картину!»
Г-жа де-Фужер обожает своего мужа; у них двое детей. Этот живописец, добрый муж и добрый супруг, не может, однако, отогнать от себя роковой мысли: художники над ним смеются, его имя – презрительное прозвище в мастерских, в фельетонах молчат о его произведениях. Но он все работает, и стремится в академию, и попадет туда. Затем месть бушует в его сердце! Он скупает у знаменитых художников картины, когда они в тесных обстоятельствах, и заменяет мазанья в галерее Виль-д'Авре истинно прекрасными произведениями, только не своими.
Существуют посредственности более несносные и злые чем Пьер Грассу, который вдобавок тайный благотворитель и человек в высшей степени обязательный.
Париж. Декабрь 1839.