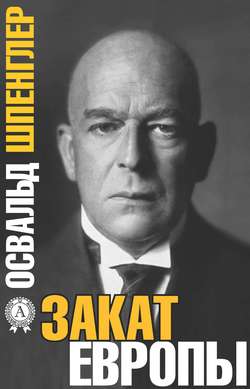Читать книгу Закат Европы - Освальд Шпенглер - Страница 1
Введение
Оглавление1.
В настоящей книге впервые делается смелая попытка предуказать ход истории. Замысел ее – проследить судьбу культуры, притом единственной, которая в настоящее время на земле считается совершенной, именно – судьбу западноевропейской культуры в ее не истекших еще стадиях.
До сих пор к возможности разрешить эту столь важную задачу относились без достаточного внимания. И если даже ей уделялось внимание, то средства для ее решения оставались неизвестными или были использованы в недостаточной степени.
Существует ли логика истории? Не скрывается ли за всеми случайными и не поддающимися учету единичными событиями, так сказать, метафизическая структура исторического человечества, по существу независимая от бросающихся в глаза поверхностных культурно-политических явлений? Не вызывается ли, скорее, ею эта действительность низшего порядка? Не повторяются ли великие моменты всемирной истории в форме, позволяющей проницательному взгляду делать обобщения? А если так, то как далеко простираются границы такого рода обобщений? Возможно ли в самой жизни найти ступени, которые должны быть пройдены, и притом в порядке, не допускающем исключения? Ведь человеческая история есть сумма жизненных процессов большой силы, «Я» и личность которых язык невольно изображает мыслящими и действующими индивидуумами высшего порядка, каковы, например, «античность», «китайская культура» или «современная цивилизация». Быть может, понятия рождения, смерти, юности, старости, продолжительности жизни, лежащие в основе всего органического, имеют в отношении истории еще никем не раскрытый строгий смысл? Не лежат ли, словом, в основе всего исторического всеобщие биографические изначальные формы?
Гибель Запада, явление ближайшим образом ограниченное местом и временем, подобно аналогичной ему гибели античности, становится, таким образом, философской темой, которая, если рассматривать ее с надлежащей глубиной, заключает в себе все великие вопросы бытия.
Если мы хотим узнать, каким образом происходит угасание западной культуры, то нам необходимо сперва выяснить, что такое культура, каково ее отношение к видимой истории, к жизни, к душе, к природе, к духу, в каких формах она проявляется и в какой мере эти формы – народы, языки и эпохи, сражения и идеи, государства и боги, искусства и художественные произведения, науки, право, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события – являются символами и должны как таковые истолковываться.
2.
Средством понимания мертвых форм является математический закон. Средством постижения живых форм служит аналогия. Таким образом различается полярность и периодичность мира.
Не раз уже высказывалось утверждение, что число исторических форм ограничено, что эпохи, ситуации, личности в своих типических чертах повторяются. Деятельность Наполеона почти всегда сравнивалась с деятельностью Цезаря и Александра. Первое сопоставление, как будет видно далее, морфологически недопустимо, второе же правильно. Наполеон сам находил свое положение схожим с положением Карла Великого. Говоря о Карфагене, Конвент разумел Англию, а якобинцы называли себя римлянами. С большей или меньшей степенью правдоподобия Флоренцию сравнивали с Афинами, Будду с Христом, первоначальное христианство с современным социализмом, римских финансовых тузов времени Цезаря с янки. Петрарка, первый страстный археолог (сама археология есть проявление сознания повторяемости истории), сопоставлял себя с Цицероном, и еще совсем недавно Сесиль Роде, организатор английских южноафриканских владений, державший у себя в библиотеке специально для него изготовленные переводы биографий цезарей, сравнивал себя с императором Адрианом. Для Карла XII Шведского оказалось роковым то обстоятельство, что с юных лет он носил в кармане написанную Курцием Руфом биографию Александра и стремился копировать этого завоевателя.
Желая показать свое понимание мировой политической ситуации, Фридрих Великий в своих политических мемуарах (как, например, «Considérations», 1738) вполне уверенно пользуется аналогиями. Так, он сравнивает французов с македонянами под властью Филиппа и противопоставляет им греков и немцев. «Фермопилы Германии – Эльзас и Лотарингия – уже в руках Филиппа». Этими словами дано было меткое определение политики кардинала Флери. Далее мы находим здесь сравнение политики Габсбургов и Бурбонов с проскрипциями Антония и Октавиана.
Однако все это оставалось отрывочным и произвольным, будучи, скорее, удовлетворением минутного желания поэтически и остроумно выразиться, но не глубоким чутьем исторических форм.
К числу таких же сравнений принадлежат сравнения мастера искусной аналогии Ранке; его сравнения Киаксара с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегами мадьяр морфологически лишены значения. Это же самое замечание является вполне справедливым и в отношении часто повторяющихся у него сравнений греческих городов-государств с республиками Возрождения, тогда как сравнению Наполеона с Александром присуща глубокая правильность, которая тем не менее носит случайный характер. Сравнения эти у Ранке, как и у других, сделаны в плутарховском, то есть народно-романтическом, вкусе, принимающем в расчет только внешнее сходство сцен на подмостках истории, а не в строгом смысле математика, постигающего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений, в которых профан видит только различия.
Легко заметить, что выбором образов здесь руководит, в сущности, каприз, а не идея, не чувство необходимости. До техники сравнения нам еще очень далеко. Особенно в наше время мы охотно пользуемся образами, но без плана и связи, и если они оказываются иногда подходящими по глубине заключающегося в них и не раскрытого еще смысла, то этим мы обязаны счастливой случайности, реже инстинкту, но никогда не принципу. Никому еще не приходило в голову создать в этой области метод, никто не подозревал, что здесь единственный корень, из которого может вырасти великое разрешение проблем истории.
Сравнения могли бы привести к счастливым результатам для исторического мышления, поскольку, они вскрывают органическую структуру происходящего. Их техника должна была бы быть выработана под руководством всеобъемлющей идеи, то есть с непреложной необходимостью и логическим мастерством. Но до сих пор они приводили к печальным результатам для истории потому, что, будучи одним только делом вкуса, они освобождали историков от труда понимания языка исторических форм и их анализа, от этой наиболее трудной и насущной задачи, по настоящее время даже не установленной и подавно не разрешенной. Иногда они были поверхностны, – когда, например, Цезаря называли основателем римской государственной газеты или, еще хуже, наклеивали на отдаленные, в высшей степени сложные и внутренне нам совершенно чуждые явления античной жизни ярлыки таких модных слов, как «социализм», «импрессионизм», «капитализм» и «клерикализм». В других же случаях они обнаруживали странную извращенность, как практиковавшийся в Якобинском клубе культ Брута – того самого миллионера и ростовщика Брута, который в качестве вождя римской знати, при одобрении патрицианского сената, заколол представителя демократии.
3.
Таким образом, задача, первоначально обнимавшая ограниченную проблему современной цивилизации, разрастается в совершенно новую философию будущего, единственную философию, которая принадлежит еще к числу возможностей западноевропейского духа в его последних стадиях, если из метафизической истощенной почвы Запада вообще может вырасти хоть какая-нибудь философия, – я имею в виду идею морфологии всемирной истории, мира как истории, которая, в отличие от морфологии природы, до сих пор единственной темы философии, еще раз, но в совершенно ином порядке охватывает все формы и изменения мира в их глубочайшем и последнем значении, создавая не обобщение всего познанного, но картину жизни, не ставшее, но становящееся.
Мир как история, понятый, созерцаемый, изображенный в виде противоположности миру как природе, есть новая точка зрения на бытие, которая до наших дней никогда не применялась; ее, быть может, смутно чувствовали, часто угадывали, но никто еще не отважился на нее со всеми ее последствиями. Здесь перед нами два возможных способа, какими человек овладевает окружающим миром и переживает его.
Я провожу самое строгое различие по форме, а не по существу между органическим и механическим впечатлением от мира, между совокупностью образов и совокупностью законов, между картиной и символом, с одной стороны, формулой и системой – с другой, между однократно действительным и постоянно возможным, между целью творческой силы воображения, действующей согласно плану и порядку, и целью систематически расчленяющего опыта или – забегая вперед и называя никогда еще не отмечавшуюся, весьма многозначительную противоположность – между областью значимости хронологического и математического числа.
Поэтому в таком исследовании, как настоящее, речь не может идти о том, чтобы принять как таковые злободневные культурно-политические события, расположить их в порядке причины и действия и затем прослеживать в их кажущейся рассудочно уловимой тенденции. Подобное «прагматическое» изложение истории было бы только замаскированным естествознанием, чего вовсе не скрывают сторонники материалистического понимания истории, между тем как их противники недостаточно сознают тождество методов естествознания и истории. Дело не в том, что такое очевидные факты истории сами по себе, как явления какого-нибудь времени, но в том, что они своим явлением означают, на что указывают. Историки современности считают, что они делают достаточно много, привлекая отдельные религиозные, социальные и всякого рода художественно-исторические черты для «иллюстрации» политического смысла какой-либо эпохи. Однако они забывают решающее обстоятельство – именно: в какой мере видимая история есть выражение, символ, ставшая формой душа (Seelentum). Я не встретил еще никого, кто серьезно занялся бы изучением этого морфологического сродства, кто кроме политических фактов обстоятельно знал бы последние, и глубочайшие, мысли математики греков, арабов, индийцев и западноевропейцев, смысл их ранней орнаментики, архитектурных, метафизических, драматических и лирических изначальных форм, характер и направление их великих искусств, детали их художественной техники и ее материала, не говоря уже о понимании решающего значения всего этого для проблемы исторической формы. Кому известно, что между дифференциальным исчислением и династическим принципом эпохи Людовика XIV, между античным городом-государством и Эвклидовой геометрией, между перспективой западной живописи масляными красками и преодолением пространства посредством железных дорог, телефонов и огнестрельного оружия, между контрапунктической инструментальной музыкой и хозяйственной кредитной системой существует глубокое родство формы? Даже самые реальные факторы политики, рассматриваемые в такой перспективе, принимают в высшей степени трансцендентный характер, и здесь, быть может, впервые такие вещи, как египетская система управления, античное монетное дело, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусское войско и римская техника постройки дорог, в равной мере понимаются как символы и как таковые истолковываются.
На этом пункте обнаруживается, что специфически исторического способа познания еще совсем не существует. То, что так называется, заимствует свои методы почти исключительно из той единственной области знания, в которой методы строго выработаны, – из физики. Исследователи думают, будто двигают историческую науку вперед, располагая явления в причинно-следственной связи. Замечательно, что прежняя философия никогда не думала о возможности иного отношения духа к миру. Кант, установивший в своем главном произведении формальные законы познания, незаметно для себя самого и для других сделал объектом рассудочного рассмотрения одну только природу. Знание для Канта есть математическое знание. Если он говорит о врожденных формах наглядного представления и категориях рассудка, то он никогда не мыслит при этом о совершенно ином понимании исторических явлений. А Шопенгауэр, который характерным образом из категорий Канта удерживает только категорию причинности, говорит об истории не иначе как с пренебрежением. Помимо необходимой связи причины и действия – я назвал бы ее логикой пространства – в жизни есть еще органическая необходимость судьбы – логика времени. Это факт глубочайшей внутренней достоверности, факт, приковывающий к себе все мифологическое, религиозное и художественное мышление, составляющий сущность и ядро всякой истории в противоположность природе, но недоступный формам познания, исследуемым «Критикой чистого разума», и не получивший еще надлежащей рассудочной формулировки. Философия, как сказал Галилей в знаменитом месте своего «Пробирщика», в великой книге природы «написана на языке математики». Но мы и сейчас еще ждем ответа философа на вопрос, на каком языке написана история и как ее нужно читать.
Математика и принцип причинности ведут к природообразному, хронология и идея судьбы – к историческому порядку явлений. И, тот и другой порядок охватывают весь мир, но глаз, в котором и через который этот мир получает осуществление, каждый раз иной.
4.
Природа есть образ, посредством которого человек высокоразвитых культур сообщает единство и значение непосредственным впечатлением своих чувств. История есть образ, посредством которого человек стремится понять живое бытие мира в отношении к своей собственной жизни и тем самым сообщить ему более глубокую действительность. Способен ли человек к созданию этих образов и который из них господствует над его бодрствующим сознанием? Вот исконный вопрос всего человеческого существования.
Здесь перед человеком открываются две возможности построения мира. Тем самым уже сказано, что эти возможности не неизбежно становятся действительностями. Поэтому если в дальнейшем мы поставим вопрос о смысле всякой истории, то предварительно должны будем разрешить другой вопрос, который до сих пор никогда еще не ставился. Для кого существует история? Вопрос, по-видимому, парадоксальный. Без сомнения, для каждого, поскольку каждый является элементом истории. Но надобно учесть, что история в целом, как и целое природы – ведь и то и другое суть явления, – предполагают дух, в котором и через который они становятся действительностью. Без субъекта нет объекта. Если даже отвлечься от всякой теории, получившей у философов тысячу формулировок, то все же остается бесспорным, что земля и солнце, природа, пространство, вселенная суть личное переживание и в своем «так, а не иначе» зависят от человеческого сознания. Но то же самое применимо и к картине мира истории, становящемуся, никогда не покоящемуся Всему; даже если бы мы знали, что такое история, нам все же оставалось бы неизвестным, для кого она. Несомненно, не для «человечества». Таково наше западноевропейское ощущение, но мы не все «человечество». Несомненно, что не только для первобытного человека, но и для человека некоторых высших культур не существовало всемирной истории, не существовало мира как истории. Мы все знаем, что в нашем детском сознании мира сначала выступают только природообразные и каузальные черты и лишь значительно позже черты исторические, как, например, определенное чувство времени. Слово «даль» гораздо раньше получает для нас осязательное содержание, чем слово «будущее». Но что если вся культура, высокоразвитая душа, покоится на таком не историческом духе? Какою ей должна являться действительность? Мир? Жизнь? Если мы вспомним, что в миросознании греков все пережитое, все прошлое, не только личное, но и общее, тотчас же превращалось в миф, то есть в природу, в невременное, неподвижное, лишенное развития настоящее, так что история Александра Великого, еще до его смерти, для античного чувства начала сливаться с легендою о Дионисе и Цезарь ощущал свое происхождение от Венеры по крайней мере не как нелепость, – то мы должны признать, что для нас, людей Запада, с интенсивным чувством времени, сопереживание таких душевных состояний почти невозможно; однако, ставя перед собой проблему истории, мы не вправе просто оставить без внимания этот факт.
Историческое исследование в широком смысле этого слова, заключающее в себе все виды психологического анализа чужих народов, эпох и нравов, имеет то же значение для души целых культур, какое дневники, автобиографии и исповеди имеют для отдельного человека. Но античная культура не обладала памятью в этом специфическом смысле, была лишена исторического органа. Память античного человека – мы без оговорок приписываем чужой душе понятие, заимствованное из нашего душевного строя, – резко отлична от нашей; здесь отсутствуют в сознании прошедшее и будущее как упорядочивающие перспективы и чистое «настоящее», которое так часто удивляло Гете во всех проявлениях античной жизни, особенно в пластике, наполняет собою сознание с какой-то нам неведомой мощью. Это чистое «настоящее», величайшим символом которого является дорическая колонна, в действительности представляет отрицание времени (направленности). Для Геродота и Софокла, так же как и для Фемистокла и любого римского консула, прошлое тотчас же превращается в вневременное покоящееся впечатление полярной, а не периодической структуры. Таков истинный смысл проникновенного мифотворчества. Между тем для нашего мироощущения и внутреннего взора прошлое представляется ясно расчлененным на периоды, целесообразно направленным организмом столетий и тысячелетий. Однако этот фон только и придает античной и западной жизни особенный, присущий им колорит. Космосом грек называл образ мира, который не становится, но есть. Следовательно, грек сам был человеком, который никогда не становился, но всегда был.
Поэтому античный человек ничего внутренне не усвоил из вавилонской и египетской культур, хотя он отлично знал точную хронологию, календарь и интенсивное чувство вечности и ничтожества настоящего момента, проявляющееся у египтян и вавилонян в грандиозных наблюдениях светил и точном измерении громадных периодов времени. То, о чем иногда упоминают античные философы, они только слышали, но не проверяли на опыте. Ни Платон, ни Аристотель не имели обсерватории. В последние годы правления Перикла в Афинах народным собранием было вынесено решение, угрожавшее всякому распространителю астрономических теорий тяжелым обвинением (эйсангалией). Это был акт глубочайшей символики, в котором выразилось стремление античной души исключить из своего миросознания даль в любом смысле этого слова.
Поэтому греки, в лице Фукидида, начали серьезно размышлять над своей историей лишь в тот момент, когда она была внутренне почти закончена. Но даже Фукидид, методические основоположения которого во введении к его труду звучат очень по-западноевропейски, представлял историю так, что считал возможным сочинять подробности событий, если они ему казались нужными. Это является у него художественным приемом, но именно это мы называем мифотворчеством. О подлинном понятии смысла хронологических чисел здесь нет и речи. В III столетии Манефон и Борос, стало быть, не греки, написали основательные собрания источников о Египте и Вавилоне, двух странах, понимавших толк в астрономии и, следовательно, в истории. Но образованные греки и римляне мало интересовались этими материалами и по-прежнему предпочитали причудливую фантастику Гекатея и Ктесия.
Вследствие этого античная история до персидских войн, а в сущности даже до гораздо более поздних периодов, является продуктом мифического мышления. История государственного строя Спарты есть вымысел эллинистического периода – Ликург, биография которого рассказывается со всеми подробностями, был, по-видимому, незначительным божеством Тайгета; измышление же римской истории до Ганнибала продолжалось еще во времена Цезаря. Для понимания античного смысла слова «история» характерно то сильнейшее влияние, которое александрийские романы своим содержанием оказали на серьезную политическую и религиозную историографию. Совсем не думали о том, чтобы принципиально отличать их вымысел от документальных дат. Когда Варрон перед концом республики попытался зафиксировать быстро исчезающую из сознания народа римскую религию, он разделил божества, культ которых весьма щепетильно совершался государством, на di certi и di incerti, на богов, о которых было еще кое-что известно, и богов, от которых, несмотря на продолжающийся публичный культ, осталось только одно имя. В действительности религия римского общества его времени, в том виде, как ее представляли себе на основании римских поэтов не только Гете, но даже Ницше, была большей частью порождением эллинизированной литературы и почти не связывалась со старым культом, которого никто уже не понимал.
Моммзен ясно формулировал западноевропейскую точку зрения, назвав римских историков – он имел в виду прежде всего Тацита – людьми, «которые говорят то, о чем следует молчать, и замалчивают то, о чем необходимо сказать».
Индийская культура, в которой идея (браманской) нирваны является чрезвычайно ярким выражением самой неисторической души, какая только может существовать, никогда не имела даже самого слабого чувства «когда», в каком бы то ни было смысле. Не существует ни индийской астрономии, ни индийского календаря, ни, стало быть, индийской истории, поскольку под этими понятиями подразумевается сознание живого развития. О внешнем ходе этой культуры, органическая часть которой была завершена еще до возникновения буддизма, мы знаем еще гораздо меньше, чем об античной истории между XII и VIII столетиями, несомненно богатой великими событиями. Обе они сохранились лишь в смутно мифическом образе. Только спустя тысячелетие после Будды, около 500 года после Р. X., возникло на Цейлоне в «Махавансе» что-то отдаленно напоминающее историографию.
Сознание индийского человека было настолько неисторично, что ему было совершенно не важно время появления сочинения какого-либо автора. Вместо органического ряда произведений отдельных лиц постепенно выросла неопределенная масса текста, в которую каждый вписывал что желал, причем понятия индивидуального духовного достояния, развития мысли, культурной эпохи не играли никакой роли. В этой «анонимной» форме, свойственной всей вообще индийской истории, предстоит перед нами индийская философия. Как непохожа она на историю философии Запада, каждому произведению которой свойственна физиономия его автора!
Индийцы забывали все; египтяне ничего не могли забыть. Искусства портрета – этой биографии in nuce [1] – в Индии никогда не существовало; египетская пластика почти не знала другой темы.
Душа египтян, в высшей степени историческая и с первозданной страстью устремляющаяся к бесконечному, ощущала прошлое и будущее как весь свой мир, а настоящее, тождественное бодрствующему сознанию, казалось ей только узкой полоской между двумя неизмеримыми далями. Египетская культура есть воплощение заботы – душевного коррелята дали, – заботы о будущем, которая сказывается в выборе гранита и базальта в качестве материалов для пластики, в высеченных на камне документах, в развитии образцовой системы управления и сети оросительных каналов и необходимо связанной с этим заботы о прошлом. Египетская мумия есть символ высочайшего значения. Тело мертвого увековечивалось, подобно тому как его личности, его «ка», сообщалась вечная жизнь посредством производимых, часто во многих экземплярах, портретных статуй, с которыми личность связывалась очень тонко улавливаемым сходством. Между тем в лучшие времена греческой пластики на портретные статуи, как известно, был наложен запрет.
Существует глубокая связь между отношением к историческому прошлому и пониманием смерти, как оно выражается в форме погребения. Египтянин отрицает тленность, античный человек утверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне сохраняли как бы мумию своей истории – хронологические даты и числа. От досолоновской греческой истории не осталось ни одного памятника, ни одного года, ни одного несомненного имени, ни одного яркого события – на этом основании мы слишком преувеличиваем значение тех памятников, которые до нас дошли, – в то время как мы знаем почти все имена и годы царствования египетских фараонов III тысячелетия, а египтяне позднего времени знали их, разумеется, всех без исключения. В качестве жуткого символа мощной воли к долговечности еще и поныне лежат в наших музеях тела великих фараонов, с заметно сохранившимися чертами лица. На сверкающей отполированной гранитной вершине пирамиды Аменемхета III еще и теперь можно прочесть: «Аменемхет созерцает красоту Солнца» – и на другой стороне: «Душа Аменемхета выше высоты Ориона и соединяется с преисподней». Это преодоление тленности, настоящего; оно в высшей степени неантично.
5.
В противоположность этой модной группе египетских символов жизни на пороге античной культуры появляется сожжение мертвых – символ забвения, – которое распространяется на все внешнее и внутреннее содержание прошлого. Микенской эпохе было совершенно чуждо сакральное предпочтение такой формы погребения перед другими, которые обычно употребляются у первобытных народов. Гробницы царей говорят, скорее, о предпочтении погребения в земле. Но в гомеровскую эпоху, так же как и в эпоху Вед, происходит внезапный и внешне необъяснимый скачок от погребения к сожжению, которое, как это видно из «Илиады», совершалось со всем пафосом символического акта – торжественного уничтожения, отрицания исторической длительности.
С этого момента исчезает также пластичность индивидуального душевного развития. Избегая подлинно исторических мотивов, античная драма не допускает также темы внутреннего развития, и мы знаем, как решительно эллинский инстинкт восстает против портрета в изобразительных искусствах6. До самой императорской эпохи античное искусство знает только один, как бы естественный для него материал – миф.
Идеальные образы греческой пластики тоже мифичны, как типические биографии во вкусе Плутарха. Ни один великий грек не написал воспоминаний, которые запечатлели бы перед его духовным взором пережитую эпоху. Даже Сократ не сказал о своей внутренней жизни ничего значительного в нашем смысле. Спрашивается: возможно ли было вообще существование в душе античного человека качеств, которые необходимы для создания Парсифаля, Гамлета и Вертера? Мы не находим у Платона ни малейшего сознания развития своего учения. Отдельные его диалоги являются исключительно формулировками очень различных точек зрения, на которых он стоял в разные времена. Генетическая связь их никогда не была предметом его размышления. Единственная поверхностная попытка самоанализа, почти не принадлежавшая уже античной культуре, находится в «Бруте» Цицерона. Но уже в начале истории западного духа мы встречаем образец глубочайшего самонаблюдения – «Новая жизнь» Данте. Однако из этого следует, как мало античного, то есть чистого «настоящего», носил в себе Гете, который ничего не забывал. Его сочинения, согласно его собственным словам, были только отрывками одной великой исповеди.
После разрушения персами Афин под их обломками были похоронены все произведения раннего искусства, откуда мы теперь вновь извлекаем их на свет. Нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из греков заинтересовался развалинами Микен или Феста. Читали Гомера, но не думали, подобно Шлиману, о раскопке троянских холмов. Хотели мифа, а не истории. Уже в эллинистический период была потеряна часть сочинений Эсхила и досократовских философов. Но уже Петрарка собирал памятники древности, монеты, рукописи с благоговением и любовью, свойственными лишь нашей культуре. Наделенный историческим чутьем, озирающийся на отдаленные миры, стремящийся к далям – он первый совершил восхождение на вершину Альп, – Петрарка был, в сущности, чужд своему времени. Лишь из этой связи с проблемой времени развивается психология коллекционера. Понятно, почему этот культ прошлого, стремящийся сообщить ему нетленность, оставался совершенно незнакомым античному человеку, в то время как Египет уже в эпоху великого Тутмоса превратился в один огромный музей традиций и архитектуры.
Один из западных народов, именно немцы, изобрел механические часы, этот жуткий символ текущего времени. Бой часов, звучащий днем и ночью с бесчисленных башен Западной Европы, есть, может быть, самое чудовищное выражение, которое вообще способно дать себе историческое мироощущение7. Ничего этого не встречается во вневременном античном ландшафте и городе. В Вавилоне и Египте были изобретены водяные и солнечные часы, но лишь Платон ввел в Афинах водяные часы, опять-таки перед самым концом цветущего периода Греции. Еще позднее вошли в употребление солнечные часы, как несущественный прибор повседневного обихода, нисколько не изменивший античного мироощущения.
Здесь следует упомянуть еще об одном очень глубоком и ни разу вполне не оцененном различии, именно различии между античной математикой и математикой Запада. Античная математическая мысль воспринимает вещи как они суть, как величины, вневременно, в чистом настоящем. Результатом этого является Эвклидова геометрия, математическая статика и предельное достижение античной математики – учение о конических сечениях. Мы же воспринимаем вещи как они становятся и относятся друг к другу, как функции. Это ведет к динамике, к аналитической геометрии и от нее – к дифференциальному исчислению8. Современная теория функций является гигантским упорядочением всей этой массы мыслей. Странен, но психологически строго обоснован факт, что греческая физика, как статика, в противоположность динамике, не знает употребления часов и не нуждается в них; в то время как мы считаемся с тысячными долями секунды, она совершенно отказывается от измерения времени. Энтелехия Аристотеля есть единственное вневременное – не историческое – понятие развития, которое дает нам античность.
Итак, наша задача установлена, поскольку жизнь есть осуществление душевно возможного и новое понятие душевно невозможного сообщает другую точку зрения на вещи. Мы, люди западноевропейской культуры, точно ограниченного во времени периода от X до XX столетия, представляем исключение, а не правило. «Всемирная история» естьнаш, а не «общечеловеческий» образ мира. У индийцев и древних не существовало образа становящегося мира как рода и формы созерцания. И, может быть, когда угаснет цивилизация Запада, носителями которой мы ныне являемся, то более не появится уже культура и, стало быть, человеческий тип, для которого «всемирная история» есть одна из форм и одно из содержаний космического сознания.
6.
В самом деле, что такое «всемирная история»? Духовная возможность, внутренний постулат, выражение чувства формы? Разумеется. Но сколько бы ни было определенным чувство, оно не составляет еще законченной формы, и, как бы уверенно все мы ни чувствовали, ни переживали всемирную историю, как бы ни считали, что мы с полной ясностью схватываем ее образ, все же несомненно, что до сих пор мы знаем только формы ее, а не форму.
Несомненно, каждый, кого бы ни спросили, убежден, что он ясно и отчетливо созерцает периодическую структуру истории. Эта иллюзия покоится на том, что никто серьезно не задумывался над нею и что мы нисколько не сомневаемся в своем знании, ибо мы вовсе не подозреваем, сколько здесь поводов для сомнений. В действительности образ всемирной истории есть непроверенное духовное достояние, которое даже среди профессиональных историков передается неприкосновенным, по наследству, из поколения в поколение и в отношении которого была бы весьма полезной небольшая доза того скепсиса, который со временем Галилея расчленил и углубил прирожденное нам представление природы.
Древность – Средневековье – Новое время: такова та невероятно скудная и бессмысленная схема, абсолютное господство которой над нашим историческим сознанием всегда мешало нам правильно оценить небольшую часть мира, развернувшуюся со времени немецких императоров на территории Западной Европы, понять ее действительное место в системе всемирной истории, то есть всеобщей истории высшего человечества, уразуметь ее смысл, ее облик и особенно продолжительность ее жизни. Будущим культурам покажется почти невероятным, что этот план, с его наивной прямолинейностью и нелепыми пропорциями, становящийся с каждым столетием все более бессмысленным и совершенно не допускающий естественного включения вновь выступающих на свет нашего исторического сознания областей, – что этот план все же никогда не вызывал серьезных сомнений. Критика, которой он подвергся, и значительные модификации, которые ему пришлось испытать, как, например, перенесение начала «нового времени» с Крестовых походов на эпоху Возрождения и оттуда на рубеж XIX столетия, указывают лишь на то, что сам он считался непоколебимым, чуть ли не результатом божественного откровения, во всяком случае чем-то само собой разумеющимся, своего рода априорной формой исторического созерцания, как ее описал Кант.
Однако эта принятая всеми форма не допускала никакого углубления, и так как от нее не отказывались, то отказывались от действительного понимания всемирно-исторических связей. По ее вине важные морфологические проблемы истории не могли обнаружиться. Она удерживала рассмотрение истории на таком уровне, которого стыдилась бы всякая другая наука.
Достаточно указать на то, что этот план чисто внешним образом относит начало и конец туда, где в более глубоком смысле о начале и конце не может быть и речи. В нем территория Западной Европы образует как бы покоящийся полюс (математически выражаясь, сингулярную точку на поверхности шара), вокруг которого – неизвестно почему, разве только потому, что мы, авторы этой исторической картины, как раз здесь чувствуем себя дома, – скромно вращаются тысячелетия необъятной истории и грандиозные культуры далекого прошлого9. Это в высшей степени своеобразно изобретенная планетная система. Небольшое пятнышко становится центром тяжести исторической системы. Это как бы центральное солнце. Из этой точки события истории получают правильное освещение, из нее перспективно измеряется их значение. Но в действительности здесь говорит не обузданное никаким скепсисом тщеславие европейца, в духе которого развертывается этот фантом «всемирной истории». Ему мы обязаны давно уже вошедшим в привычку огромным оптическим обманом, в силу которого исторический материал, отделенный от нас тысячелетиями, например история Древнего Египта и Китая, сжимается до размеров миниатюры, тогда как десятилетия, близкие к собственному местонахождению, начиная с Лютера и особенно с Наполеона, чудовищно разбухают. Мы знаем, что только кажется, будто облако плывет тем медленнее, чем выше оно находится, а поезд, движущийся на горизонте, едва ползет. Но мы уверены, что темп ранней индийской, вавилонской и египетской истории был действительно более медленным, чем темп нашего ближайшего прошлого. И мы считаем субстанцию истории этих культур более тощей, ее формы – более смутными и более расплывчатыми, потому что мы не научились учитывать внутреннее и внешнее расстояние. Нигде не выступает ярче, чем здесь, недостаток духовной свободы и самокритики, отличающий в наше время исторический метод от других методов не в его пользу.
Само собою понятно, что для западноевропейской культуры, которая – скажем, с Наполеона – налагает на мир, по крайней мере внешним образом, печать своих форм, существование Афин, Флоренции и Парижа более важно, чем многое другое. Но превращать это обстоятельство в принцип построения всеобщей истории только потому, что мы живем в сфере западной культуры, – значит обнаружить узость своего кругозора. С таким же правом китайский историк мог бы в свою очередь построить всемирную историю, в которой крестовые походы и эпоха Возрождения, Цезарь и Фридрих Великий были бы обойдены молчанием, как события, лишенные значения. Злободневный политик и социальный критик при оценке иных времен могут давать волю своему личному вкусу, так же как химик-техник, подходя к вопросу практически, может трактовать дериваты бензола как важнейший отдел естествознания и не замечать, например, электродинамики; но мыслитель обязан исключать свою личность из своих построений. Почему с морфологической точки зрения XVIII столетие должно считаться более важным, чем одно из шестидесяти предшествующих? Не смешно ли «Новое время», то есть несколько столетий, да к тому же локализованных преимущественно в Западной Европе, противопоставлять «Древности», которая обнимает столько же тысячелетий и к которой масса всех догреческих культур причисляется просто как привесок, без попытки какого-либо более глубокого расчленения? Разве ради спасения устарелой схемы не разделываются с Египтом и Вавилоном как с прологом к античности? С теми самыми Египтом и Вавилоном, замкнутые в себе истории которых, каждая в отдельности, далеко превосходят всю мнимую «всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны. Разве не отправляли со смущенным видом в примечания мощные комплексы индийской и китайской культуры и не игнорировали вообще великие американские культуры на том основании, что им недостает «связи» (с чем)? Это наша «всемирная история». Так думает негр, который делит весь мир на свою деревню, свое племя и «остаток» и который считает луну значительно меньшей, чем поглощающие ее облака.
Я называю эту привычную для западноевропейца схему, согласно которой высокоразвитые культуры совершают свой бег вокруг нас как вокруг мнимого центра всех мировых событий, птоломеевской системой истории и развиваемую в этой книге новую систему считаю Коперниковым открытием в области истории. В этой системе античный мир и Западная Европа ни в каком случае не занимают привилегированного положения по сравнению с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабским миром и культурой майи; все это меняющиеся проявления и выражения единой жизни, в глубинах пребывающей в покое. В общей картине истории эти самостоятельные миры становления равноценны, а грандиозностью душевной концепции и силой роста они во много раз превосходят эллинскую культуру.
7.
Схема «Древность – Средневековье – Новое время» есть переданный нам церковью продукт творчества гностики, то есть семитического, главным образом сирийско-иудейского, мироощущения римской императорской эпохи.
В пределах очень узких границ, составляющих предпосылку этой значительной концепции, она была, безусловно, правомерной. В круг рассмотрения здесь не входит ни индийская, ни даже египетская история. В устах гностиков слово «всемирная история» означает однократный, в высшей степени драматический акт, театром которого была территория между Элладой и Персией. Это воззрение характерно для резко дуалистического мироощущения Востока, в котором вопреки тогдашней метафизике противопоставляются друг другу не полярность души и духа, но периоды истории, которая понимается как катастрофа, как смена двух эпох между творением и гибелью мира, причем все моменты, не фиксированные античной литературой и Библией, совершенно не принимаются в расчет. В этой картине мира в качестве «Древности» и «Нового времени» выступает обязательная тогда противоположность языческого и христианского, античного и восточного, статуи и догмы, природы и духа во временном их порядке, как процесс преодоления одного другим.
Историческая смена носит на себе печать религиозного искупления. Несомненно, это была узкая, насквозь провинциальная точка зрения, однако вполне логичная и внутренне завершенная. Это был взгляд, присущий определенной местности и определенным людям и не способный ни к какому дальнейшему распространению естественным путем.
Только благодаря механическому присоединению третьей эпохи – нашего «Нового времени» – в эту картину на европейской почве была внесена тенденция к движению. Восточная картина представляла собой покоящуюся, замкнутую, пребывающую в равновесии антитезу с однократным божественным? актом в центре. Стерилизованный таким образом отрывок истории, воспринятый совершенно новым родом людей, вдруг стали, не сознавая неестественности такого изменения, продолжать в виде линии, которая от Гомера или Адама – сюда прибавились в настоящее время индогерманцы, каменный век и человекоподобная обезьяна – вела через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж вверх или вниз в зависимости от личного вкуса историка, мыслителя или художника, который с безграничной свободою интерпретировал эту трехчастную картину.
Итак, к двум взаимно дополняющим друг друга понятиям «язычества» и «христианства», которые рассматривались как две последовательные эпохи, было добавлено «Новое время» как завершающее их понятие. Забавным образом оно не допускает в свою очередь продолжения этой операции; неоднократно «растянутое» после крестовых походов, оно кажется совершенно неспособным к дальнейшему растягиванию. Существовало молчаливое убеждение в том, что здесь, вслед за Древностью и Средними веками, начинается невто окончательное, какое-то Третье царство, заключающее в себе свершение, кульминационный пункт, цель, знание которой все, от схоластиков до социалистов наших дней, приписывали исключительно себе. Это был взгляд на историю настолько же удобный, насколько лестный для его изобретателя. Дух Запада был попросту отождествлен со смыслом мира. Великие мыслители возвели духовную нищету в метафизическую добродетель. Схему, освященную одним лишь consensus omnium [2], без всякой серьезной критики они сделали базисом философии, каждый раз взваливая на Бога роль автора «мирового плана». Мистическая троица мировых эпох и без того имела в себе нечто очень соблазнительное для метафизического вкуса. Гердер называл историю воспитанием человеческого рода, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, каждый по-своему. Но в подобного рода схемах сила исторического творчества была уже исчерпана.
Идея Третьего царства была известна уже аббату Иоахиму Флорскому (ум. 1202), который рассматривал три фазы истории как символ Отца, Сына и Святого Духа. Лессинг, неоднократно называвший свое время эпилогом античности, идею своего «Боепитания человеческого рода» (со ступенями детства, юности и зрелого возраста) заимствовал из учений мистиков XIV столетия, а Ибсен, основательно разработавший ее в драме «Кесарь и Галилеянин» (где гностическое миропонимание вторгается непосредственно в образе волшебника Максима), держался совершенно тех же убеждений в своей известной Стокгольмской речи 1887 года. По-видимому, это стремление рассматривать собственное бытие как своего рода завершение является требованием западноевропейского самосознания.
Но совершенно недопустимо, истолковывая всемирную историю, давать волю своим политическим, религиозным и социальным убеждениям и сообщать трем фазам, которые никто не решается поколебать, такое направление, что они с точностью приводят к собственной позиции. В результате целые тысячелетия измеряются как абсолютными масштабами такими понятиями, как умственная зрелость, гуманность, счастье большинства, экономическая эволюция, просвещение, свобода народов, господство над природой, научное миросозерцание и т. п.; и когда действительные стремления чуждых нам эпох не совпадают с нашими, то исследователи доказывают, что народы пребывали в заблуждении или не умели достигнуть истины. «В жизни важна сама жизнь, а не ее результат» – эти слова Гете следовало бы противопоставлять всякого рода глупым попыткам разгадать тайну исторической формы посредством программы.
Такая же картина рисуется историками отдельных искусств и наук, в том числе политической экономией и философией. Тут перед нами «живопись» от египтян (или от пещерных людей) до импрессионистов, «музыка» от слепого певца Гомера до Вагнера, общественный строй от обитателей свайных построек до социализма, рассматриваемые как прямолинейный прогресс, в основу которого кладется какая-нибудь одна неизменная тенденция. При этом совсем не допускают возможности того, что искусства обладают определенной продолжительностью времени, что они связаны с определенной местностью и с определенным видом людей, являясь выражением их души, и что, следовательно, все эти общие истории являются лишь внешним суммированием большего или меньшего числа единичных явлений, отдельных искусств, которые не имеют ничего общего между собою, кроме названия да некоторых приемов техники.
Такой взгляд на мир не лишен комизма. Во всякой другой области живой природы мы требуем для себя права извлекать из самого явления наше представление о его структуре, лежащей в основе его существования, – безразлично, путем ли опыта или путем интуитивного постижения его внутренней сущности. Мы знаем, что жизненные явления какого-нибудь животного или растения позволяют нам заключать относительно родственных видов, что все живое есть носитель таинственного порядка, к которому неприменимы понятия закона, числа, причинности, и мы делаем отсюда определенные морфологические выводы. Только здесь, где дело идет о самом человеке, мы без всякой критики признаем значимость произвольной исторической формы его бытия и, хорошо или худо, втискиваем факты в готовую схему. Если это не удается – тем хуже для фактов. Мы тогда третируем их, как, например, историю Китая, или же просто считаем недостойными внимания, как культуру майи. «Они ничего не вносят в конструкцию всемирной истории»… Драгоценное изречение.
О каждом организме мы знаем, что он имеет строго определенный темп, форму и длительность своей жизни и каждого отдельного ее проявления. Никто не станет ожидать, что тысячелетний дуб только еще собирается начать процесс своего настоящего развития. Никто не воображает, что гусеница, рост которой мы наблюдаем ежедневно, будет расти еще в продолжение двух лет. В этом случае всякий с безусловной достоверностью чувствует границу, и это чувство есть не что иное, как чувство органических форм. Напротив, когда мы занимаемся историей культурного человечества, то в отношении его будущего мы находимся во власти безграничного тривиального оптимизма. Здесь умолкает всякий психологический и физиологический опыт, так что всякий в случайном настоящем совершенно произвольно устанавливает «задатки» какого-то особенно замечательного прямолинейного «прогрессивного развития». В этих случаях всегда принимают в расчет безграничные возможности, но никогда не учитывают естественного конца и, принявши за исходный пункт любой исторический момент, самым наивным образом строят дальнейшее развитие.
Но «человечество» не имеет никакой идеи, никакого плана, совершенно так же как их не имеет какой-нибудь вид бабочек или орхидей. «Человечество» есть пустой звук. Стоит только этому фантому исчезнуть из кругозора проблемы исторической формы, как тотчас всплывает поразительное богатство действительных форм. Здесь заключены неизмеримая полнота, глубина и движение всего живого, которые до сих пор были скрыты фразами, сухими схемами и личными «идеалами». Вместо монотонного образа растянутой в линию всемирной истории, который можно считать правильным, только если мы закроем глаза на несметное число фактов, я вижу множество могучих культур, с первозданной силой расцветающих на лоне родной местности, с которой каждая из них остается тесно связанной все время своей жизни. Каждая из них дает собственную форму своему материалу – человечеству; каждая из них имеет собственную идею, собственные страсти, собственные жизнь, волю, чувство и собственную смерть. Здесь есть краски, свет, движение, которые не открылись еще ни одному умственному взору. Существуют расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истина, боги, местности, подобно тому как бывают молодые и старые дубы, пинии, цветы, ветви и листья, но нет никакого стареющего «человечества». Каждая культура имеет ограниченное число возможностей своего выражения; она появляется, зреет, вянет, но никогда не возрождается. Есть много, по существу, совершенно отличных друг от друга скульптур, живописей, математик, физик, из которых каждая имеет свою ограниченную продолжительность жизни, замкнута в себе, подобно тому как каждый вид растений имеет свои цветы и плоды, свой тип роста и увядания. Эти культуры, живые существа высшего порядка, растут совершенно бесцельно, как цветы на поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат живой природе Гете, а не мертвой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу образ вечного созидания и разрушения, чудесного возникновения и гибели органических форм. Профессиональный же историк представляет ее в виде ленточного червя, неутомимо «прикладывающего» эпохи.
Однако комбинация «Древность – Средневековье – Новое время» в конце концов исчерпала себя. Какой бы узкой и плоской ни была эта схема, она все же представляла собою единственное из бывших у нас философское понимание историй. По крайней мере то, что получило литературную обработку под названием всемирной истории, обязано ей находящимися в нем крупицами философского содержания. Но уже давно прошло то максимальное число столетий, которое могло быть охвачено этой схемой. Под влиянием быстро растущего исторического материала, который не укладывается в нее, традиционный образ начинает расплываться в необозримый хаос. Это знает и чувствует каждый историк, еще не дошедший до полной слепоты; он всеми силами старается держаться за единственную известную ему схему только из боязни совсем потонуть. Слово «средневековье», введенное в 1667 году лейденским профессором Горном, должно в настоящее время охватывать собою бесформенную, постоянно растущую массу фактов, которая определяется чисто отрицательно, как то, что ни под каким предлогом не может быть отнесено к двум другим кое-как упорядоченным комплексам. Примером может служить неуверенное изложение и оценка новоперсидской, русской и арабской истории. Теперь нельзя больше закрывать глаза на то обстоятельство, что мнимо всемирная история ограничивается сначала восточной областью Средиземного моря, а позже, начиная с эпохи «переселения народов» – события на самом деле чисто местного и важного только для нас, а потому чрезвычайно преувеличенного, события, которое совсем не касается уже арабской культуры, – вместе с внезапной переменой сцены она сосредоточивает свое внимание на Средней Европе. Гегель с величайшей наивностью объявляет, что он будет игнорировать народы, для которых не находится места в его системе истории. В сущности, это было благородным признанием методических предпосылок, без которых ни один историк не достигал цели.
Этот пункт может служить пробным камнем диспозиции всех исторических сочинений. В самом деле, вопрос о том, какие исторические явления мы должны серьезно принимать во внимание и какие нет, в настоящее время есть вопрос научного такта. Ранке служит хорошим примером для этого.
8.
Мы должны в настоящее время признать, что характер нашего мышления определяется географическими условиями. Только наши философы и историки не научились еще этому. Могут ли иметь какое-нибудь значение для нас мысли и перспективы, претендующие на универсальную значимость? Ведь их горизонт не простирается дальше духовной атмосферы западноевропейского человека.
Рассмотрим под этим углом зрения наши лучшие произведения. Во всех своих рассуждениях о человечестве Платон имеет в виду греков в противоположность варварам. Это вполне соответствует неисторическому стилю античной жизни и мысли и при такой предпосылке приводит к вполне правомерным с логической точки зрения результатам. Но когда Кант рассуждает хотя бы об этических идеалах, то он убежден, что его положения значимы для всех народов и всех времен. Кант только открыто не высказывает этого, так как это само собою понятно для него самого и для его читателей. В своей эстетике он формулирует не принципы искусства Фидия или Рембрандта, а принципы искусства вообще. Однако формы, устанавливаемые им как необходимые для каждого человеческого мышления, являются все-таки только формами, необходимыми для западноевропейского мышления. Достаточно взглянуть на Аристотеля, с его существенно отличными результатами, и мы убедимся, что тут размышляет о себе не менее ясный ум, а ум иначе устроенный. Для русских философов, как, например, для Соловьева, непонятен космический солипсизм, который лежит в основе Кантовой «Критики чистого разума» (всякая, даже самая абстрактная теория является выражением определенного мироощущения) и делает ее с точки зрения западноевропейцев самой истинной из всех философских систем; а для современных китайцев или арабов, с их совсем по-иному устроенными умами, учение Канта является не более как курьезом.
Западноевропейскому мыслителю присущ недостаток, который как раз у него должен бы отсутствовать: он не сознает исторически относительного характера своих выводов, типических только для людей определенной культуры; у него нет знания необходимых границ значимости его мышления; у него отсутствует убеждение, что «непоколебимые истины» и «вечные понятия» истинны только для него и вечны только в его мировоззрении и что его долг подняться выше их и поискать «непоколебимых истин» и «вечных понятий», которые с такой же уверенностью были высказаны людьми других культур. Это необходимо для полноты философии будущего. Лишь это означает постигнуть язык форм истории, форм живого мира. Здесь нет ничего пребывающего и всеобщего. Пора прекратить разговоры о формах мышления вообще, о принципах трагического вообще, о задачах государства вообще. Общезначимость есть лишь ошибочное перенесение своих субъективных качеств с себя на других.
Дело принимает гораздо более опасный оборот, если мы обратимся к мыслителям современной Западной Европы начиная с Шопенгауэра. Центр тяжести философствования этих мыслителей переносится из абстрактно-систематической в практически-этическую сферу, где вместо проблемы познания выступает проблема жизни (воли к жизни, к власти, к действию). Здесь предметом рассмотрения служит уже не идеальный абстрактный «человек», как у Канта, а реальный человек в том виде, как он живет на земле в историческое время – в первобытном состоянии или в культурно-национальных группировках, – и прямо смешно, когда и в этом случае объем высших понятий определяется схемой «Древний мир – Средневековье – Новое время» и связанными с нею пространственными границами. Однако это так.
Взглянем на исторический горизонт Ницше, на его формулировку понятий декаданса, нигилизма, переоценки всех ценностей, концепций, заложенных глубоко в сущности западноевропейской цивилизации и имеющих решающее значение для ее анализа. Спрашивается: что лежало в основе этих формулировок? Римляне и греки, Возрождение и европейская современность да еще беглый экскурс в область индийской философии (неправильно понятой). Короче говоря: «Древний мир – Средневековье – Новое время». Таким образом, Ницше, да и другие мыслители ни разу не возвысились над своей эпохой. Но разве это может служить основой философии мира? Разве это рассмотрение человеческой истории вообще! И можно ли удивляться, что Ницше, ничего не знавший о Египте, Вавилоне, Китае и России, переходя от отдельных наблюдений к широким обобщениям – сюда относятся его мысли о морали господ, о белокуром звере, о сверхчеловеке, – тотчас же создает суммарные, мнимо мирообъемлющие построения, которые в действительности провинциальны, совершенно произвольны и даже смешны.
В самом деле, каково отношение его понятия «дионисовского» к внутренней жизни высокоцивилизованного китайца эпохи Конфуция или современного американца? Каково значение его типа сверхчеловека для магометанского мира? Какое значение может иметь для души индийца или русского его антитеза понятий природы и духа, язычества и христианства, античности и современности? Что общего может быть у Толстого, от глубины своей души отвергнувшего весь идейный мир Запада как нечто для него чуждое и далекое, со «Средними веками», Данте и с Лютером? Каково может быть отношение японца к Парсифалю и Заратустре, индийца к Софоклу? А разве мир философских идей Шопенгауэра, Канта, Фейербаха, Геббеля, Стриндберга шире? Разве вся их психология, несмотря на ее космические претензии, не является насквозь западноевропейской? Какое комическое впечатление производят ибсеновские женские проблемы, претендующие также на внимание всего «человечества», в том случае если мы на место знаменитой Норы, женщины, получившей протестантское воспитание, живущей в северо-западном большом европейском городе, женщины с кругозором человека, платящего за квартиру от 2 тысяч до 6 тысяч марок, поставим жену Цезаря, г-жу де Севинье, японку или тирольскую пастушку? Да и воззрения самого Ибсена есть сегодняшние и вчерашние воззрения среднего класса большого города. Его конфликты, психологические предпосылки которых возникли не раньше 1860 года и едва ли переживут 1950 год, уже и в настоящее время не являются конфликтами, типичными для широких слоев общества и народных масс, не говоря уже о городах с неевропейским населением.
Все эти ценности носят местный, эпизодический характер, они имеют большей частью значение для ограниченного круга современной интеллигенции больших городов западноевропейского типа и ни в каком случае не могут рассматриваться как всемирно-исторические, вечные ценности. Если они имеют существенное значение для поколения Ибсена и Ницше, то подчинять им факторы, лежащие вне современных интересов, – значит недостаточно оценить или упустить из виду эти факторы, значит обнаружить непонимание слов «всемирная история», которые относятся не к отдельным явлениям, а ко всей их совокупности. И в большинстве случаев это приходится констатировать. До сих пор все соображения западноевропейцев о проблемах времени, пространства, движения, числа, воли, брака, все суждения о вопросах собственности, трагического и науки оставались близорукими и вызывающими сомнения. Такое положение дела есть результат постоянного стремления найти решение вопроса «вообще», вместо того чтобы понять, что для множества вопрошающих существует множество ответов, что философский вопрос есть не что иное, как скрытое желание получить определенный ответ, уже содержащийся в замаскированном виде в самом вопросе, что великие вопросы какого-нибудь времени следует рассматривать как нечто эфемерное и что поэтому необходимо допустить существование группы исторически обусловленных решений, лишь полный обзор которых (при совершенном отказе от собственных убеждений) может раскрыть тайны. Для подлинного мыслителя нет никаких абсолютно правильных или абсолютно ложных точек зрения. Перед лицом таких трудных проблем, как проблема времени или брака, совершенно недостаточно обращаться к личному опыту и внутреннему чувству, разуму, мнению предшественников или современников. Таким путем мы можем убедиться лишь в истине для нас самих, для нашего времени, но это еще не все. Другие культуры говорят другими языками. Для других людей – другие истины. Для мыслителя эти истины либо все действительны, либо ни одна.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
в зародыше, в зачатке (латин.).
2
всеобщее согласие (латин.).