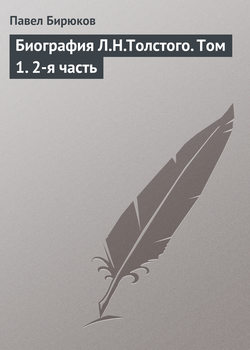Читать книгу Биография Л.Н.Толстого. Том 1. 2-я часть - Павел Бирюков - Страница 1
Глава 9. Петербург
ОглавлениеПрисланный курьером в Петербург, Лев Николаевич был зачислен в ракетную батарею под начальством генерала Константинова и больше уже не возвращался к армии.
Прибыв в Петербург 21-го ноября 1855 г., он сразу попал в кружок «Современника» и был принят там с распростертыми объятиями. Вот как рассказывает Лев Николаевич об этом времени в своей «Исповеди»:
«В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное, – я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достиг этого: меня хвалили.
Двадцати семи лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне».
Конечно, за 20 лет до написания этих строк Лев Николаевич был обуреваем другими чувствами, хотя зачатки этого скептицизма, этого беспощадного самоанализа и тогда уже проявлялись и удивляли его товарищей.
«Современник» был журнал, основанный А. С. Пушкиным и Плетневым. Первый номер его вышел в 1836 году; по смерти Пушкина, в 1838-46 гг., его издавал Плетнев, и журнал совершенно заглох. В 1847 году право на его издание было приобретено Панаевым и Н. А. Некрасовым, которые в сотрудничестве с известным критиком Белинским быстро сумели привлечь к участию в журнале лучшие литературные силы и до своего прекращения, по распоряжению властей в 1866 г., журнал этот представлял собою главный прогрессивный орган русской художественной, критической и публицистической литературы.
Ко времени появления в Петербурге Льва Николаевича Толстого более интимный кружок «Современника» составляли литераторы, изображенные на двух известных группах, т. е. Панаев, Некрасов, Тургенев, Толстой, Дружинин, Островский, Гончаров, Григорович и Соллогуб. Можно назвать еще из не изображенных на группах В. П. Боткина, Фета и др.
Главные сотрудники «Современника» связаны были некоторыми артельными обязательствами по отношению к участию в журнале и участвовали в дележе дивиденда. Эти обязательства часто тяготили участников и служили причиной различных неприятных столкновений в литературной среде. Издатели и редакторы других журналов выпрашивали у знаменитых писателей литературные милостыни, на что обижалась администрация «Современника», и наоборот. Об одном из таких столкновений рассказывает немецкий биограф Левенфельд:
«Между Тургеневым и Катковым возникла ссора, в которую был запутан и Толстой, хотя отчасти и по своей вине. Тургенев был прежде прилежным сотрудником Каткова, и последнему, конечно, было неприятно потерять такого выдающегося писателя. Он поручил своему брату ежедневно посещать обоих молодых писателей и просить у них статей для своего журнала. Тургенев, утомленный этим вечным напоминанием, как-то раз обещал дать что-нибудь для Каткова, но не мог исполнить этого обещания. Катков страшно рассердился и стал публично оскорблять Тургенева, доказывая, что раз Тургенев обязался сотрудничать в его журнале, то он не имел права труды пера своего отдавать «исключительно» «Современнику». Но как член артели «Современника» он также не имел права давать обещания работать для катковского журнала. Его мягкая, уступчивая натура и в этот раз сослужила ему недобрую службу.
Толстой вступился за своего друга. Он написал Каткову длинное письмо в оправдание Тургенева. «Кротость характера Тургенева, его любезность, – писал Толстой в письме, – заставили его дать обещание обеим сторонам». Он просил Каткова опубликовать это оправдательное письмо. Катков соглашался, но с условием опубликовать также и свой на него ответ, и прислал Толстому план своего письма. Но содержание этого ответа было такого рода, что Толстой предпочел устранить себя от вмешательства».
Артель «Современника» просуществовала недолго и перешла в обычную журнальную организацию.
Белинского Толстой не застал в «Современнике»; как известно, Белинский умер в 48-м году, много потрудившись над постановкой журнального дела. Его энтузиазм вдохнул душу в этот умиравший журнал и надолго упрочил его существование. Но на Льве Николаевиче прямого влияния Белинского не заметно.
С одной стороны, причиною тому простая разность эпох; Белинский был человеком 40-х годов в полном смысле этого слова, а Лев Николаевич выступил на литературную деятельность в 50-х годах и застал только продолжателей Белинского, уже не имевших его привлекательной силы. С другой стороны, та среда, в которой воспитался Толстой, не способствовала его сближению с литературными «разночинцами», как они сами себя называли. Он держался своего кружка более близких ему по воспитанию людей и даже среди них был всегда замкнутым, независимым, большею частью протестующим и, конечно, влияющим, но мало воспринимающим влияния извне. Можно указать и на более глубокую причину, принципиальную. Хотя в 50-х годах у Л. Н-ча еще не сложилось никакого определенного мировоззрения, но направление «Современника» никогда не привлекало его.
Наконец, по собственному признанию Льва Николаевича, на его литературную деятельность оказывали влияние всегда более художественные таланты, а не публицистические.
Наибольшее философское влияние еще в юности он испытал со стороны Руссо. Говоря о французской литературе с посетившим его весною 1901 года парижским профессором Буайе, Лев Николаевич выразился так о своих двух учителях, Руссо и Стендале:
«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая «Словарь музыки». Я более чем восхищался им, – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам.
Что касается Стендаля, – продолжал он, – то я буду говорить о нем только как об авторе «Chatreuse de Parme» и «Rouge et noir». Это два великие, неподражаемые произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в «Chatreuse de Parme» рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него писал войну такою, т. е. такою, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и «ничего» не понимающего. И как гусары с легкостью перекидывают его через труп лошади, его прекрасной, генеральской лошади? Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. «Все это прикрасы, – говорил он мне, – а на войне нет прикрас». Вскоре после этого в Крыму мне уже легко было все это видеть собственными глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля».
Укажем еще названия некоторых произведений литературы из списка, уже цитированного нами, читающихся Л. Н-чем в это время.
В период от 20 до 35 лет на Льва Николаевича произвели наибольшее влияние следующие произведения:
Название произведений. Степень влияния.
Гете. «Герман и Доротея» Очень большое.
В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери» Очень большое.
Тютчев. Стихотворения Большое.
Кольцов. Стихотворения Большое.
Фет. Стихотворения Большое.
Платон (в переводе Кузена). Федон и Пир Очень большое.
Одиссея и Илиада, читанные по-русски. Очень большое.
Таким образом, мы получаем более или менее полную картину литературного воспитания Толстого.
В кружок петербургских литераторов Лев Николаевич принес свою сильную, художественную, впечатлительную натуру и свой непреклонный, часто задорный характер и произвел бурю в этой спокойной, умеренной среде.
Вот как рассказывает о появлении Льва Николаевича в Петербурге Фет в своих воспоминаниях:
«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.
– Что это за полусабля? – спросил я, направляясь в дверь гостиной.
– Сюда пожалуйте, – вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор, – это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.
В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса, из боязни разбудить спящего за дверью графа. «Вот все время так, – говорил о усмешкой Тургенев. – Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой».
В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формально, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слыхал о нем как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из «Детства». Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.
– Я не могу признать, – говорил Толстой, – чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями.
– Зачем же вы к нам ходите? – задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. – Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б-й-Б-й.
– Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения.
Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему слышанному мною в нашем кружке полагаю, что Толстой был прав, и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.
Кто из нас в те времена не знал веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказывать смешной анекдот, Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами? Вот что, между прочим, передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым по той же квартире Некрасова: «Голубчик, голубчик, – говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу, – Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, Боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «не могу больше! у меня бронхит!» и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. «Бронхит, – ворчит Толстой вслед, – бронхит – воображаемая болезнь. Бронхит – это металл». Конечно, у хозяина-Некрасова душа замирает: он боится упустить и Тургенева, и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»
– Я не позволю ему, – говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, – ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками».
Д. В. Григорович в своих «литературных воспоминаниях» рассказывает еще один подобный же эпизод из времени первого знакомства Льва Николаевича с петербургскими литераторами.
«Вернувшись из Марьинского в Петербург, я встретился с графом Л. Н. Толстым; знакомство мое с ним началось еще в Москве, у Сушковых, когда он носил военную форму. Он жил в Петербурге, на Офицерской улице, в нижнем этаже небольшой квартиры, как раз окно в окно с квартирой литератора М. Л. Михайлова. С ним, кажется, он не был знаком. Наем постоянного жительства в Петербурге был необъясним для меня; с первых же дней Петербург не только сделался ему несимпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно.
Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника», и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Санд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Санд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».
Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего – его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось, чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывал не прямой вопрос, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда начался у него раз спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком».
Это оппозиционное направление Толстого хорошо видно еще из следующего эпизода, рассказанного в воспоминаниях Г. П. Данилевского:
«Я познакомился с Толстым в Петербурге, в конце пятидесятых годов, в семействе одного известного скульптора-художника. Тогда автор «Севастопольских рассказов» только что приехал в Петербург и был молодым и статным артиллерийским офицером. Его очень схожий портрет того времени помещен в известной фотографической группе Левицкого, где вместе с ним изображены Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский и Дружинин. Граф Л. Н. Толстой, как теперь помню, пошел тогда в гостиную хозяйки дома во время чтения вслух нового произведения Герцена. Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена».
Мы знаем, что впоследствии Лев Николаевич изменил свое мнение о Герцене, и мы скажем об этом в своем месте.
Евг. Гаршин, в своих воспоминаниях о Тургеневе, передает следующее интересное мнение Тургенева о Толстом, дающее нам уже заранее тот элемент разъединения, который едва не привел их отношения к роковому концу:
«У Толстого, рассказывал Тургенев, рано сказалась черта, которая затем легла в основание всего его довольно мрачного миросозерцания, мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит. Иван Сергеевич говорил мне, что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который, в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания, способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой. Предметом своих испытаний, граф Толстой избрал между прочим (и почти исключительно) своего друга Тургенева. Ему, как рассказывал Иван Сергеевич, не давало покоя известное самообладание нашего писателя и душевная ровность в тот период блестящего расцвета его литературной деятельности, и граф Толстой как бы задался целью вывести из себя этого спокойного, доброго человека, работающего с уверенностью, что он делает дело. Но в том-то и заключалась беда, что граф Толстой ни во что это не верил, и ему казалось, что люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или стараются проявлять в себе такое качество, что они напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач.
Тургенев понимал ясно, как относится к нему граф Толстой, но хотел во что бы то ни стало выдержать характер и сохранить свое самообладание. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал в Москву и затем к себе в деревню, но граф Толстой следовал за ним по пятам, «как влюбленная женщина», выражался Иван Сергеевич, рассказывая всю эту историю».
Из всех этих указаний на отношения двух писателей можно видеть, что настоящей духовной близости между ними не могло быть. Но поток освободительного течения нес их обоих по одному направлению, и они считали себя товарищами по работе. Кроме того, принадлежность их обоих к высшему привилегированному классу, образование, первенство их талантов в их писательском кружке помимо их воли внешним образом сближало их. Но как увидят читатели из последующего рассказа, как только они пытались перейти эту товарищескую черту, так происходило столкновение, порой подвергавшее опасности их дорогие жизни. Надо отдать им справедливость, что и тот, и другой ясно сознавали свое взаимное расстояние, открыто в глаза и за глаза высказывали это и, что еще ценнее, употребляли большие нравственные усилия к поддержанию если не дружественных, то добрых отношений, основанных на взаимном уважении. И в этом отношении они могут дать поучительный пример последующим поколениям.
Вот еще рассказ Головачевой-Панаевой, свидетельницы первых дней знакомства Тургенева и Толстого, – рассказ, подтверждающий только что высказанную мысль.
«Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича в кружке «Современника». Он был тогда еще офицер и единственный сотрудник «Современника», носивший военную форму. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе. Впрочем, граф Толстой был не из робких людей, да и сам сознавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторою даже напускной развязностью.
Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и Л. Н. Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные.
Мнения Толстого о Тургеневе я не слышала, да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере, при мне. Но Тургенев напротив, имел какую-то потребность изливать о всяком свои наблюдения.
Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем:
– Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в весьма умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!
– Не заметил я этого в Толстом, – возразил Панаев.
– Ну, да ты много чего не замечаешь, – ответил Тургенев.
Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на донжуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес:
– Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство.
И Тургенев принялся критиковать каждую фразу Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил:
– И все это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие.
– Знаешь ли, Тургенев, – заметил ему Панаев, – если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему.
– В чем это я могу завидовать ему? В чем? Говори! – воскликнул Тургенев.
– Конечно, в сущности, ни в чем: твой талант равен его!.. Но могут подумать…
Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнес:
– Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идет о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения вне этой сферы!
Панаев обиделся:
– Я тебе это заметил для твоей же пользы, – сказал он и ушел.
Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил:
– Только Панаеву могла прийти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?
Некрасов все это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу:
– Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в подобной нелепости!»
Тургенев как честная, правдивая натура много раз заявлял перед публикой свое преклонение перед талантом Толстого и даже в разговоре с одним французским писателем употребил выражение Иоанна Крестителя, обращенное им ко Христу: «я не достоин развязать ремень у обуви его». Но тем не менее отношения их никогда не были сердечно близкими.
Только лежа на смертном одре, в своем предсмертном письме, он с нежностью и умилением, прося Льва Николаевича вернуться к литературной деятельности, дал ему имя, которого не носил еще до него ни один русский писатель, – имя «великого писателя русской земли». И это славное имя перейдет в вечность.
Чтобы дать читателю представление об установившихся отношениях между Толстым и Тургеневым в первое время их знакомства, мы, забегая немного вперед в нашем изложении, приведем несколько писем Тургенева к Толстому, писанных в том же году.
Париж,
16 ноября 1856 г.
«Любезнейший Толстой!
Письмо ваше от 15 октября ползло ко мне целый месяц – я его получил только вчера. – Я подумал хорошенько о том, что вы мне пишете, – и мне кажется, что вы не правы. Я точно не могу быть совершенно искренен с вами, потому что не могу быть совершенно откровенен; мне кажется, мы познакомились неловко и в неладную минуту, и когда увидимся опять, дело пойдет гораздо легче и глаже. Я чувствую, что люблю вас как человека (об авторе и говорить нечего); но многое меня в вас коробит, и я нашел под конец удобнее держаться от вас подальше. При свидании попытаемся опять пойти рука об руку – авось удастся лучше; а в отдалении (хотя это звучит довольно странно) сердце мое к вам лежит, как к брату, и я даже чувствую нежность к вам. – Одним словом, я вас люблю – это несомненно; авось из этого со временем выйдет все хорошее.
Я слышал о вашей болезни и огорчился; а теперь прошу вас выкинуть воспоминание о ней из головы. Ведь вы тоже мнительны – и, пожалуй, думаете о чахотке, но, ей-богу, у вас ее нет.
Очень жаль мне вашей сестры; кому бы быть здоровой, как не ей, – то есть, я хочу сказать – если кто заслуживает быть здоровой, так это она; а вместо того она все мучится. Хорошо бы, если бы московское лечение помогло ей. Что вы не выпишете вашего брата? Что ему за охота сидеть на Кавказе? Или он хочет сделаться великим воином? Меня дядя известил, что вы все уже выехали в Москву, и потому я это письмо адресую в Москву на имя Боткина.
Французская фраза мне так же противна, как вам, – и никогда Париж не казался мне столь прозаически плоским. Довольство не идет ему; я видел его в другие мгновения, – и он мне тогда больше нравился. Меня удерживает неразрывная связь с одним семейством и моя дочка, которая мне очень нравится: милая и умная девушка. Если бы не это, я бы давно уехал в Рим, к Некрасову. Я от него получил два письма из Рима; он скучает слегка, да оно и понятно – все, что в Риме есть великого, только окружает его, он не живет с ним; а редкими мгновениями невольного сочувствия и удивления долго пробавляться нельзя. Впрочем, ему все-таки легче, чем в Петербурге, – и здоровье его поправляется. Фет теперь в Риме с ним; он написал несколько грациозных стихотворений и подробные путевые записки, где много детского, но также много умных и дельных слов – и какая-то трогательно-простодушная искренность впечатлений. Он, точно, душка, как вы его называете.
Теперь о статьях Чернышевского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души; но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском, выпискам из его статей, радуюсь тому, что, наконец, произносится с уважением это имя. Впрочем, вы этой моей радости сочувствовать не можете. Анненков пишет мне, что на меня это потому действует, что я за границей, – а что у них это, мол, теперь дело отсталое; им уже теперь не того нужно. Может быть, ему на месте виднее; а мне все-таки приятно.
Вы окончили 1-ю часть «Юности» – это славно. Как мне обидно, что я не могу услыхать ее! Если вы не свихнетесь с дороги (и, кажется, нет причин предполагать это), вы очень далеко уйдете. Желаю вам здоровья, деятельности – и свободы, главное – свободы духовной.
Что касается до моего «Фауста», не думаю, чтобы он вам очень понравился. Мои вещи могли вам нравиться – и, может быть, имели некоторое влияние на вас – только до тех пор, пока вы сами сделались самостоятельны. Теперь вам меня изучать нечего, вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки; вам остается изучать человека, свое сердце – и действительно великих писателей. А я писатель переходного времени – и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии. Ну, прощайте и будьте здоровы. Напишите мне. Мой адрес теперь: Rue de Rivoli, № 206.
Благодарю вашу сестру за два приписанных слова, кланяюсь ей и ее мужу. Спасибо Вареньке, что она меня не забывает.
Я было хотел поговорить с вами о здешних литераторах, – но до другого разу. Крепко жму вам руку.
Я не франкирую письма, и вы так же поступайте».
8-го декабря 1856 г. он писал Толстому:
«Милый Толстой, вчера мой добрый гений провел меня мимо почты, и я вздумал зайти справиться, нет ли мне писем poste-restante, хотя по моему расчету все мои друзья уж давно должны знать мой парижский адрес, – и нашел ваше письмо, где вы мне говорите о моем «Фаусте», – вы легко поймете, как мне было весело его читать. Ваше сочувствие меня искренно и глубоко обрадовало. Да и кроме того, ото всего письма веяло чем-то кротким и ясным, какой-то дружелюбной тишиной. Мне остается протянуть вам руку через «овраг», который уже давно превратился в едва заметную щель, да и о ней упоминать не будем – она этого не стоит.
Боюсь я говорить вам об одном, упомянутом вами, обстоятельстве: это вещи нежные, – от слова завянуть могут, пока не созреют, а созреют, так их, пожалуй, и молотом не раздробишь. Дай Бог, чтобы все устроилось благополучно и правильно, а вам это может принести ту душевную оседлость, в которой вы нуждались, когда я вас знал. Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым и находитесь под его влиянием. Дело хорошее, только, смотрите, не объешьтесь и его. Когда я был ваших лет, на меня действовали только энтузиастические натуры; но вы другой человек, чем я, да, может быть, и время теперь настало другое. С нетерпением ожидаю присылки «Б. для чт.». Мне хочется прочесть статью о Белинском, хотя, вероятно, она меня порадует мало. А что «Современник» в плохих руках – это несомненно. Панаев начал было писать мне часто, уверял, что не будет действовать «легкомысленно», и подчеркивал это слово, а теперь присмирел и молчит, как дитя, которое, сидя за столом, наклало в штаны. Я обо всем написал подробно Некрасову в Рим, и весьма может статься, что это заставит его вернуться ранее, чем он предполагал. Напишите мне, в котором именно No «Современника» появится ваша «Юность», да, кстати, сообщите мне ваше окончательное впечатление о «Лире», которого вы, вероятно, прочли хотя бы для ради Дружинина».
У нас нет точных сведений о том, какого мнения был Л. Н-ч о короле Лире в переводе Дружинина; но из приводимого нами ниже письма Боткина к Дружинину можно видеть, что перевод Дружинина понравился Толстому.
Вот это письмо:
«А каков успех вашего «Лира», – пишет Боткин, – для меня он был несомненен, – но как увеличивается удовольствие, когда внутреннее убеждение делается очевидностью. Вот и знаменитая антипатия Толстого к Шекспиру, против которой так ратовал Тургенев! Не могу не отдать тебе справедливости в том, что я убежден был, что эта антипатия исчезнет при первом же случае; но я радуюсь, что случаем этим послужил ваш прекрасный перевод».
Нам кажется, что радость Боткина была преждевременна, так как Л. Н-ч еще надолго сохранил антипатию к Шекспиру. Но об этом мы скажем в одной из следующих глав.
В декабре 1856 г. Тургенев, между прочим, писал Дружинину из Парижа:
«Вы, говорят, очень сошлись с Толстым – и он стал очень мил и ясен. Очень этому радуюсь. Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов. Что его «Юность», присланная вам на суд? Я ему писал два раза, второй раз в Москву, на имя Васеньки».
«Юность» действительно была прислана на суд Дружинину; он ее прочел и ответил следующим интересным письмом:
«О «Юности» надо написать двадцать листов. Я читал ее с озлоблением, с криками и ругательствами – не по случаю литературного ее достоинства, а по случаю тетради и почерков. Это смешение двух рук, знакомой и незнакомой, отвлекало мое внимание и мешало толковому чтению. Будто два голоса кричали мне в ухо и нарочно меня сбивали, и я знаю, что оттого впечатление не имело должной полноты. Однако, скажу вам, что смогу. Задача ваша ужасна, и вы ее выполнили очень хорошо. Ни один из теперешних писателей не мог бы так схватить и очертить волнующийся и бестолковый период юности. Для людей развитых ваша «Юность» доставляет великое наслаждение, и если кто вам скажет, что эта вещь хуже «Детства и Отрочества», тому вы можете плюнуть в физиономию. Поэзии в вашем труде бездна – все первые главы превосходны, только вступление сухо, до описания весны и выставления рам. Потом превосходен приезд в деревню, перед тем описание семейства Нехлюдовых, объяснение отца пред вступлением в брак, главы «Новые товарищи» и «Я проваливаюсь». От многих глав пахнет поэзией старой Москвы, никем еще не подсмотренной, как должно. Кучер у барона З. удивителен (я все говорю с точки зрения понимающих людей). Некоторые главы сухи и длинны, – например, все договоры с Дмитрием Нехлюдовым, изображение отношений к Вареньке и та, где говорится о семейном понимании. Длинна также пирушка у «Яра» и перед ней визит графа с Иленькой. Рекрутство Семенова нецензурно.
Рассуждений не бойтесь, – они все умны и оригинальны. Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которое может разрастись в большой недостаток. Тогда вы готовы сказать: у такого-то ляжка показывала, что он желает путешествовать по Индии. Обуздать эту наклонность вы должны, но гасить ее не надо ни за что на свете. Вся ваша работа над своим анализом должна быть в таком роде. Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, – почти каждое ваше достоинство имеет в себе зернышки недостатков.
Слог ваш совершенно подходит к этому заключению; вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все страницы, писанные с любовью, у вас превосходны, – но чуть вы холодеете, у вас слог пугается, и являются адские обороты речи. Поэтому места, писанные с холодностью, надо бы просмотреть и выправить. Я пробовал было выправлять местами и кинул, – эту работу только вы сами можете и должны сделать. Главное только – избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек… С частицами речи поступайте без церемонии, слова что, который и это марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому-нибудь хотите передать гладким, разговорным языком.
Пора кончить, а надо бы говорить еще много, много. Для массы читателей мало развитых «Юность» понравится гораздо менее, чем «Детство и Отрочество». За эти две вещи говорит их малый объем и некоторые эпизоды, вроде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период юности (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями, которую вы перед нами раскрываете) обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается.
Приблизить ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя-тремя забавными эпизодами и т. д., но сделать его совершенно по вкусу большинству всему – едва ли кто может.
По замыслу и по сущности труда ваша «Юность» будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию.
Уведомьте, переслать ли вам рукопись или отдать ее Панаеву. Ею вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что в вас есть и чего еще от вас дождешься».
Уж одно то, что Дружинин мог так писать Толстому, показывает, что между ними действительно существовали близкие отношения, и что Дружинин имел влияние на Толстого.
Пребывание Л. Н. в Петербурге с ноября по май было прервано короткой деловой поездкой в Орел, по семейным делам.
2-го февраля Л. Н. получил известие о смерти своего брата Дмитрия; личность его ярко изображена Л. Н-чем в его воспоминаниях, приведенных нами в главе «Юность». Здесь мы приводим 2-ю часть этих воспоминаний, касающуюся его последующей жизни, болезни и смерти.
«Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово; он и желал этого. Митеньке и Николеньке отдали остальные два имения: Николеньке – Никольское, Митеньке – курское имение Щербачевку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в 40-х годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю, и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности, но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немыслимо, – это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приема. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), со спокойными, прекрасными глазами, лицом, и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезен отечеству, избрал своею деятельностью законодательство.
– Ваша фамилия?
– Граф Толстой.
– Вы нигде не служили?
– Я только окончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.
– Какое же место вы желаете иметь?
– Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.
Серьезность, искренность так поразили Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновнику.
Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу, оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Д. А. Оболенского, который, в наше казанское время, был там стряпчим. Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь.
Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего круга, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я сначала не узнал его, но, когда узнал, постарался le mettre a son aise, познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но, со свойственным ему тактом и внешним добродушием, он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским, и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.
После выхода его, да и моего, из университета я потерял его из виду, знаю, что он жил тою же строгою, воздержанною жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин, до 26 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходился с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукою. Он ходил в подряснике, был очень безобразен: маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необыкновенно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька и водил с собой. Как я слышал, он водился еще со стариком старого закала, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.
Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести, – сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после севастопольской войны. Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умереть, не хотел верить, что он умирал. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне, по его желанию, принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.