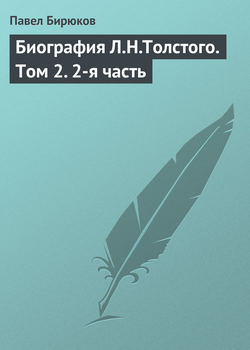Читать книгу Биография Л.Н.Толстого. Том 2. 2-я часть - Павел Бирюков - Страница 1
Глава 11. Частная и семейная жизнь Льва Николаевича в начале 70-х годов
ОглавлениеВ четвертый раз мы возвращаемся к этому богатому по деятельности и напряженной энергии периоду жизни Л. Н-ча в 70-х годах, чтобы дополнить ее описанием различных мелких фактов личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы выделяем их в особую главу, так как эти факты могли бы нарушить изложение тех главных событий в жизни Л. Н-ча, которым посвящены предыдущие главы этого периода. Перед нами протекут сами по себе неважные, малозначительные факты из жизни Льва Н-ча, но которые мы не находим возможным упустить, так как они создают общую картину его семенной жизни, той среды, в которой он жил, и подготовляют переход его к жизни в новой области его сознания.
Семейная жизнь Л. Н-ча именно в 70-х годах достигла своей определенной формы. В 60-х годах она еще не успела установиться. Детский вопрос еще только назревал, а все духовные интересы, оставшиеся свободными от удовлетворения первыми семейными радостями, поглощались гигантской работой над «Войной и миром».
К началу же 70-х годов назрел вопрос воспитания детей, литературные работы уже не поглощали его так без остатка, как прежде, и семейно-хозяйственные интересы и связанные с ними заботы и хлопоты создали целую новую область отношений. В конце 70-х годов во Л. Н-че снова подымаются прежние вопросы, мучившие его еще до женитьбы, его внутренняя жизнь приближается к кризису, семейная жизнь надламывается, и 80-ые годы уже не представят нам той целости и гармонии в жизни его семьи.
Вот почему мы дольше, подробнее останавливаемся на этой эпохе. Она даст нам факты, которые больше не могут повториться.
В мае 1870 года Л. Н-ч писал Фету:
«Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Развернув письмо, я первое прочитал стихотворение, и у меня защипало в носу; я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, от которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя, оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь «Вестнике», и его будут судить С-ны и скажут: «А Фет все-таки мило пишет».
«Ты нежная…» Да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все. Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интересно и поучительно.
Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении, но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно, и что оно вылезло все-таки из вас, что оно – вы. Прощайте, до свиданья».
Летом 70-го года началась франко-прусская бойня. Мы знаем, что Л. Н-ч живо интересовался событиями войны, сочувствовал французам и был убежден в их победе. Ненависть к прусскому милитаризму давала и тут себя знать.
Мы упоминали уже, что зимой 70-71-го года он с увлечением занимался изучением греческого языка и, расстроив свое здоровье, должен был предпринять поездку на кумыс.
Увеличение семьи потребовало, наконец, расширения дома. В конце 1871-го года была сделана к дому пристройка, которая составляет теперь наверху яснополянского дома залу, а внизу – прихожую и библиотеку. Окончание этой пристройки было отпраздновано на рождественских праздниках съездом родных и гостей и ознаменовалось маскарадом, в котором принимал участие и сам Л. Н-ч. В общество гостей явились внезапно ряженые: вожатый с двумя медведями и козой. Вожатым был Дм. Ал. Дьяков, медведями – Иславин и родственник Толстой, а козой, к общему удивлению и восторгу, – сам Лев Николаевич.
Начало 1872 года застает Л. Н-ча в грустном, но глубоко серьезном настроении. Вот одно из замечательнейших его писем к Фету, выражающих с необыкновенною ясностью его психологический момент, его ищущую, но еще не просветленную душу, сильную своей правдивостью, не боящеюся называть вещи своими именами:
«Уж несколько дней, как получил ваше милое и грустное письмо и только нынче собрался ответить.
Грустное, потому что вы пишете – Тютчев умирает, слух, что Тургенев умер, и про себя говорите, что машина стирается и хотите спокойно думать о нирване. Пожалуйста, известите поскорее, фальшивая ли это была тревога. Надеюсь, что да, и что вы без Марьи Петровны маленькие признаки приняли за возвращение вашей страшной болезни.
О нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере), я чувствую, она гораздо интереснее, чем жизнь, но я согласен, что сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта нирвана – ничто. Я стою только за одно – за религиозное уважение, ужас к этой нирване.
Важнее этого все-таки ничего нет.
Что я разумею под религиозным уважением? – Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумал), как с панихидой, ладаном и т. д. Как самому слабеть и умирать? Мочиться под себя, п… больше ничего? Нехорошо. Хочется вполне выразить значительность и нежность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного для всех возрастов, всех степеней развития, как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, который ощущаешь, когда задумаешься о нирване. Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть логической? Но что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма. А написать хотелось, и что-то грустно, особенно от вашего письма.
Напишите, пожалуйста, поскорее о вашем здоровье.
Ваш Лев Толстой».
30 января 1872 года.
Я ужасно не в духе. Работа затеянная страшно трудна, подготовки изучения нет конца, план все увеличивается, а сил, чувствую, все меньше и меньше. День здоров, а три нет».
Конец зимы и весну, как мы видели. Л. Н-ч был занят школой и окончанием своей «Азбуки», которую он потом сдал для издания Н. Н. Страхову.
Расстроив свое здоровье, он съездил подкрепиться на кумыс, а по возвращении в Ясную Поляну узнал об ужасном событии, совершившемся без него. Бык забодал насмерть одного из его работников. Было возбуждено судебное следствие, и Л. Н-ч был привлечен к ответственности. Дело это, в котором Л. Н-ч юридически был только весьма отдаленной причиной, доставило Л. Н-чу много душевных страданий.
И страдания эти были двоякого рода. Кроме душевной тяжести, доставленной сознанием, что в его деле пострадал и умер рабочий человек, кормилец семьи, местные судебно-полицейские власти доставили ему еще много страданий своею бестактностью, привлечением его к ответственности, обязав подпискою о невыезде, и долгой проволочкой этого дела, кончившегося, как и следовало ожидать, с судебной стороны ничем.
Об этом событии мы узнаем, между прочим, из переписки Л. Н-ча со своей теткой, гр. А. А. Толстой, воспоминания о которой сообщает Захарьин-Якунин. Л. Н-ч обращается к графине в письме с описанием своего горя и начинает это письмо так:
«Любезный друг Александрин! Вы одна из тех людей, которые всем существом своим говорят: «Я хочу разделить с тобой твои горести, а ты со мной – свои радости», и я вот, всегда рассказывающий вам о своем счастье, теперь ищу вашего сочувствия в моем горе. Нежданно-негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь».
Судебный следователь из молодых, явившийся производить дознание по этому делу, обязал Л. Н-ча подпиской о невыезде. В это же время Л. Н-ч был назначен присяжным, и его оштрафовали за неявку. Все это, конечно, не могло не расстроить Л. Н-ча. Он так заканчивает свое письмо к гр. А. А. Толстой:
«…Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать… С седой бородой, шестью детьми и с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не виноват, с презрением, которого я не могу не иметь к новым судам, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое… Невыносимо жить в России – со страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравилось, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в остроге…»
Вся эта тяжелая история кончилась тем, что Л. Н-ч был освобожден по этому делу от суда и следствия, а всю ответственность взвалили на его управляющего, которого эти «мальчики» и привлекли к делу в качестве обвиняемого… Относительно же Л. Н-ча было признано, что следователь привлек его к делу «по ошибке», что подписка о невыезде была взята тоже «ошибочно», равно как и самый штраф был наложен «по ошибке» же… Впоследствии оказалось, что управляющий имением был привлечен к делу зря, и оно, в конце концов, прекращено, – под большой шум, поднятый газетами того времени.
Об этом событии рассказывает в своих воспоминаниях о Льве Николаевиче кн. Д. Д. Оболенский, добавляя некоторые интересные подробности:
«Однажды Л. Н. Толстой опоздал на сборный пункт охоты, который был у меня в Шаховском (имение мое в 35 верстах от Ясной Поляны), и приехал крайне расстроенный: оказалось, что судебный следователь в это утро допрашивал его в качестве обвиняемого за неосторожное держание скота, так как его бык забодал пастуха, и следователь обязал Толстого невыездом из Ясной Поляны, т. е. отчасти лишил его свободы. Как человек горячий, Л. Н-ч был крайне возмущен действиями следователя, который всего несколько дней перед этим найденное мертвое тело какого-то неизвестного отвез в ближайшую усадьбу какой-то помещицы и стал мертвого вскрывать у нее на террасе. Лев Николаевич никак не мог успокоиться, ибо считал себя страшно стесненным подпискою, которую с него требовали, о невыезде. «Одного яснополянского крестьянина полтора года следователь продержал в остроге по подозрению в краже коровы, а после оказалось, что украл не он, – рассказывал Л. Н-ч. – Так и меня продержат теперь год. Это бессмысленно, это полнейший произвол этих господ. Я все продам в России и уеду в Англию, где есть уважение к личности всякого человека, а у нас всякий становой, если ему не кланяются в ноги, может сделать величайшую пакость». Самарин живо возражал Л. Н-чу, доказывая, что не только смерть человека, но и увечье, ему причиненное, настолько серьезный факт сам по себе, что не может остаться необследованным со стороны судебных властей, как в данном случае. Спорили долго, и, кажется, Самарин переубедил Толстого, который, ложась спать, мне сказал: «Удивительная способность П. Ф. Самарина успокаивать людей».
Наконец сам Л. Н-ч пишет об этом П. Страхову:
15 сентября 1872. Ясная.
«Вы, верно, сердитесь и досадуете на меня, дорогой Николай Николаевич, и имеете полное право, за то, что я не ответил, не посылал денег и не посылаю арифметики 4-й книги. Я виноват, но вы не можете себе представить, до чего я расстроен и взволнован все эти дни. Случилось во время моего отсутствия в Самаре, что молодой бык убил насмерть пастуха. И я узнал, что такое наши суды и под каким дамокловым мечом мы все живем. Я под следствием, связан подпиской не выезжать из дома. Тут же мне привелось быть присяжным, и вы не можете себе представить всех мелких мерзостей, которые мне делает суд, и признаюсь, как это ни стыдно, что я еще не дошел до положения Аксенова. Может быть, дойду, когда меня посадят в острог, что очень возможно, но теперь я раздражен так, что болен физически и нравственно, и не могу ни о чем думать, кроме как о том, за что мучают человека, который всех оставляет в покое и только об одном и просит, чтобы его оставили в покое. Теперь я так раздражен, что решил уехать в Англию и продать все, что имею в России. Не буду описывать вам всего. Это скучно и меня раздражает».
Как всякий вспыльчивый человек, Л. Н-ч был отходчив. Через неделю он пишет тому же Страхову уже более спокойное письмо:
23 сентября 1872. Ясная.
«Тревога моя понемногу утихла. Я могу уже без злости любоваться на полноту того безобразия, которое называют самая жизнь. Можете себе представить, что меня промучили месяц, и до сих пор подписка о невыезде не снята, и нашли, что кто-то (следователь) ошибся, что точно это дело до меня не касается и что если вместо того, чтобы по закону кончить всякое дело в 7-дневный срок, идет дело 2-й месяц и еще не кончилось, то это «маленькое несовершенство, свойственное человечеству». Точно как бы приставленный дворник убил бы своего хозяина и все дворники побили бы тех, кого они приставлены беречь, и сказали бы: что же делать, человеческое несовершенство.
Я было начал писать статью, но бросил: совестно сердиться на такую очевидно сознательную и самодовольно глупую и смешную штуку, т. е. все это правосудие. В Англию тоже не еду, потому что дело не дошло до суда. А я решил, что в случае суда уеду, и уехал бы. Все расскажу вам – бог даст».
В ноябре Л. Н-ч уже настолько успокоился, что мог написать Фету такое шуточное стихотворение:
Как стыдно луку перед розой,
Хотя стыда причины нет,
Так стыдно мне ответить прозой
На вызов ваш, любезный Фет.
Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости, ответ.
Когда? куда? решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!
Сухим доволен буду летом,
Пусть погибают рожь, ячмень.
Коль побеседовать мне с Фетом
Удастся вволю целый день.
Заботливы мы слишком оба,
Пускай в грядущем много бед,
Своя довлеет дневи злоба –
Так лучше жить, любезный Фет.
«Без шуток, пишите поскорее, чтобы знать, когда выслать за вами лошадей. Ужасно хочется вас видеть».
В ноябре же вышла «Азбука», и вскоре Н. Н. Страхов, освободившись от этого огромного труда, мог посетить Льва Николаевича, который уже давно звал его и ждал к себе.
В письме гр. С. А. к сестре ее Т. А. Кузминской от 14 ноября есть короткая заметка: «Был у нас Страхов, прожил 5 дней; с ним было приятно, он так умен и образован».
В письмах Л. Н-ча заметно, что это посещение оставило глубокий след. Мы воспользуемся этим поводом, чтобы сказать несколько слов об отношениях этих двух друзей, по характеру своему столь отличных друг от друга. Из приведенных нами цитат в обзоре критической литературы «Войны и мира» можно видеть то безмерное уважение, которое питал Страхов к Л. Н-чу. Н. К. Михайловский, говоря о Страхове, замечает, что он не может себе вообразить Страхова рядом с Толстым иначе как коленопреклоненным. И действительно, Страхов безмерно уважал и искренно любил Л. Н-ча. Михайловский, несмотря на эту шутку, отдает дань уважения Н. Н. Страхову, признает в нем проницательный критический ум и даже называет его в одном месте «русским Ренаном».
Из писем Л. Н-ча к Страхову видно отношение Толстого к этому еще так мало оцененному мыслителю. После одного из посещений Страховым Ясной Поляны Лев Николаевич писал ему, между прочим, следующее:
«Знаете ли, что меня в вас поразило более всего? Это выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вошли из сада в балконную дверь. Это выражение, чуждое, сосредоточенное и строгое, объяснило мне вас (разумеется, с помощью того, что вы писали и говорили). Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю «чисто» в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное произведение, и ни грек Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслителя не понимали ее так. У вас есть одно качество, которое я не встречал ни у кого из русских: это – при ясности и краткости изложения мягкость, соединенная с силой: вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами. Я не знаю содержания вашего предполагаемого труда, но заглавие мне очень нравится, если оно определяет содержание в общем смысле. Но да не будет это статья, но, пожалуйста, сочинение. Но бросьте развратную журнальную деятельность. Я вам про себя скажу: вы, верно, испытываете то, что я испытывал тогда, когда жил, как вы (в суете), что изредка выпадают в месяцы часы досуга и тишины, все время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ничем не нарушимая своя собственная атмосфера, и в этой атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть и суть для тебя, и чувствуешь себя и свои силы, как измученный человек после бани. И в эти-то минуты для себя (не для других) истинно хочется работать и бываешь счастлив одним сознанием себя и своих сил, иногда и работы. Это-то чувство вы, я думаю, испытываете, и нередко, и я прежде, теперь же это мое нормальное положение, и только изредка я испытываю ту суету, в которой и вы меня застали и которая только изредка перерывает это состояние. Вот этого-то я бы желал вам».
В свое посещение в ноябре 1872 года Н. Н. Страхов привез Л. Н-чу свою вновь вышедшую книгу «Мир как целое» и оставил Льву Николаевичу для прочтения. Л. Н-ч внимательно прочел ее и написал автору следующее критическое письмо:
12 ноября 1872 года.
«Дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич!
Все время после вашего отъезда (4 дня) занимался исключительно вами, читал вашу книгу. И хоть, может быть, вовсе вам не нужно мое мнение, она произвела на меня такое сильное действие, что я чувствую потребность написать вам о ней. Я читал ее и не мог оторваться, и читал внимательно, с карандашом – делал отметки там, где был поражен, и перечитывал те места. Общее впечатление: 1) Я узнал много нового и не случайного, того самого, что нужно знать. 2) Много вопросов, смутно представляющихся мне, поставлены и разрешены ясно, ново и сильно. (Мне совестно вспоминать о том, как я попал на легкое мнение об этой книге только потому, что все статьи уже напечатаны. Я сделал ложнейшее заключение: было напечатано. Ничего не слышно было, стало быть, ничего особенного. Как сильны привычки!) 3) Много, ужасно много вопросов неразрешенных. Чувствуется, в каком смысле должен разрешить их автор, и боишься за него. 4) Неприятное впечатление неровности тона и даже некоторой непоследовательности предметов всей книги. – Поймите меня. Есть такая глубина и ясность во многих местах, что она указывает на необходимую строгую последовательность в миросозерцании автора, а от этой последовательности отступает книга. Теперь частности – 1, 2, 3, 4, 5 письма. Все прекрасно, но в 5 письме, стр. 75 и 74, автор говорит о духе, о том, что постижение должно быть начато с духа. Почему? Человек отличается от остального мира, на мои глаза, вовсе не духом, который я совершенно не понимаю, но тем, что он судит о самом себе, когда судит о человеке, и судит не о себе, когда судит о вещах. Судить о самом себе, вернее – иметь себя предметом своим, мы называем сознание. Поэтому разница должна быть резкая, но она основана не на объективном чем-то – духе, но на том отношении, в котором стоит человек к предметам вне себя и в себе. С выводом я согласен, что человек должен начинать постижение с себя, а не с вне себя, но не согласен с объективным духом, противополагаемым объективному миру как какой-то дух. И не согласен потому, что дальше различие это становится существенным. Далее, на 76-й стр., отличая круговорот от жизни, автор опровергает смешение этих двух понятий не духом, а сознанием жизни. И это место прекрасно. Вся эта глава прекрасна, но на 89 стр. и до конца опять являются понятия, вытекающие только из веры в дух – совершенствование. Для сознания человека, т. е. для мысли человека, устремленной на самого себя, может быть совершенство только относительное, но не абсолютное. Это вопрос ужасно сложный, о котором я жалею, что не поговорил с вами. В письме невозможно сказать. Попробую коротко сказать свои убеждения. Совершенство зоологическое, на котором вы настаиваете, даже умственное, которое вытекает из зоологического, есть совершенство только относительное, вытекающее из того, что человек сам на себя смотрит. Муха – такой же центр и апогей всего создания. Но есть совершенство нравственное, религиозное (буддизм, христианство), которое ничем не доказывается, которое несомненно и которое даже не может быть сравниваемо ни с чем, почему не может быть называемо совершенством (понятие совершенства вытекает из понятия степеней), короче, это – понятие добра. И понятие это таково, что нельзя про него сказать, что оно есть больше или меньше, что оно есть у человека, но его нет у животных. – Оно есть у человека, оно – сущность всей жизни, и потому его не может быть ни больше, ни меньше. В 4-м письме, стр. 92, 93, вы прекрасно говорите о непогрешимости ума, убеждений. Я представляю вместо ума убеждения, сознание жизни, которого сущность есть добро. Следовательно, чем более сознана эта сущность, тем она более совершенна. Прекрасно об инфузориях (98 стр.), прекрасно проведено понятие организма из совершенствования и о смерти, но посылка, что цель человеческой жизни есть совершенствование, совпадающее с совершенствованием организма, умаляет значение человеческой жизни. И факт недовольства жизнью, выражающийся не в одних поэтах, но в миллионах людей (христианство, буддизм), есть факт, который нельзя объяснить заблуждением. Он имеет самый законный корень. Он имеет основанием сущность жизни. И как объяснение и материалистов недостаточно (что и доказывает автор) именно потому, что они упускают из расчета способность сознания (духа), так и объяснение автора недостаточно, потому что он упускает из виду сущность жизни. Письмо 8-е прелестно, особенно кристаллы: это гениальное определение основ деления на неорганическое, органическое и животное. Письмо 9-е мне все не нравится и по форме, и по содержанию, я бы его все выбросил. Жители планет и птицы не нравятся, несмотря на обилие интересных данных, с вашей ясностью и умелостью изложенных, не нравятся жители планет и по содержанию, и обе главы – по совершенно другому и нестрогому тону. Чем отличается человек от животного, – эти две главы опять прежний тон и опять превосходны. Мысль о пределе поразительна. Опровержение мнимого места человека, даваемого натуралистами, превосходно. Я только для своего удобства подставляю: натуралисты хотят найти место человеку, не пользуясь сознанием, т. е. взглядом на самого себя. Точно так, как (грубое сравнение) я бы захотел узнать свое место в комнате, измерив расстояние между всеми предметами в комнате, а не от себя до предметов. Вторая часть, насколько могу судить, вся превосходная. Я нашел в ней в первый раз ясное изложение смысла физики и химии. Я нашел с ясностью (будто бы), легкостью разрешенными часть тех сомнений и вопросов, которые занимали меня, но, кроме того, я нашел ясное указание на точно существенное в этих науках. Эта вся часть исчерчена мною карандашом, и не знаю, что лучше.
Поразительнее же всего для меня не только критика химии, но и изложение возможно нового взгляда. Прекрасно тоже объяснение сущности материалистического взгляда, состоящего в представлении. Два только пятна нашел я в этом солнце. И все это Гегель. На 380 стр. выписка из Гегеля, которая, может быть, прекрасна, но в которой я не понимаю, прочтя несколько раз, ни единого слова. Эта моя судьба с Гегелем и на стр. 451: «Чистая мысль эфирна» и т. д. до точки. Я ничего не понимаю. Менее всего понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур. Не знаю, пошлю ли это письмо. Во всяком случае скажу, что хотел сказать. Мое мнение о вас очень высоко, но я не совсем доверял ему (я боялся, что подкуплен), но теперь, по прочтении вашей книги, я не имею более недоверия, и мнение о вашей силе еще увеличилось. Дай вам бог спокойствия и духовного досуга.
Вы бы меня очень порадовали, если бы написали мне так же искренно, как я вам, свое мнение о моей критике вашей книги».
Осенью 1873 года был сделан первый живописный портрет со Льва Николаевича художником Крамским.
Еще в 1869 году Фет написал Льву Николаевичу, прося позволить списать с него портрет. На это Л. Н-ч отвечал ему:
«Насчет портрета я прямо говорил и говорю: нет. Если это вам неприятно, то прошу прощения. Есть какое-то чувство сильнее рассуждения, которое мне говорит, что это не годится».
Художнику Крамскому, которому Третьяков поручил сделать портрет Л. Н-ча в 1873 г., предстояла трудная задача.
С. А. Берс рассказывает о том, каким путем Крамскому удалось это сделать:
«Лев Николаевич не любил фотографию, очень редко снимался и сам уничтожал потом негатив. Он предпочитал самого плохого художника самой лучшей фотографии.
Известному портретисту Крамскому было поручено, если не ошибаюсь, г. Третьяковым написать портрет Льва Николаевича. Знаменитый художник тщетно разыскивал его фотографию. По скромности он не решался просить сеанса, потому что не был знаком и слышал о замкнутой жизни в Ясной Поляне. Тогда он поселился в пяти верстах от Ясной Поляны на даче, мимо которой Лев Николаевич иногда проезжал верхом. Тут он и возымел намерение написать портрет его в кафтане на лошади. Вскоре все это обнаружилось, и он был любезно приглашен в Ясную Поляну».
Лев Николаевич в письме к Фету, которому он раз уже отказал, как бы извиняется, что согласился на этот раз.
25 сентября 1873 года он пишет:
«У меня каждый день, вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь обращать в крещеную веру. Я согласился на это, потому что сам Крамской приехал, согласился сделать другой портрет очень дешево для нас, и жена уговорила».
Гр. С. А. сообщает об этом в письме к своей сестре Т. А. следующие подробности:
«У нас теперь всякий день бывает художник, живописец Крамской, и пишет два Левочкиных портрета масляными красками. Ты, верно, прежде слышала, что Третьяков собирает галерею портретов русских замечательных людей. Он давно присылал просить позволить списать с Левочки портрет, но он не соглашался. Теперь же сам живописец уговорил, и Левочка согласился с тем, чтобы он взял на себя заказ портрета другого, который остается у нас и будет стоить около 250 руб. Теперь пишутся оба сразу и замечательно похожи, смотреть страшно даже».
С конца 1873 г. наступает скорбный период в Ясной Поляне, продолжавшийся два года и принесший семейству Толстых пять смертей.
18 ноября умер маленький мальчик Петя, полуторагодовалый ребенок.
Л. Н-ч писал об этом Фету:
«У нас горе: Петя меньшой заболел крупом и в два дня умер. Это первая смерть за 11 лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех, но сердце, и особенно материнское – это удивительное высшее проявление божества на земле, – не рассуждает, и жена очень горюет».
Мы не можем удержаться, чтобы не привести здесь и письма гр. С. А. к ее сестре Т. А. о том же событии:
«9 ноября умер у нас маленький Петя болезнью горла. Что это было, бог знает! Более всего похоже на круп. Началось хрипотой, которая усиливалась все более и через двое суток унесла его. Последний час хрипота уменьшилась и, наконец, лежа в постельке, не просыпаясь, не метаясь даже, тихо, как будто заснул, умер этот веселый, толстенький мальчик и остался такой же полный, кругленький и улыбающийся, каким был прежде.
Страдал он, кажется, мало, спал много во время болезни, и не было ничего страшного, ни судорог, ни мучений, и за то слава богу. И даже и то я считаю милостью, что умер меньшой, а не один из старших. Нечего вам говорить, до чего все-таки тяжела эта потеря. Вы испытали хуже и знаете всю боль, какую испытываешь, когда отрывается от своей жизни частица, ничем не заменимая. Прошло уже десять дней, а я хожу все как потерянная, все жду услыхать, как бегут быстрые ножки и как кличет его голосок меня еще издалека. Ни один ребенок не был ко мне так привязан и ни одни не сиял таким весельем и такой добротой. Во все грустные часы, во все минуты отдыха после ученья детей я брала его к себе и забавлялась им, как никем из других детей не забавлялась прежде. И теперь все осталось, но пропала вся радость, все веселье жизни… И пошла опять теперь наша жизнь по-старому, и только для меня одной потух радостный свет в нашем доме – свет, который давал мне веселый, любящий добряк Петя и которым освещались все мои самые грустные минуты».
И вот, только что успела семья Толстых оправиться от этого горя, как постигло их новое горе, хотя и не столь острое. 20 июня 1874 г. тихо отошла в вечность любимая всеми и всех любившая тетушка Л. Н-ча, Татьяна Александровна Ергольская.
Мы уже приводили в воспоминаниях Льва Николаевича его описание последних дней жизни, смерти и похорон ее. Через два дня после похорон Л. Н-ч писал об этом Фету:
Мы третьего дня похоронили тетушку Татьяну Александровну. Она медленно и равномерно умирала, и я привык к умиранию ее, но смерть ее была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно-поразительным событием. Остальные здоровы и дом наш так же полон».
И вот опять через полгода, в феврале 1875 года, умирает 10-месячный ребенок Николушка.
«У нас горе за горем; вы с Марьей Петровной, верно, пожалеете нас, главное Соню. Меньшой сын, 10-ти месяцев, заболел недели три тому назад той страшной болезнью, которую называют головною водянкой, и после страшных 3-недельных мучений третьего дня умер, а нынче мы его схоронили. Мне это тяжело через жену, но ей, кормившей самой, было очень трудно».
«Да, ей действительно было трудно. Описывая в письме к своей сестре со всеми подробностями, от чтения которых сжимается сердце, всю эту непонятную по своим мучительным страданиям смерть и похороны с зимней вьюгой, она заключает свое описание словами:
«Теперь, Таня, я свободна, но как тяжела мне эта свобода, как я чувствую себя потерянной, ненужной, ты себе представить не можешь. Этого мальчика я любила за двух: и за умершего Петю, и за него самого. С какою любовью и старанием я выхаживала его, и наряжала, и радовалась на него, и все его воспитание я вела добросовестнее, чем всех других. Но мне часто казалось, что он жив не будет, – я всегда говорила: нет, и этот не настоящий».
Большая часть 1875 года прошла благополучно; мы уже знаем, что летом вся семья ездила в самарское имение, где были башкирские скачки, и вообще старые горести стали понемногу сглаживаться. Но в конце ноября Софья Андреевна, заразившись от детей коклюшем, преждевременно родила девочку, которая через полчаса умерла. Конечно, эта маленькая смерть не произвела на окружающих большого впечатления. Но вот через месяц, 22 декабря, еще новая смерть – тетушки Пелагеи Ильинишны Юшковой.
Хотя с этой тетушкой и не было столь нежных отношений, но сила привычки, воспоминания юности, проведенной в ее доме, наконец, ее постоянная жизнь последние два года в семье Толстых, – все это заставило еще раз перечувствовать все жало смерти и наложило новую тень грусти на этот жизнерадостный в обычное время яснополянский семейный кружок.