Homo academicus
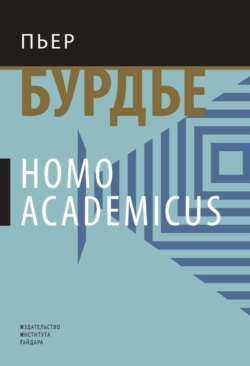
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Пьер Бурдье. Homo academicus
Глава 1 «Книга для сожжения»?
Работа по конструированию и ее эффекты
Эмпирические индивиды и индивиды эпистемические
Глава 2. Спор факультетов
Отстраненность и приверженность
Замечания относительно нижеследующих таблиц
Научная компетенция и компетенция социальная
Глава 3 Виды капитала и формы власти
Структура пространства разных форм власти
Рядовые профессора и воспроизводство корпуса
Время и власть
Освященные еретики
Сговорившиеся соперники
Aggiornamento
Позиции и точки зрения
Глава 4. Защита корпуса и нарушение равновесия
Функциональные замещения
Кризис наследования
Целесообразность без цели
Временной порядок
Нарушение равновесий
Глава 5. Критический момент
Специфическое противоречие
Синхронизация
Кризис как разоблачитель
Мнения, преданные огласке
Иллюзия спонтанности
Приложения
Приложение 1. Использованные источники
1. Демографические показатели и показатели унаследованного или приобретенного экономического и социального капитала
2. Показатели унаследованного или приобретенного культурного капитала
3. Показатели капитала университетской власти
4. Показатели капитала научной власти и научного престижа
5. Показатели капитала интеллектуальной известности
6. Показатели капитала политической и экономической власти
7. Показатели политических диспозиций
Приложение 2.[310] Морфологические изменения факультетов. Таблицы 1 (а, б, в). Морфологические изменения дисциплин. Таблицы 2 (а, б)
Приложение 3. Хит-парад французских интеллектуалов, или Кто должен судить о легитимности судей?
Приложение 4. Анализ соответствий
Послесловие. Двадцать лет спустя
Отрывок из книги
Избрав объектом исследования социальный мир, частью которого являемся, мы будем вынуждены столкнуться с рядом фундаментальных эпистемологических проблем в форме, которую можно назвать драматизированной. Эти проблемы связаны с различием между практическим познанием и познанием научным и в особенности с трудностью разрыва с локальным опытом и сложностью воссоздания знания, полученного ценой этого разрыва. Известно, каким препятствием для научного познания являются как избыток близости, так и чрезмерная дистанция и как сложно поддерживать то отношение утраченной и восстановленной близости, которое позволяет ценой долгой работы над объектом – но также и над субъектом – исследования объединить все то, что можно знать, являясь лишь частью объекта, и то, что невозможно или же не желают знать как раз потому, что ею являются. В меньшей степени осознают проблемы, возникающие при попытке передать научное знание об объекте прежде всего посредством письма. Такого рода проблемы становятся особенно заметными, когда за пояснениями обращаются к примерам: эта риторическая стратегия, обычно используемая для того, чтобы «внести ясность», склоняет читателя полагаться на собственный опыт и, следовательно, привносить в чтение неконтролируемую информацию. Почти неизбежно она низводит до уровня обыденного знания научные построения, выработанные в борьбе с ним[1]. Достаточно просто ввести имена собственные (а как можно полностью избежать этого, когда речь идет о мире, где одной из ставок является «сделать себе имя»?), чтобы усилить склонность читателя сводить к конкретному индивиду, воспринимаемому синкретично, индивида сконструированного, существующего в качестве такового лишь в теоретически выстроенном пространстве отношений тождества и различия между совокупностью его явным образом определенных свойств и специфическими совокупностями свойств (выявленных согласно тем же принципам), характеризующих других индивидов.
Но каким бы сильным ни было наше стремление избежать намеков и двусмысленностей, постоянно заправляющих, пускай и в скрытой форме, обыденной логикой сплетни, оскорбления, клеветы, насмешки и злословия (которые, хотя и склонны сегодня рядиться в одежды анализа, не брезгуют ни колкостью, ни остротой ради явного удовольствия блеснуть или пустить кому-то кровь), как бы методически ни воздерживались мы (как в этой работе) от упоминания о вещах, несмотря ни на что известных всем (о явных связях университетских преподавателей с журналистикой, не говоря уже о скрытых связях, семейных и иных, обнаружить которые – долг историков), мы все же не сможем избежать подозрения в том, что совершаем акт разоблачения, ответственность за которое в действительности лежит на самом читателе. Ведь именно он, читая между строк, заполняя более или менее сознательно пробелы в анализе или просто, как говорится, «принимая все на свой счет», изменяет смысл и значение намеренно цензурированного научного отчета. Социолог не имеет возможности написать обо всем, что знает (включая вещи, которые те из читателей, кто наиболее склонен разоблачать его разоблачения, зачастую знают лучше, правда, на совершенно другом уровне), и поэтому рискует создать видимость того, что пользуется наиболее испытанными полемическими стратегиями: инсинуацией, намеком, иносказанием и недомолвкой – приемами, особенно дорогими университетской риторике. И все же эта история без имен собственных, которой вынужден ограничиться социолог, соответствует исторической истине не более чем анекдотический рассказ о фактах и деяниях отдельных персонажей, знаменитых или неизвестных, к которому так охотно прибегает как старая, так и новая история. Эффекты структурной необходимости поля осуществляются лишь через личные связи, основанные на социально обусловленной случайности встреч и общих знакомств, а также на сходстве габитусов, переживаемом как симпатия и антипатия. И как не сожалеть о социальной невозможности объяснить и дать почувствовать то, что я считаю действительной логикой исторического действия и подлинной философией истории, полностью используя присущие отношению принадлежности преимущества, которые позволили бы объединить собранную с помощью объективных методов информацию и личную интуицию, являющуюся результатом близкого знакомства с объектом исследования?
.....
Научный дискурс требует научного прочтения, способного воспроизвести операции, продуктом которых является он сам. Однако слова научного дискурса – и особенно те, что обозначают индивидов (имена собственные) или институции (Коллеж де Франс[35]), – точно те же, что и слова обыденной речи, романа или истории, тогда как их референты отделены от них благодаря процедурам научного разрыва и конструирования. Так, в повседневной жизни имя собственное производит простую маркировку и само по себе, на манер того, что логики называют индексами, почти ничего не значит («Dupont» не обозначает человека моста [l'homme du pont]) и не несет почти никакой информации об обозначаемом индивиде (за исключением случаев, когда речь идет о знатном или известном имени или имени, указывающем на определенную этническую принадлежность). Будучи ярлыком, который может произвольно прилагаться к любому объекту, имя собственное говорит, что обозначенный им объект является отличным, не формулируя, в чем это отличие заключается. В качестве инструмента распознавания, а не познания оно указывает на эмпирического индивида, который воспринимается в целом как особенный, т. е. отличный, не анализируя при этом самого различия. В противоположность этому сконструированный индивид определяется конечным множеством явно заданных свойств, которое – посредством системы точно определенных различий – отличается от множества (сконструированного согласно тем же явным критериям) свойств, характеризующих других индивидов. Точнее, имя собственное в рамках научного конструирования находит свой референт не в пространстве повседневности, а в сконструированном пространстве различий, созданном самим определением конечного множества действующих переменных[36]. Так, сконструированный «Леви-Стросс», о котором рассуждает и которого производит научный анализ, не имеет, строго говоря, тот же референт, что и имя собственное, используемое нами постоянно для обозначения автора «Печальных тропиков». В обыденном высказывании «Леви-Стросс» является означающим, к которому можно применить бесконечное множество предикатов, соответствующих различиям разного порядка и способных выделить французского этнолога не только среди других профессоров, но и среди всех других человеческих существ. И в каждом случае мы будем создавать эти различия, исходя из принципа имплицитной целесообразности, который нам навяжет присущая практике необходимость и срочность. Социологическое конструирование отличается от других возможных (например, психоаналитических) конструирований конечным списком принимаемых во внимание действующих свойств, переменных и бесконечным списком свойств, исключаемых в качестве нерелевантных – по крайней мере, временно. Можно сказать, что переменные вроде цвета глаз или волос, группы крови или роста заключаются в скобки и все происходит так, как если бы они не имели отношения к сконструированному Леви-Строссу. Однако, как хорошо видно на диаграмме анализа соответствий, где он отличается позицией, занимаемой в сконструированном пространстве, эпистемический Леви-Стросс характеризуется системой различий, которые действуют с разной силой и по-разному связаны друг с другом, различий, устанавливаемых между конечным множеством его свойств, релевантных в рассматриваемом теоретическом мире, и совокупностью конечных множеств свойств, присущих другим сконструированным индивидам. Иными словами, Леви-Стросс определен через позицию, занимаемую им в пространстве, в конструирование которого внесли вклад его свойства (и которое также частично участвует в его определении). В отличие от доксического Леви-Стросса, обладающего бесконечным количеством свойств, эпистемический индивид не содержит ничего, что не поддается концептуализации. Но эта прозрачность для самой себя процедуры конструирования является обратной стороной редукции, и прогресс теории как точки зрения, как принципа избирательного видения будет обусловлен изобретением категорий и операций, способных включить в теорию предварительно исключенные свойства (например, те, которые мог бы сконструировать психоаналитик)[37].
Пространственная диаграмма использует одно из свойств обыденного пространства – внешний характер выделенных объектов по отношению друг к другу, – чтобы воспроизвести логику собственно теоретического пространства дифференциации, т. е. логическую эффективность совокупности принципов дифференциации (факторов анализа соответствий), позволяющих различать индивидов, которые были сконструированы благодаря статистическому анализу свойств, установленных посредством применения к различным эмпирическим индивидам общего определения, т. е. общей точки зрения, конкретизированной в совокупности тождественных критериев[38]. И лучшей иллюстрацией того, что отличает эпистемического индивида от индивида эмпирического, является тот факт, что в определенный момент анализа можно наблюдать, как некоторые пары эмпирических индивидов (например, Раймон Полэн и Фредерик Делофр) оказались слиты воедино. Обладая одинаковыми координатами по двум первым осям, они стали неразличимыми, исходя из точки зрения (которая была тогда точкой зрения аналитика), встроенной в список выбранных на определенном этапе исследования переменных[39].
.....