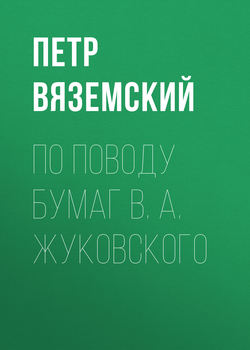Читать книгу По поводу бумаг В. А. Жуковского - Петр Вяземский - Страница 1
I
ОглавлениеВы просите меня, любезнейший Петр Иванович, дать вам некоторые пояснения относительно к бумагам В. А. Жуковского, которые напечатаны в вашем Русском Архиве [2]. Охотно исполняю желание ваше. Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма ему писанные и им писанные, будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем, будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла-бы быть иллюстрирована его биография, эта переписка близко ознакомит и нас современников, и потомство, с внутреннею, нравственною, жизнью его. Эта внутренняя жизнь, как очаг, разливалась теплым и тихим сиянием на все окружающее. В самых письмах этих есть уже действие: есть в них несомненные, живые признаки душевного благорастворения, душевной деятельности, которая никогда не остывала, никогда не утомлялась. Вы говорите, что печатные творения выразили далеко не все стороны этой удивительно-богатой души. Совершенно так. Но едва-ли не тоже самое бывает и со всеми богатыми и чисто-возвышенными натурами. Полагаю, что ни один из великих писателей и вместе с тем одаренных, как вы говорите, общечеловеческим достоинством не мог выказаться и высказаться вполне в сочинениях своих. Натура все-таки выше художества. В творении, назначенном для печати, человек, вольно или невольно, принаряживается сочинителем. Сочинитель в печати чуть-ли не актер на сцене. В сочинении все-таки невольно выглядывает сочинитель. В письмах же сам человек более на лицо. Художник, разумеется, не убивает человека; но так сказать, умаляет, стесняет его. Все это говорится о писателях, которые отличаются и великим художеством, и великими внутренними качествами. С писателями средней руки бывает часто напротив. Они, по дарованию своему, когда оно есть, могут высказываться более и выказывать более, чем натура их выносит. Дарование их, то есть талант, то есть врожденная уловка, есть прикраса, а не красота: это часто блестящее шитье по основе неплотной, быть может и дырявой.
Из бумаг, сообщенных вами, каждая имеет цену и достоинство свое. Но на меня живее всего подействовали письма Батюшкова. Другие будут читать эти письма, а я их слушаю. В них слышится мне знакомый, дружественный голос. На него как будто отзываются и другие сочувственные голоса. В этом унисоне, в этом стройном единогласии, сдается мне, что слышу я и свой голос, еще свежий, не притупленный годами. При этом возрождении минувшего, припоминаю себе ближних и себя. Это частное и временное воскресение из мертвых. Да и кто-же и здесь на земле, хотя отчасти, не живет уже загробною жизнью? В жизни каждого таится уже несколько заколоченных гробов.
Где прежний я, цветущий, жизнью полный?
сказал, кажется, Жуковский. Где они? Где оно, это время, которое оставило по себе одни развалины, пепел и могилы? Для людей нового поколения эти развалины, эти могилы и остаются развалинами и могилами. Разве какой-нибудь археолог обратит на них мимоходом одно буквальное внимание: холодно и сухо исследует их, и пойдет далее искать других могил. Но если, на долгом пути своем, странник, попутчик товарищей, от которых отстал, которых давно потерял из виду, наткнется в степи на могилу одного из них, эта могила, пепел в ней хранящийся, мгновенно преобразуются в глазах его в дух и плоть. Эта могила ему родственная: тут часть и его самого погребена. Могила уже не могила, а вечно живущая, вечно нетленная святыня. В виду подобных памятников, запоздалый странник умиляется и с каким-то сладостно-грустным благоговением переживает с отжившими для света, но для него еще живыми, года уже давно минувшие.
И тут не нужны воспоминания ярко определившиеся, не нужны следы глубоко впечатлевшиеся в почву. Довольно безделицы, одного слова, одной строки, чтобы вызвать из неё полный образ, всего человека, все минувшее. Любовнику достаточно взглянуть на один засохший цветок, залежавшийся в бумажнике его, чтобы воссоздать мгновенно пред собою всю повесть, всю поэму молодой любви своей. Дружба такой-же могучий и волшебный медиум.
Старость имеет одно преимущество (надобно-же ей иметь что-нибудь отрадное): она может многое помнить; много и печального, спора нет; но ведь и в действительности, и в насущности, нет света без тени и, как говорили в старину, нет розы без шипов. Нынешним летом имел я случай напомнить о себе лорду Стратфорду Редклифу. Под именем Стратфорда Каннинга был он мне знаком по Константинополю. В то время слыл он большим недоброжелателем России; может и был он таковым; но во всяком случае, был он более противником политики России на Востоке или, что к одному приходит, был слишком ревнивым, мнительным и раздражительным блюстителем политических Английских интересов на Востоке. Как бы то ни было, но в частных сношениях с Русскою колониею в Константинополе был он самого любезного и дружеского расположения. Никогда не забуду свидетельств внимания и приязни, которые он мне оказывал. Вот что, по поводу привета моего, пишет он мне из Лондона и что навело меня на имя его, в речи, до которой, казалось, нет ему никакого дела. Nous nous rappelons bien, lady Stratford et moi, le temps, aujourd'hui aussi éloigné, de votre visite aux rives du Bosphore. Il vaut bien la реипе de vivre longtemps pour pouvoir encore jouir d'ип souvenir tellement agréable [3].
Разумеется, это вежливые, любезные слова; но много теплоты и чувства в мысли выраженной старцем, что отрадно, что стоит так долго прожить, чтобы наслаждаться еще приятными воспоминаниями. В этой мысли лучшая похвала, лучшее оправдание и утешение старости.
В письмах Батюшкова находятся звездочки (на стран. 350 и 361). Эти звездочки в печати тоже что маски лицам, которым предоставляется сохранять инкогнито. Оно иногда нужно из приличия. Вообще периодическая и хроническая печать мало придерживается этого обычая: она любит демаскировать лица, она мало уважает охранительные звездочки и ведет большой расход собственным именам. Между тем не следует забывать, что собственное имя есть вместе с тем и личная собственность, собственность родовая, семейная. С таким имуществом посторонним людям должно обращаться осторожно и почтительно, пока эта собственность, как например литтературная, авторская, не поступит, за истечением нескольких десятилетних давностей, в область общего достояния. А до законного срока – эта законность не может быть определена цыфрами, но чувством приличия и нравственным тактом. Такая собственность должна оставаться неприкосновенною, не только при жизни собственника, смотря с которой стороны подходишь к этой собственности, но должна быть признаваема во втором и третьем поколении. Печать унижает себя, когда печатает то, что человек не осмелился бы сказать гласно и прямо в лицо другому человеку; или когда говорит на листках своих то, что подсказывающий ей никогда не решился бы сказать в порядочном доме и пред порядочными людьми. Печатное слово должно быть брезгливо, целомудренно и совестливо. Вот оттенки, которые мало, – извините меня, милостивый государь, Петр Иванович, – и не всегда соблюдаются господами журналистами. Впрочем, говорю здесь не об одной нашей журналистике: иностранная также не без греха. Но особенность нашей журналистики заключается в том, что даже самая животрепещущая, самая горячая часть её живет как-то вне общества, на которое хочет она действовать. Говоря языком её, она часто игнорируеть семейные предания, связи тех лиц, которые выводит на свежую, и еще чаще, на мутную воду. Все это нередко делает она невинно, бессознательно. В таких случаях журналистика выходит бедовое дитя гласности (enfant terrible). Но как бы то ни было, соблазн, скандал все-таки заносится на печатные листы.
Разумеется, здесь речь идет не о письменной жизни писателя: такая сторона деятельности его есть прямая принадлежность публики. Сочинение, отданное в печать, есть тот же товар, выносимый на рынок: каждый прохожий имеет право судить его, толковать о нем, хвалить его или хаять, как угодно.
Возвратимся к вашим звездочкам. В принципе я совершенно их одобряю; но здесь, кажется, были они излишняя осторожность. Сначала они, особенно первые, меня немножко интриговали. Но скоро мог я сказать: je te reconnais, или je me reconnais, beau masque [4]. Если-бы вы снеслись со мною заблаговременно, я уполномочил бы вас выдать меня публике живьем и en toutes lettres. В первом инкогнито я догадываюсь, что это я. Но вовсе не помню, к чему относится жалоба и укоризна Батюшкова. Вероятно, недовольный Жуковским за медлительное распоряжение рукописями Михаила Никитича Муравьева, обратил он гнев и на меня, по тому же поводу. Досада его понятна и приносит честь ему. Он дорожил именем и памятью Муравьева. Муравьев был родственник ему, пекся о воспитании его; как человек, как государственный деятель, он был чистая, возвышенная личность; как писатель, оставил он по себе труды, если не блестящие, то приятные и добросовестные, пропитанные любовью к России, к науке и чувствами высокой нравственности. Сочувствия и благодарность связывали Батюшкова с Муравьевым. Очень понятно, что он признавал себя в праве сердиться на друзей своих, когда относились они небрежно к памяти ему дорогой и милой.
2
См. Р. Архив 1875, III (кн. XI), стр. 317-375.
3
Мы с женою хорошо помним время, ныне столь отдаленное, когда вы навестили нас на берегу Босфора. Жить долго стоит труда, дабы иметь еще возможность наслаждаться столь приятным воспоминанием.
4
Я узнаю тебя (себя), прекрасная маска.