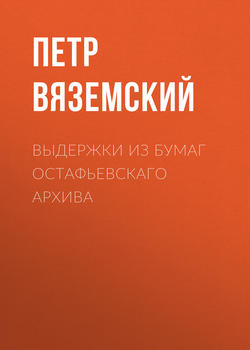Читать книгу Выдержки из бумаг Остафьевскаго архива - Петр Вяземский - Страница 1
ОглавлениеПеребирая старые свои бумаги и старые письма лиц, которых уже нет, кажется, мимоходом и снова переживаешь себя самого, всю свою жизнь и все свое и все чужое минувшее. Тут, после давнего кораблекрушения, выплывают и приносятся к берегу обломки старого и милого прошлого. Смотришь на них с умилением, прибираешь их с любовью; дорожишь между ними и мелочами, которым прежде как будто не знали мы цены. Предания нередко бывают дороже и выше самих событий. Все это особенно относится к чувству личному, к чувству себялюбивому. Таким образом свое настоящее хозяйство пополняет и как будто подновляешь остатками прежнего, которые; хранились в забытых, хотя и заветных, кладовых. Но, кажется, и в общем отношении, и в отношении к посторонним лицам, не современным тому времени, которое в глазах оживает, подобные выставки минувшего должны иметь свою прелест и неминуемо свою пользу. В настоящем мы разделены на отдельные кружки и увлекаемся личными привязанностями и нередко случайностью: в минувшем мы как будто нераздельно все дома и все сродни между собою и с теми которые жили до нас. Границы настоящего должны не только выдвигаться вперед, но и отодвигаться назад. Душе тесно в одном настоящем: ей нужно надеяться и припоминать.
Предлагаемое здесь письмо Жуковского не должно быть потеряно для будущего биографа его. В нем слышатся сердце его и умственная его деятельность. Нельзя не подивиться ревности, с которой он работал, и ревности, с которой он собирался работать. Вообще в жизни внешней приемы и привычки его были довольно ленивого свойства. Но за то умственная и духовная работа была ему необходимо-нужна, и он был в ней неутомим. В то самое время, когда он переводил Новый Завет, он готовился и к переводу Илиады. Между тем и педагогические труды шли своим чередом. И все это, когда уже накопившиеся года и, более или менее, физические немощи могли бы требовать от него отдохновения.
К письму Жуковского сами собою так и ложатся письма Сильвио Пеллико. В них есть одинаковое настроение и, так-сказать, созвучие. В самых личностях двух авторов много общего. Это две сочувственные и родственные натуры. В обоих горело чистое пламя поэзии; сильно и глубоко было развито чувство религиозности; много было смирения, кротости, благоволения.
Проездом чрез Турин в 1835 г. познакомился я с Пеллико, к которому имел письмо из Рима. Все наше знакомство, за скорым выездом моим, ограничилось несколькими часами откровенной беседы. Когда позднее был я снова в Турине, его уже не было на свете. Он умер в 1854 году. Но и в этом кратком и мимоходном знакомстве зародилось, смею сказать, чувство взаимной привязанности, которое сохранилось и заочно. Письма его о том свидетельствуют. Я, разумеется, знал его и прежде по сочинениям его. Он меня вовсе не знал и знать не мог. Я был для него человек совершенно посторонний, чуждый его минувшему и, как минутный проезжий, чуждый его будущему. Одним словом, я был туристом. каких видал он много.
Никакая авторская личность не могла полнее быть проверена сочинениями своими. как личность автора: «Le тиеи prignoni» и философического рассуждения: «Об обязанностях человека» Известно, что, в следствие политических возмущений в Италии, он Австрийским правительством присужден был к смертной казни. Сей приговор был заменен заточением (carcere duro) на 15 лет в крепости Шпильберг. После 9-летнего пребывания в крепости, был он помилован и возвращен в Турин. Такое тяжелое испытание не только не выразилось никаким чувством озлобления в рассказе его о тюремной жизни, но не оставило ни малейшего следа злопамятливости и в нем самом. Напротив, он говорил мне, что из всех этих страданий сохранил он одно чувство глубокой благодарности к Австрийскому императору, который мог предать его смерти, а ограничился одним временным заточением, и тем самым дал ему возможность быть еще подпорою и отрадою престарелых родителей своих и посвятить им жизнь, спасенную от казни. Во всех словах его слышны были искренность и умиление. Тут не было никакого притворства, никаких желаний выказать свое великодушие. Я признавался ему, что слыхал от многих Итальянцев и читателей его, что смирение, выказанное им в рассказе о страдальческих годах его, было в нем искусная уловка, чтобы тем самым придать более ненавистный характер мерам, принятым против него Австрийским правительством. Он отвечал мне, что не дивится подобному заключению, потому что люди вообще так привыкли во многом обманывать себя и других, что им труднее всего, и менее всего верится истине. – Профессор Варуффи, которого письмо тут же приводится, был в Петербурге и, по возвращении своем на родину, напечатал несколько писем о России, В них вообще были довольно благонамеренные отзывы, но и не без примеси некоторых заблуждений, предрассудков и кривых толков, от которых не освобождаются и самые добросовестные посетители нашей terra incognita. Разумеется, для придачи местного колорита выведен был и кнут. – Говорится в письмах и о графе Ксаверии де-Местре, лице памятном и в Москве и в Петербурге. Он приехал в Россию жертвою революционных переворотов своей родины. Не имея никаких средств к существованию, он занимался живописью, в которой отличался дарованьем, и писал портреты. После вступил он в военную службу и, кажется, на Кавказе дослужился генерал-маиорского чина. Известны сочинения его, на французском языке: «Путешествие вокруг моей комнаты», «Прокаженный,» «Кавказский пленник,» «Молодая Сибирячка» и многие стихотворения, из которых одно: «Узник к Мотыльку» переведено Жуковским. Сочинения его, по их оригинальности, свежести чувства и красок, имели большой успех, как во Франции, так и в России. Когда, по долгом отсутствии, приехал он в Париж, все книгопродавцы кинулись к нему и просили нового Путешествия вокруг комнаты и новых повестей, как в старину, после появления книги Монтескьё все книгопродавцы просили новых Персидских писем. Он женат был на девице Загряжской и таким образом приходился дядей Пушкину, которого теща была сестрою графини де-Местр. Но, кажется, он не знал племянника своего, которого уже не было в живых, когда граф возвратился в Петербург на постоянное житье. Он умер в весьма преклонных летах, но до самой кончины своей сохранил блеск, живость и свежесть ума и всю прелесть тонкой и добродушной общежительности.