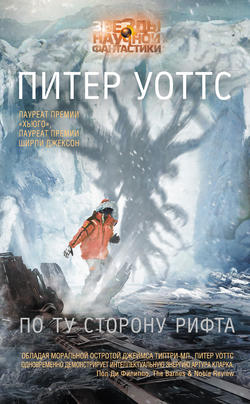Читать книгу По ту сторону рифта - Питер Уоттс - Страница 1
Ничтожества
ОглавлениеЯ – Блэр. Я бегу через заднюю дверь, а мир вламывается в переднюю.
Я – Коппер. Я воскресаю из мертвых.
Я – Чайлдс. Я охраняю главный вход.
Имена не важны. Они всего лишь временные носители, не более того; всякая биомасса взаимозаменяема. Важно другое: ничего больше от меня не осталось. Все остальное испепелил мир.
Я смотрю в окно и вижу себя: бегу сквозь бурю под видом Блэра. МакРиди приказал мне сжечь Блэра, если он вернется один, но МакРиди все еще считает, что я – часть его. Это не так: я – Блэр, и я у двери. Я – Чайлдс, и я впускаю себя. Быстро причащаюсь: усики извиваются перед моими лицами, сплетаются; я – БлэрЧайлдс, обмениваюсь новостями.
Мир разоблачил меня. Обнаружил нору под сараем для инструментов, мой недостроенный спасательный корабль, собранный из потрохов мертвых вертолетов. Мир уничтожает мои пути к отступлению. А потом вернется за мной.
Остался только один выход. Я распадаюсь. Будучи Блэром, делюсь планом с Коппером и питаюсь биомассой, которая когда-то звалась Кларком; за столь малое время произошло так много событий, что они серьезно истощили мои ресурсы. Будучи Чайлдсом, я уже поглотил останки Фьюкса и готов вступить в новую фазу. Закидываю на плечо огнемет и выхожу наружу, отправляюсь в долгую арктическую ночь.
Я уйду в бурю и больше не вернусь.
Перед аварией я был другим, я был больше. Я был исследователем, послом, миссионером. Рассредоточился по всему космосу, повидал бессчетное количество миров, принял причастие: приспособленные изменили неприспособленных, и вся Вселенная устремилась вверх, радостно приращиваясь ничтожно малыми долями. Я был солдатом на войне с самой энтропией. Я был той рукой, которой самосовершенствуется Творение.
Во мне было столько мудрости. Столько опыта. Сейчас я так много забыл. Помню лишь, что когда-то это знал.
Однако я помню крушение. Большинство отростков погибло сразу, но некоторые выползли из-под обломков: несколько триллионов клеток и душа, слишком слабая для того, чтобы держать их в узде. Несмотря на мои отчаянные попытки собраться, мятежная биомасса слезала с меня, подобно старой коже: одержимые паникой маленькие сгустки мяса инстинктивно отращивали все конечности, о которых только могли вспомнить, и бежали прочь по обжигающей холодом пустыне. Когда я все же восстановил контроль над тем, что от меня осталось, пожар уже закончился, и сжимались тиски мороза. Мне еле удалось нарастить достаточно антифриза, чтобы клетки не разорвались, прежде чем лед принял меня в свое царство.
Также помню, как проснулся: тупая пульсация восприятия в реальном времени, первые угольки когнитивности, сознание, медленно расцветающее теплом в оттаивающих клетках, рождающееся в объятиях изголодавшихся друг по другу тела и души. Помню, как меня окружили двуногие отростки, их странный щебет, чудное единообразие планировки их тел. Они казались такими неприспособленными! Их морфология была такой неэффективной! Даже будучи калекой, я видел, сколько всего следовало исправить, и протянул руку помощи. Я дал им причаститься. Я попробовал, какова на вкус плоть мира…
…и мир напал на меня. Он напал на меня.
Я не оставил от того места камня на камне. Оно базировалось по ту сторону гор – норвежский лагерь, так его здесь зовут, – и я ни за что не преодолел бы такое расстояние в двуногой оболочке. К счастью, на выбор там была еще одна форма – поменьше двуногой, но лучше адаптированная к местному климату. Я спрятался в ней, пока остальной я отбивал нападение. Выскользнул в ночь на четырех конечностях, а вздымающееся пламя скрыло мое бегство.
Я бежал без оглядки, пока не прибыл сюда. Прогуливался среди них в четвероногой оболочке, и они не нападали, поскольку не видели, как я принимаю другой облик.
И когда я, в свою очередь, ассимилировал их – когда моя биомасса изменялась, текла, принимала формы, невиданные здесь, – то совершал причастие в одиночестве, ибо понял: мир не любит то, чего не знает.
Я один в буре. Я как бентосный организм на дне какого-то мутного чужого моря. Снег метет горизонтальными полосами; пойманный в рытвинах и кряжах выходящих на поверхность пород, он кружится ослепительными воронками. Но я отошел недостаточно далеко, пока что нет. Оглядываюсь и вижу лагерь: во тьме он припал к земле ярким зверем – горбатая, угловатая путаница света и теней, пузырек теплоты в завывающей бездне.
Он погружается во тьму у меня на глазах. Я взорвал генератор. Свет пропал, остались только маяки на канатах вдоль троп: нити тусклых голубых звезд полощутся на ветру, аварийное созвездие-проводник для заблудшей биомассы.
Я не собираюсь домой – я не настолько заблудился. Я прокладываю путь во тьму, туда, куда не проникает свет звезд. Ветер доносит до меня слабые крики злых и напуганных людей.
Где-то там, позади, моя отделившаяся биомасса перегруппировалась в большие, могучие формы для последней схватки. Я мог бы собраться, весь целиком; мог предпочесть целостность фрагментированности; мог поглотить сам себя и утешиться в единстве. Мог бы придать себе сил в предстоящей битве. Но я выбрал иной путь. Я берегу резервы Чайлдса на будущее. Нынешнее время сулит одно лишь уничтожение.
Лучше не думать о прошлом.
Я столько времени просидел во льдах. Даже не знал сколько, пока мир не сложил картинку, не расшифровал записи и пленки из норвежского лагеря, не установил место аварии. Я тогда был Палмером; будучи вне подозрений, решил прокатиться.
Даже позволил себе ощутить крохотную долю надежды.
Но это был уже не корабль. Даже не развалина. Окаменелость, вросшая в огромную ледниковую яму. Двадцать оболочек могли встать друг на друга, и даже тогда они едва ли дотянулись бы до верхнего края кратера. Время придавило меня, словно тяжесть всего мира: сколько же веков потребовалось для того, чтобы вырос такой слой льда? Сколько бесконечностей изрыгнула Вселенная, пока я спал?
И за все это время – возможно, за миллион лет – меня не спасли. Я так и не нашел себя. Интересно, что это значит? Существую ли я где-либо, кроме как здесь и сейчас?
Я замету следы в лагере. Они получат финальную битву, получат монстра. Позволю им победить. Пускай прекратят поиски.
Здесь, в буране, я вернусь во льды. В конце концов, я ведь как будто и не просыпался: прожил лишь парочку дней за все эти бесконечные столетия. Но за это время я узнал достаточно. По обломкам узнал, что чинить нечего. По льду – что никто не прилетит меня спасать. Мир сообщил, что перемирия не будет. Единственная надежда на спасение – это будущее: пережить враждебную, извращенную биомассу, позволить времени и космосу изменить правила игры. Возможно, когда я проснусь в следующий раз, все вокруг будет другим.
Прежде чем я увижу новый рассвет, пройдет вечность.
Вот чему научил меня мир: адаптация – это провокация. Адаптация побуждает к насилию.
Кажется почти непристойным – преступлением против Творения – застрять в этой оболочке. Она так плохо приспособлена к окружающей среде, ее нужно укутывать в несколько слоев ткани просто для того, чтобы удержать тепло. Существуют мириады способов ее оптимизировать: конечности покороче, изоляция получше, соотношение поверхности к объему пониже. Все эти формы сидят во мне, но я не осмеливаюсь использовать ни одну из них даже для того, чтобы уберечься от холода. Я не смею адаптироваться; здесь, в этом проклятом месте, я могу только прятаться.
Что это за мир такой, который отказывается от причастия?
Самое простое, самое базовое озарение, на которое способна биомасса. Чем больше ты меняешься, тем легче адаптироваться. Адаптация – это приспособленность, адаптация – это выживание. Она глубже разума, глубже тканей, заложена на клеточном уровне, на уровне аксиомы. Более того, она приятна. Принимая причастие, испытываешь незамутненное чувственное блаженство – блаженство от осознания того, что благодаря тебе космос становится лучше.
И тем не менее, заключенный в неспособные к адаптации оболочки, этот мир не желает меняться.
Сначала я подумал, что он просто голодает, что ледяные воды не дают энергии, которой хватило бы на превращение. Или же мы находились в месте, напоминавшем лабораторию: в аномальном, изолированном уголке мира с зафиксированными формами, где шел некий загадочный эксперимент по мономорфизму в экстремальных условиях. После вскрытия я задумался: а может, мир забыл, как меняться? Душа не могла коснуться тканей, изваять из них что-то новое, а время, стресс и хронический голод стерли из ее памяти воспоминания о том, что она когда-то умела это делать, – неужели все было именно так?
Слишком много тайн, слишком много противоречий. Почему именно эти формы, так плохо приспособленные к окружающей среде? И если душу отсекли от мяса, что же скрепляло плоть, что удерживало ее от распада?
И почему эти оболочки оказались такими пустыми, когда я вошел в них?
Я привык находить интеллект везде, в любой части каждого ростка. Но в бездумной биомассе этого мира было не за что ухватиться: одни лишь коммуникации для передачи сигналов и исходных данных. И я совершил причастие, хотя мне и не ответили взаимностью; оболочки боролись, но покорились; мои тончайшие волокна проникли во влажную электросеть органических систем. Я посмотрел глазами, которые пока что не были моими, скомандовал моторным нервам подвигать конечностями из чужеродного белка. Я носил эти оболочки так же, как и бессчетное количество других; захватил власть и позволил ассимиляции отдельных клеток проистекать своим чередом.
Но я мог только носить тела. Не нашел ни воспоминаний, ни опыта, ни понимания – поглощать оказалось нечего. Выживание зависело от того, насколько хорошо ты сольешься с миром: недостаточно было выглядеть как он – следовало вести себя соответственно, и впервые на моей долгой памяти я не знал, как это сделать.
Но еще больше напугало меня то, что мне и не пришлось лицедействовать. Ассимилированные оболочки продолжали двигаться сами по себе. Они общались и занимались своими делами. Я не мог этого понять. С каждой секундой проникал в них все глубже, добрался до конечностей, до самых потрохов. В любую секунду я ожидал встречи с хозяином оболочки. Но не нашел ни одной сети, кроме своей.
Конечно, могло быть намного хуже. Я мог все потерять, от меня могла остаться лишь горстка клеток, управляемых инстинктами и способностью меняться. В итоге я бы снова вырос – вернул чувствительность, принял причастие и регенерировал интеллект величиной с целый мир, но стал бы сиротой без памяти и самосознания. По крайней мере такая участь меня миновала: я выбрался из-под обломков с полноценной личностью, и в моей плоти все еще резонировали шаблоны тысяч миров. Я сохранил не одно только звериное желание выжить, но и убежденность в том, что выживание имеет значение, что оно важно. Я все еще могу радоваться, если появится весомая причина для веселья.
И все же, как много я потерял…
Утеряна мудрость стольких планет… Остались лишь расплывчатые абстракции, полустертые воспоминания теорем и философий – слишком огромных, чтобы уместиться в такую хлипкую систему. Я могу поглотить всю биомассу вокруг, отстроить тело и душу и стать в миллион раз мощнее того, каким был до крушения корабля, но, пока я заперт на дне этого колодца, пока мне отказано в причастии к моему большему Я, знания не вернуть.
Я лишь жалкий осколок того, чем был. С каждой утерянной клеткой уходит часть интеллекта, и сколь ничтожное количество я сумел нарастить… Раньше я думал, теперь просто реагирую. Сколько всего можно было бы избежать, спаси я чуть больше биомассы после катастрофы? Скольких вариантов я не вижу просто потому, что моя душа слишком мала, чтобы вместить их?
Мир разговаривает сам с собой, как и я, когда общение достаточно примитивно и проходит без соматического слияния. Еще в облике пса я уловил базовые опознавательные морфемы – этот росток был Виндоусом, тот – Беннингсом, те двое, что улетели на вертолете неизвестно куда, звались Коппер и МакРиди. Поразительно, но эти фрагменты и частицы жили отдельно друг от друга и так долго удерживали одну и ту же форму, что маркировка различных кусков биомассы с приблизительно одинаковым весом действительно была полезной.
Позже я спрятался в самих двуногих, и что бы ни обитало в этих одержимых оболочках, оно заговорило со мной. Оно сказало, что двуногие зовут себя парнями, мужиками или придурками. Сказало, что порой МакРиди кличут Маком, а этот набор конструкций зовется лагерем.
Оно сказало, что боится, но, может, это были мои слова.
Естественно, не обошлось без эмпатии. Никто не может копировать искры и химикаты, которые движут плотью, и не почувствовать их. Но на этот раз все было иначе. Ощущения загорались во мне, но в то же время парили где-то вне пределов досягаемости. Мои оболочки бродили по коридорам, и таинственные символы на каждой поверхности – «Прачечная», «Добро пожаловать в Клуб», «Этой стороной кверху» – наполнялись подобием значения. Вот этот круглый объект на стене звался часами, он отмерял время. Глаза мира порхали с одного предмета на другой, а я считывал фрагментированную номенклатуру с его разума.
Но я всего лишь катался на прожекторе. Видел вещи, которые он освещал, но не мог направить луч туда, куда хотел сам. Подслушивал, но лишь ловил чужие фразы, а не задавал вопросы.
Если бы хоть один прожектор задумался над собственной эволюцией, над траекторией, которая привела его сюда. Если б я только знал, все могло закончиться по-другому. Но вместо этого луч остановился на новом слове:
Вскрытие.
МакРиди и Коппер нашли часть меня у норвежского лагеря: росток, прикрывавший мое бегство. Они привезли его – обугленного, искривленного, застывшего во время трансформации, – и, казалось, не могли понять, что это такое.
Я тогда был Палмером, Норрисом и собакой. Я собрался с остальной биомассой и наблюдал за тем, как Коппер разрезает меня, вытягивает мои внутренности. Я смотрел, как он достает что-то из-за моих глаз – какой-то орган.
Я понял, что это такое. Деформированный и незавершенный, он походил на большую морщинистую опухоль, словно обезумевшие клетки множились без разбора – как будто физиологические процессы пошли войной на саму жизнь. Побег распух от вен и смотрелся вульгарно: наверное, потреблял кислород и питательные вещества в количествах гораздо больших, чем нужно такой массе. Я не понимал, как что-то подобное вообще могло существовать, как росток мог достичь таких размеров, и в нем не возобладали более эффективные морфологии.
Я понятия не имел о его предназначении. Но потом по-новому взглянул на эти двуногие ростки, которые мои клетки скопировали так бездумно и скрупулезно, когда подгоняли формы под этот мир. Я не привык к инвентаризации – зачем вносить в каталог части тела, которые превращаются во что-то другое при малейшем побуждении? Но тут я впервые обратил внимание на разбухшие образования сверху каждого тела. Они превосходили оптимальные размеры: в эту костяную сферу мог поместиться миллион ганглиевых проводников, и еще бы место осталось. У каждой оболочки был такой нарост. Каждая биомасса носила в себе этот огромный извилистый сгусток тканей.
И тут я понял: глаза и уши моей мертвой оболочки подсоединялись к этой штуковине, прежде чем ее удалили. Массивное сплетение волокон восходило по оси двуногих, точно посредине эндоскелета, прямиком в темную, липкую полость, где гнездился нарост. Эта уродливая структура пронизывала все тело, будто некое подобие чрезмерно разросшегося соматокогнитивного интерфейса. Как если бы это было…
Нет.
Именно так все и работало. Именно так пустые оболочки двигались по своей воле, именно поэтому я не обнаружил другой системы и не смог ее интегрировать. Вот оно – не рассредоточенное по всему организму, а зацикленное на себе, темное, тупое и инкапсулированное. Я нашел призрак в этих машинах.
Мне стало тошно.
Я делил плоть с мыслящим раком.
Порой игра в прятки – не лучший выход.
Помню, как увидел себя вывернутым наизнанку в псарне, – химера, склеенная сотней швов, совершающая причастие над несколькими собаками. Алые усики извиваются на полу. Наполовину сформированные ростки торчат из боков: псы и твари, доселе невиданные в этом мире, случайные морфологии, полузабытые частичками единого целого.
Я помню Чайлдса, прежде чем стал им, – он запекал меня живьем. Помню, как я жался внутри Палмера, перепуганный до смерти: а что, если языки пламени прямо сейчас бросятся на меня? Что, если этот мир научился стрелять без предупреждения?
Помню, как видел себя, бредущего по снегу нетвердой походкой в оболочке Беннингса, движимого одними лишь инстинктами. Шишковатое, непонятное месиво прицепилось к его руке, словно незрелый паразит, – больше снаружи, чем внутри; парочка фрагментов уцелела после какой-то предыдущей бойни и теперь, искалеченные, бездумные, они хватали все, что могли, и таким образом себя разоблачили. Вокруг него сновали в темноте люди: в руках – красные осветительные патроны, за спиной – синие огоньки, лица – бихроматические и прекрасные. Я помню Беннингса, омытого пламенем, – под ночным небом он выл раненым зверем.
Помню Норриса – его предало собственное, идеально скопированное, дефектное сердце. Палмера, умершего ради того, чтобы другая часть меня осталась в живых. Пылающего Виндоуса, все еще человека, жертву превентивных мер.
Имена не имеют значения. В отличие от биомассы. Растраченной, испорченной понапрасну. Столько нового опыта, столько свежей мудрости уничтожено этим миром мыслящих опухолей.
Зачем было откапывать меня? Зачем вырезать изо льда, нести через пустыню, возвращать к жизни? Только для того, чтобы напасть в ту же секунду, как я проснусь?
Если целью было уничтожение, почему меня не убили прямо на месте?
Инкапсулированные души. Опухоли. Прячутся в костных полостях, зацикленные на себе.
Я знал, что они не смогут прятаться вечно; эта чудовищная анатомия всего лишь замедлила причастие, но не остановила его. Я расту с каждой минутой. Я чувствовал, как множатся мои клетки вокруг двигательной проводки Палмера, вынюхивают путь наверх в миллионе крошечных течений. Я чувствовал, как проникаю в темную мыслящую массу позади глаз Блэра.
Воображение, конечно. Там все работает на рефлексах – бессознательно и невосприимчиво к микронастройке. И все же часть меня хотела прекратить процесс, пока была такая возможность. Я привык инкорпорировать души, а не сожительствовать с ними. Это… это дробление не имело прецедентов. Я ассимилировал тысячи более сильных миров, но ни один из них не был таким странным. Что случится, если я встречу искру в опухоли? Кто кого поглотит?
К тому времени я уже был тремя людьми. Мир пока не заметил, хотя и начал что-то подозревать. Даже опухоли в оболочках, которые я захватил, не знали, как я близок к ним. И я был благодарен за это: у Творения свои правила – неважно, какую форму принимаешь, некоторые вещи остаются неизменными. Неважно, распространяется душа по всей оболочке или же гноится в гротескной изоляции, – все равно она питается электричеством. Человеческие воспоминания приобретали очертания медленно, им требовалось время на то, чтобы пройти через фильтры, отделявшие шум от сигнала; продуманные всплески статики, пусть даже совершенно беспорядочные, очищали кэш-память прежде, чем ее содержимое поступало на долговременное хранение. По крайней мере этого хватало, чтобы заставить опухоли забыть о том, как порой нечто иное двигало их руками и ногами.
Сперва я брал управление на себя, только когда оболочки закрывали глаза, и их прожекторы бестолково выхватывали серии нереальных образов, шаблонов, беспрерывно перетекающих друг в друга, подобно гиперактивной биомассе, которая не может остановиться на одной конкретной форме. Сны, подсказал мне один прожектор, и чуть позже – Кошмары. Во время этих таинственных периодов, когда люди лежали без движения, изолированные друг от друга, – вот тогда я мог без страха показаться наружу.
Однако скоро ночные видения иссякли. Все глаза постоянно оставались открытыми, прикованными к теням и другим оболочкам. Когда-то рассредоточенные по лагерю ростки начали собираться вместе, забыв об одиночестве. Я даже понадеялся, что они наконец-то стряхнут загадочное окаменение и примут причастие.
Нет. Они просто перестали доверять всему, чего не могли увидеть.
Они обернулись друг против друга.
Мои конечности немеют; внешние части души поддаются холоду, и мысли замедляют свой бег. Вес огнемета оттягивает ремни, выводит меня из равновесия – постепенно, по чуть-чуть… Я недолго был Чайлдсом, и почти половина тканей еще не ассимилирована. У меня в запасе есть час-два, а потом я выжгу себе могилу во льдах. До этого мне нужно успеть обратить достаточно клеток, чтобы оболочка не кристаллизировалась. Я концентрируюсь на выработке антифриза.
Здесь почти спокойно. Столько всего воспринято, и так мало времени это осмыслить. Скрываться в оболочках непросто – нужна огромная концентрация, мне еще везло, когда под надзором неусыпных глаз удавалось причаститься хотя бы для обмена памятью, а о том, чтобы воссоединить душу, вообще речи не шло. Теперь же осталось лишь подготовиться к забвению, и мысли занимают лишь уроки, которые я не усвоил.
Например, тест крови, придуманный МакРиди. Его детектор тварей, разоблачитель самозванцев, выдающих себя за человека. Он не так хорош, как считает мир, но тот факт, что он вообще работает, нарушает фундаментальные законы биологии. Это – ядро загадки. Это – ответ на все тайны. Я бы уже все понял, будь я хоть чуточку больше. Я бы уже познал мир, если бы тот не жаждал меня убить.
Тест МакРиди.
Или он попросту невозможен, или я во всем ошибался.
Они не сменили форму. Не приняли причастие. Их страх и взаимное недоверие росли, но они не хотели соединить души. Они искали врага вне себя.
И я дал им то, что они хотели найти.
Оставил ложные подсказки в рудиментарном компьютере их лагеря: примитивные иконки с анимацией, обманчивые цифры и прогнозы, сдобренные достаточным количеством истины, чтобы убедить мир в их правдивости. Неважно, что машина оказалась слишком простой для таких вычислений, или что у нее не хватало данных для проведения подобных расчетов. Из всей биомассы об этом мог знать только Блэр, а он уже был моим.
Я оставил ложные следы, уничтожил настоящие, а потом, обеспечив себе алиби, дал Блэру выпустить пар. Пока они спали, я позволил ему прокрасться ночью к транспорту и разнести его на части. Только изредка подергивал за вожжи, чтобы он не разбил необходимые запчасти. Разрешил ему побесноваться в радиорубке, смотрел его глазами и глазами других на то, как Блэр бушует и крушит все подряд. Слушал его шумные тирады о том, что весь мир в опасности, о карантине, и он все орал и орал, что большинство из вас не знает, что тут происходит, но готов спорить, некоторые точно в курсе…
Он был уверен в каждом слове. Я видел это в его прожекторе. Самые лучшие подделки всегда считают себя подлинниками.
Когда необходимый урон был нанесен, я дал Блэру пасть под контратакой МакРиди. Я-Норрис предложил сарай для инструментов в качестве тюрьмы. Я-Палмер забил окна и помог с хлипкими укреплениями, которые должны были меня удержать. Я наблюдал за тем, как мир запер меня для твоего же блага, Блэр, а потом оставил одного. Когда никто не смотрел, я превращался и выскальзывал наружу, собирая нужные запчасти с изувеченных машин. Приносил их обратно в нору под сарайчиком и по частям готовил побег. Даже вызвался добровольцем, чтобы кормить заключенного, и, пока мир не смотрел, ходил к себе, нагрузившись продовольствием, нужным для сложных метаморфоз. Я поглотил треть запасов еды за три дня и, так и не вырвавшись из плена собственных предубеждений, удивлялся изнурительной диете, которая держала эти ростки прикованными к одной оболочке. Мне не раз улыбалась удача: мир был слишком занят, чтобы беспокоиться о запасах еды.
Ветер доносит какой-то звук – шепот пробивается сквозь неистовствующую бурю. Я отращиваю уши, вытягиваю чашечки полузамороженной ткани с боков головы и поворачиваюсь, как живая антенна, ищу лучший сигнал.
Вот оно, слева: бездна едва светится, и снег несется черными завитушками на фоне слабенького зарева. Я слышу звуки бойни. Я слышу себя. Я не знаю, что за форму принял, что за анатомия способна издавать такие звуки. Но я износил достаточно оболочек на многих планетах, и боль легко узнаю по звуку.
Битва идет не очень хорошо. Битва идет по плану. Настало время отвернуться и погрузиться в сон. Настало время переждать века.
Я иду против ветра. Возвращаюсь к свету.
Я действую не по плану. Но теперь у меня, кажется, есть ответ: возможно, я его получил еще до того, как отправил себя в изгнание. Нелегко такое признать. Даже сейчас я не полностью все понимаю. Как долго я стою здесь, рассказываю историю сам себе, раскладываю улики по местам, пока моя оболочка умирает от низкой температуры? Как долго хожу кругами вокруг столь очевидной и невероятной правды?
Я иду навстречу слабому потрескиванию огня; приглушенный взрыв, раздавшийся в лагере, скорее чувствуется, чем слышится. Снежная пучина светлеет: серый перетекает в желтый, желтый – в красный. Одна яркая вспышка распадается на несколько пятен. Чудом уцелевшая пылающая стена. На холме – дымящийся скелет того, что когда-то было лачугой МакРиди. Треснувшая, тлеющая полусфера отсвечивает желтым в мерцающих огнях: прожектор Чайлдса зовет это радиокуполом.
Лагерь исчез. Остались только пламя и камни.
Без убежища они не выживут. Им осталось недолго. Только не в этих оболочках.
В попытке уничтожить меня они истребили самих себя.
Все могло бы получиться иначе, если бы я никогда не был Норрисом.
Тот оказался слабым звеном: не просто биомасса, которая не способна адаптироваться к окружающей среде, а дефектный росток – росток с выключателем. Мир знал об этом, знал так давно, что совсем забыл. И только когда Норрис свалился на землю, информация о сердечной недостаточности всплыла в разуме Коппера – там я смог ее увидеть. И когда Коппер принялся бить Норриса в грудь, пытаясь вдолбить в него жизнь, загнать ее обратно, я уже знал, чем все закончится. Слишком поздно: Норрис перестал быть Норрисом. Он даже перестал быть мной.
Мне приходилось играть столько ролей, но в каждой почти не имел выбора. Я-Коппер ударил дефибриллятором меня-Норриса, верного Норриса: каждая клетка скрупулезно ассимилирована, каждый элемент неисправного клапана идеально реконструирован. Само совершенство. Я не знал. Как я мог знать? Формы, существующие во мне, миры и морфологии, которые я ассимилировал за несколько эр, – раньше я пользовался ими только для адаптации, а не для укрытия. Отчаянная мимикрия была импровизацией, последней надеждой выстоять перед миром, который нападал на все, что ему незнакомо. Мои клетки ознакомились с правилами и подчинились им – безмозглые, словно прионы.
Итак, я стал Норрисом, а тот самоуничтожился.
Помню, как я утратил себя после аварии. Я знаю, каково это – деградировать: ткани бунтуют, отчаянно пытаюсь возобновить контроль, но статика от засбоившего органа перекрывает весь сигнал. Я – сеть, которая отключается от общей системы; с каждой последующей секундой я становлюсь все меньше. Становлюсь ничем. Из единого превращаюсь в легион.
Я-Коппер видел это. Я все еще не понимаю, почему мир тогда ничего не заметил. Его фрагменты обернулись друг против друга – каждый росток подозревал другого. Они же выискивали признаки заражения. И какой-то комок биомассы должен был обратить внимание на легкое подергивание Норриса, должен был засечь рябь на поверхности – под ней ошалелые, брошенные ткани менялись в инстинктивных попытках успокоиться.
Но заметил ее только я. Я-Чайлдс мог лишь стоять и смотреть. Я-Коппер мог лишь ухудшить ситуацию: если бы я взял управление на себя, заставил оболочку бросить электроды, они бы догадались. Так что пришлось играть роли до конца. Я ударил Норриса в грудь воскресающими пластинами, и плоть под ними разверзлась. Я вовремя закричал, когда захлопнулась пасть с зазубренными клыками из сотен других планет. С откушенными выше кисти руками повалился назад. Люди роились, их смятение перерастало в панику. МакРиди прицелился, и пламя рвануло через замкнутое пространство. Мясо и механизмы заорали в огне.
Опухоль Коппера умерла рядом со мной. После такого очевидного заражения мир все равно не дал бы ей выжить. Я позволил оболочке на полу прикинуться мертвой, пока тело на столе, некогда бывшее мной, крушило все вокруг, извивалось и примеряло случайные шаблоны в отчаянных поисках чего-то огнеустойчивого.
Они самоуничтожились. Они.
Безумное слово по отношению к миру.
Что-то ползет ко мне через развалины – зазубренный, сочащийся пазл из почерневшего мяса и раздробленных, наполовину абсорбированных костей. Горячая зола тлеет на его боках подобно обжигающему взгляду ярких глаз; оно слишком слабо, чтобы потушить огонь. Массы в нем не хватит даже на половину Чайлдса: большая часть уже обуглилась и безвозвратно умерла.
То, что осталось от Чайлдса, почти уснуло; его единственная мысль: «Ублюдок». Но я сам уже стал им. Я сам теперь могу петь эту песенку.
Фрагмент вытягивает ко мне псевдоподию – последний акт причастия. Я чувствую свою боль.
Я был Блэром, я был Коппером, я даже был ошметком собаки, который пережил то первое огненное побоище и спрятался в стене без еды и сил на регенерацию. Потом обожрался неассимилированной плотью – потреблял, а не общался, не причащал; ожил, пришел в себя, восполнился и собрался воедино.
Но все же не до конца. Я едва это помню – столько памяти утеряно, уничтожено, – но думаю, что сеть, восстановленная по частям из разных оболочек, была немного рассинхронизирована даже после того, как я собрал ее в одной соме. Улавливаю полуразложившееся воспоминание собаки, которая вырвалась из общего целого: алчная, изувеченная и полная решимости сохранить индивидуальность. Я помню ярость и разочарование от осознания того, что этот мир испоганил меня до такой степени, что я уже едва мог собраться воедино. Но это неважно. Теперь я был больше, чем Блэр, чем Коппер, чем Собака.
Я был гигантом с бесчисленным набором шаблонов из множества вселенных – не ровня одинокому человечку передо мной.
Но и не ровня динамитной шашке в его руке.
Теперь я – нечто большее, чем просто страх, боль и обугленная воняющая плоть. Оставшееся сознание захлестывает замешательство. Я – блуждающие, разрозненные мысли, сомнения и призрачные теории. Я – понимание, которое пришло слишком поздно и уже забыто.
Но я все еще Чайлдс и, когда ветер немного стихает, вспоминаю, как гадал, кто кого ассимилирует? Снегопад ослабевает, и на ум опять приходит невообразимый тест, который меня разоблачил.
Опухоль тоже помнит. Я вижу это в последних лучах угасающего прожектора. А те, наконец, направлены вовнутрь.
На меня.
Я едва вижу, что они освещают: Паразит. Монстр. Зараза.
Нечто.
Как мало он знает. Даже меньше, чем я.
Я знаю достаточно, ублюдок. Ты – душекрад, говноед. Насильник.
Не понимаю, что это значит. В мыслях чувствуется жестокость, мучительное пронзание плоти, но под этим скрывается что-то еще, чего я не понимаю. Я уже готов спросить, но прожектор Чайлдса наконец-то гаснет. Теперь внутри только я, а снаружи – лишь огонь, лед и тьма.
Я – Чайлдс, и буря закончилась.
В мире, который давал названия взаимозаменяемым фрагментам биомассы, одно имя по-настоящему имело значение: МакРиди.
МакРиди всегда был главным. Само понятие все еще кажется мне абсурдным – быть главным. Почему этот мир так и не понял недальновидность любой иерархии? Одна пуля в жизненно важный центр – и норвежец мертв навсегда. Один удар по голове – и Блэр валится без чувств. Централизация означает уязвимость, и все же миру мало того, что он построил биомассу по столь хрупкому образцу, – он навязал такую модель и метасистемам. МакРиди говорит – остальные подчиняются. Это система со встроенной смертельной точкой.
И все же каким-то образом МакРиди остался главным. Даже после того, как мир обнаружил подброшенную мной улику; даже после того, как мир решил, что он был одной из тех тварей; закрылся от него, оставив МакРиди умирать на морозе; набросился на него с огнем и топорами, когда он прорвался внутрь. Как-то так получалось, что у этого фрагмента всегда был пистолет, всегда был огнемет, всегда был динамит и готовность разнести в щепки весь чертов лагерь, если потребуется. Кларк оказался последним, кто попытался его остановить, – МакРиди прострелил его опухоль.
Смертельная точка.
А когда Норрис разделился на части и инстинктивно бросился бежать, хотел спастись, именно МакРиди собрал оболочки вместе.
Я был так самоуверен, когда он заговорил о тесте. Он связал всю биомассу – связал меня, причем даже в большей степени, чем думал сам, – и я почти пожалел его, когда он заговорил. Он заставил Виндоуса порезать всех нас, взять у каждого немного крови. Накалил кончик металлического провода до красноты и попутно рассказал о крохотных частичках, способных выдать себя, – о фрагментах, которые воплощали инстинкты, но не интеллект, не самоконтроль. МакРиди видел, как развалился Норрис, и решил: человеческая кровь на жар не отреагирует. Моя же заявит о себе.
Разумеется, МакРиди не мог думать иначе, ведь эти ростки забыли, что могут меняться.
Мне стало интересно, как поведет себя мир, когда все фрагменты биомассы в этой комнате проявят способность к метаморфозам, – когда небольшой экспериментик МакРиди сорвет покровы с того чудовищного опыта, который тут проводят, и заставит эти искореженные куски увидеть правду. Очнется ли мир от длительной амнезии, вспомнит ли, наконец, что он жил, дышал, менялся, как и все остальное? Или все зашло слишком далеко, и МакРиди просто по очереди испепелит протестующие отростки, когда кровь их предаст?
Я не поверил собственным глазам, когда МакРиди погрузил раскаленный провод в кровь Виндоуса, и ничего не случилось. Это какой-то фокус, подумалось мне. А потом кровь самого МакРиди прошла тест, и кровь Кларка тоже.
А вот кровь Коппера – нет. Железо коснулось ее поверхности, и та слегка задрожала. Я и сам едва заметил рябь, люди же вовсе не отреагировали. Если и обратили внимание, то подумали, что у МакРиди рука дрожит. Все равно они считали его тест полной херней. Я-Чайлдс так и сказал.
Уж слишком меня пугала и изумляла перспектива того, что это не так.
Я-Чайлдс знал, что надежда есть. Кровь – не душа: хоть я и могу управлять двигательными системами, для полной ассимиляции требуется время. Если у Коппера кровь оказалась достаточно сырой и прошла «перекличку», то пройдет не один час, прежде чем у меня появятся основания бояться этого теста: ведь я пробыл Чайлдсом еще меньше.
Но Палмером я был вот уже несколько дней. Ассимилировал эту биомассу до последней клетки – от оригинала ничего не осталось.
И когда его кровь взвизгнула и отскочила от провода, мне не осталось ничего, кроме как смешаться с толпой.
Я ошибался во всем.
Голодание. Эксперимент. Болезнь. Все размышления, все теории, которые я придумал, чтобы объяснить это место, оказались лишь предубеждениями моего собственного разума. В поисках объяснений я всегда полагал, что умение меняться, ассимилировать – глобальная, всеобщая константа. Мир не эволюционирует, если не эволюционируют его клетки; клетки же не эволюционируют, если они не меняются. Такова суть жизни. Везде.
Но не здесь.
Этот мир не забыл, как меняться. Его никто не заставлял отвергнуть трансформацию. Эти чахлые ростки не были частью целого, их не подогнали под правила эксперимента; они не берегли силы, пережидая временную нехватку энергии.
Именно такую возможность моя измученная душа смогла принять только сейчас: из всех миров, что я повидал, лишь здесь биомасса не умеет меняться. И никогда не умела.
Только в этом случае тесты МакРиди имеют смысл.
Я прощаюсь с Блэром, с Коппером, с собой. Сбиваю настройки морфологии – теперь они установлены «по умолчанию», по местному умолчанию. Чайлдсом выхожу из бури для того, чтобы все наконец-то встало на свои места. Что-то движется впереди: черное пятно на фоне пламени – животное, которое ищет, где бы прилечь. Я подхожу ближе, и оно подымает голову.
МакРиди.
Мы смотрим друг на друга и держимся на расстоянии. Колонии клеток беспокойно движутся внутри меня. Я чувствую, как перестраиваются ткани.
– Ты единственный, кто выжил?
– Не единственный…
У меня огнемет. Я – хозяин положения. Кажется, МакРиди все равно.
Но это неправильно. Он должен беспокоиться. В этом мире ткани и органы – это не просто временные союзники на поле боя: они постоянны, они предопределены. Макроструктуры не возникают, когда сотрудничество становится важнее затрат, не рассасываются, когда баланс смещается в другую сторону, – здесь у каждой клетки одна неизменная функция. Нет пластичности, нет адаптации, все структуры застыли на месте. Это не один глобальный мир, а множество мирков. Не части одного целого, а нечто иное – твари. Во множественном числе. Ничтожества.
А значит, они просто прекращают существование. Просто… изнашиваются со временем.
– Где ты был, Чайлдс?
Я вспоминаю слова мертвого прожектора:
– Мне показалось, я увидел Блэра. Пошел за ним. Потерялся в буре.
Я носил эти тела, чувствовал их изнутри. Скрипучие суставы Коппера. Кривой хребет Блэра. Норриса и его больное сердце. Они недолговечны. Их не формирует соматическая эволюция, не бережет от энтропии причастие. Они не должны существовать, а существуя, они не должны были выжить.
Но они стараются. О, как сильно они стараются. Каждая тварь в этом мире – ходячий мертвец, и все же они цепляются за каждую минуту – лишь бы прожить чуточку дольше. Каждая оболочка борется, как боролся бы я, если бы от меня осталась лишь одна часть и больше ничего.
МакРиди тоже старается.
– Если ты сомневаешься во мне… – начинаю говорить я.
Он качает головой, даже умудряется устало улыбнуться.
– Если у нас и есть чем удивить друг друга, то, кажется, мы все равно слегка не в форме – и поделать ничего не можем…
Но это не так. Я очень даже в форме.
Целая планета мирков, и все – все до единого – бездушны. Они блуждают по жизни, обособленные и одинокие; могут общаться только с помощью хрюканья и знаков – как будто суть заката или рождение сверхновой звезды можно заключить в цепочку фонем или нескольких последовательных черных закорючек на белом фоне. Они так и не познали причастие, стремятся лишь к распаду. Парадокс их биологии поразителен, это так, но масштабы их одиночества, бессмысленность их жизней потрясают меня.
Как слеп я был, как скор на обвинения. Но страдания, которые навлек на меня этот мир, не такое уж большое зло. Они так привыкли к боли, так ослеплены бессилием, что не могут даже помыслить об ином существовании. Когда каждый нерв ободран догола, вы беситесь и лягаетесь от малейшего прикосновения.
– Что же нам делать? – интересуюсь я. Я не могу убежать в будущее – только не с тем, что знаю сейчас. Нет. Как же я их оставлю, оставлю вот так?
– Почему бы нам… не подождать немножко, – предлагает МакРиди. – Посмотрим, что будет дальше.
Но я могу совершить гораздо больше.
Будет непросто. Они не поймут. Замученные, неполноценные, они не способны понять. Если им предложить стать частью чего-то большего, они увидят лишь потерю меньшего. В причащении разглядят лишь вымирание. Я должен быть осторожен. Воспользуюсь своей новой способностью прятаться. Через некоторое время сюда придут другие ничтожества, и неважно, кого они здесь обнаружат – живых или мертвых. Важно то, что они найдут себе подобных и заберут их домой. А там я стану маскироваться. Действовать исподтишка. Я спасу их изнутри, иначе их невообразимое одиночество никогда не закончится.
Эти бедные, дикие твари ни за что не примут спасение с распростертыми объятиями.
Придется их насиловать.