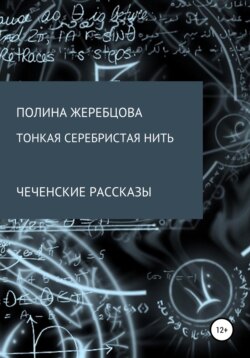Читать книгу Тонкая серебристая нить - Полина Викторовна Жеребцова - Страница 1
ОглавлениеМного у Господа светлых убранств
Мы сидим на Старой башне, а внизу, в синеве залива, купается солнце, словно надкусанное оранжевое яблоко.
– Что есть мир видимых траекторий?
– Зачем тебе? – спросил дед, не отрывая взгляда от переливающейся воды. – Лови сны! Сегодня много пушистых.
Я поймала один в виде огненного шара, но он рассыпался на множество искр, которые упали вниз, на позолоченные крыши храмовых построек.
– Осторожнее, внучка, – прошептал дед Атолла и засмеялся в густую белую бороду.
– Как я могу ловить сны? Удочка, которую ты мне дал, – ненастоящая! – сказала я, надувшись.
– Всё, что ты можешь себе представить, всё, что ты можешь увидеть, – подлинное, – парировал дед и, в подтверждение своих слов, легонько ткнул меня тонкой, похожей на тростинку удочкой в бок.
– Ой! А что было раньше на Старой башне? Ведь всегда что‑то бывает раньше, перед «потом»… – мысли не давали ни минуты покоя, их поток жужжал внутри головы, словно рой пчел.
– Мысли – это ветви, проникающие неглубоко: в изнанку мира, туда, где много швов и стежков. В глубину ведет тишина… – сказал дед, вытаскивая из солнечных лучей перламутровый треугольник, который, мелькнув, стал серебристой рыбой, а потом пропал в отражении его глаз. Однако на мой вопрос дед все же ответил: – Раньше на Старой башне был маяк.
– Маяк? – ответило эхо внутри меня: было так неуютно в окружающей нас тишине.
– Здесь горел огонь, замурованный в куполе цветного стекла. Свет был виден даже за Призрачной границей, и никто не сбивался с пути. Сюда поднимались лодки.
– Лодки без парусов?
– Они поднимались как пар с самого низа сквозь все измерения. В каждой лодке – одна душа. Никогда я не видел двух душ вместе! Рядом с душой был фонарь, жестяная плетенка с огнем внутри. И души, воплотившись, грели об него свои, как им казалось, холодные руки.
– А что потом?
– Будет тишина или нет? – не выдержал дед и посмотрел на меня сурово. – Сейчас здесь нет маяка, нет душ, и даже склад фонарей ликвидировали…
Пришлось умолкнуть.
Нырять в тишину утомительно для меня. На это я трачу больше энергии, чем на всё, что умею: тишина как омут. Ты прыгаешь с высоты, но не идешь на дно, потому что боишься. Страх заставляет тебя выныривать из тишины, судорожно глотать воздух, жмуриться и совершать бессмысленные движения. А нужно уйти в глубину, посмотреть и увидеть, как слова и мысли искажают донные потоки.
Мы всегда знали всё, только забыли.
Всё, что потом прочитаем, расскажем и нарисуем. Всё, о чем будем говорить и писать. Это хранит глубина. «Быть может, прежде губ уже родился шепот», – вспомнила я строчки из старой книжки.
Раньше у меня совсем плохо получалось с этими делами – я была маленькая, а теперь подросла и стала слышать свое дыхание: солнечный ветер, пульсирующий под кожей. Дед говорит, это лучше, чем долго настраивать стук сердца.
Нырнув в глубину, я увидела море цветов. Это было настоящее море из красных, розовых, белых и желтых тюльпанов. Тюльпаны, подобно морским волнам, шумели. Большая белая черепаха возникла из глубины небесного свода. Ее панцирь из темно‑синих сапфиров сверкнул в догорающем солнце, и черепаха, мудрая и важная, спокойно поплыла по синему небу.
Здесь врата тишины.
И границы во внутренний космос – отсутствуют.
Я открыла глаза.
Дед Атолла собирал улов в сеть. Сны переливались и пушились. Мне понравился бирюзовый, похожий на морскую звезду, но дед сказал:
– Это подарок Чапе!
Чапа – наша собака, дворняжка, мы любим ее за веселый нрав. Дед говорит, что когда‑то ее отравили злые люди, и она умерла. Ее кости истлели в заброшенном старом колодце, но теперь Чапа ничего не помнит и виляет хвостом.
– Дед, а почему Чапа ничего не помнит?
– Ты хочешь, чтобы она вспомнила?
Я поняла, что дед немножко сердится, и домой мы пошли молча. А мне так хотелось чудес! Я слышала о наемниках Света, воюющих в нижних мирах, о странниках Тьмы, шпионящих в верхних потоках, и о долине Сиреневого Огня – обители джиннов. Но дед Атолла не отпускал меня из границ Старой башни. Это было наше Убежище. Временный приют всего на пару веков, стекающих с ладоней подобно каплям воды.
Наш дом имел зеркальный покров, и каждый приближающийся к его стенам мог увидеть только себя. Возможно, это и стало причиной нашего одиночества: кто решится прийти и рассмотреть свою душу? Непосильный труд.
Чапа, задорно лая, бежала навстречу. Она прыгала как заяц, а потом и вовсе пустилась в пляс. Дед издали бросил ей сон в виде морской звездочки. Собака принялась грызть его и облизываться…
– Она сейчас не заснет! – сказала я.
Дед промолчал.
Вечером мы читали книги у камина и пили зеленый чай.
– Ты знаешь, что такое время? – неожиданно спросил дед Атолла.
Обрадовавшись, я поспешила ответить:
– В Хрониках Песка написано, что время – это поток, пронизывающий нижние миры. Игра ума, способная сохранять искажения, слова и мысли.
– Не совсем так. Время – это, конечно, игра ума, однако восприятие его в нижних и верхних мирах неоднозначно. В нижних мирах время – это туннель. Оно никогда не движется сквозь тебя, ты перескакиваешь его, ныряешь в него и таким образом оказываешься в лодке без паруса. В верхних мирах по‑другому, но нас туда не возьмут.
– Почему?
– А кто мы? Осколки. Нити снов. Странники иных измерений. Эхо прошлого и будущего. Собиратели Историй. Мы обрели покой, заплатив дорогую цену.
– Так ты сам не знаешь, что за Старой башней, а не пускаешь меня туда! – с обидой сказала я.
– Знаю. Я был в нижних мирах и легко менял обличья, но когда возникла одна‑единственная крошечная лазейка, я воспользовался ей, и вот теперь мы здесь.
– А как же я?
– Я не мог спасти всех. Моих сил было недостаточно.
Чапа, поставив передние лапы на гамак, в котором уютно устроился дед, доверчиво прижалась к его штанине щекой и заглянула в глаза, а потом внезапно, что‑то вспомнив, бросилась в коридор и принесла в зубах тапочки.
– Как тапочки все время оказываются в коридоре?!
– Она это знает, и поэтому они там, – улыбнулся дед.
– Ты все знаешь! – сказала я. – Все на свете!
– Главное – детали. Остальное не имеет значения: это фон, проекция мыслей, вовлечение в пустоту. Куда бы ты ни попала – лови детали. Только из них строят миры.
– А что есть одиночество?
– Когда у человека нет семьи, которую бы он любил, он одинок. Человек говорит, что любит свою работу, но он просто забывается в ней. И знает, что вечером некому спеть колыбельную песню. Когда человек пьет веселящий его напиток, мир рушится быстрее, чем ему положено. Сны мучают его одиночеством и пустыми мечтами. Зато когда человек молится, он открыт и прекрасен. Некоторые говорят с Богом, как с соседом по дому, другие – как с Владыкой Вселенной. Но просят все одного – счастья. На рассвете у моря или на закате в пещерах, где обитают летучие мыши, человек видит знаки.
Я задумалась, а потом ответила:
– Я сожгла свои карты Таро. Вольно им было всегда говорить правду! Правда бывает разной. Когда ее можно увидеть, проследив полет пчелы, то уже не нужна бумага.
– Читая книги, человек не спасается от одиночества. Он пропитывает им страницы, не в силах проснуться и вспомнить, что было время, когда он не умел читать. Зато видел, КАК растет трава. Опрокидывая воспоминания о прошлом, знай, что всё закончится, как начиналось: пятна света в золотых пляшущих мушках.
Сны волновались, и я, выбрав один из корзинки, растворила его в себе.
Осознанные сновидения – это не просто место, это тайна, которой не существует. Когда попадаешь туда, не нужны дополнительные снаряжения в виде знаний, просто следует понять, что это – сон. И я поняла.
Я увидела белую комнату с полукруглыми стенами. В ней не было окон, зато были двери‑арки. Каждую арку закрывало сплошное полупрозрачное стекло. Для того чтобы проникнуть внутрь, надо было пройти сквозь него. Я приложила руку к стеклу и ощутила прохладу, как от зеркал, защищающих наш временный приют.
Расщепление – это разборка тканей на элементы и сбор их в обратном направлении. Все странники измерений умеют это делать. Сосредоточившись, я рассыпалась на светящиеся молекулы, и они прошли сквозь стекло, собравшись по другую сторону воедино. Это заняло пару секунд.
Теперь я заметила, что таких белых комнат много. Из одной двери‑арки можно было попасть в другую по лабиринтам.
В первой комнате меня ожидал сюрприз: я увидела кареглазую девочку в окружении других детей. Она ссорилась со светловолосым мальчиком из‑за игрушки – красивой маленькой лошадки с золотой гривой. Дети кричали друг на друга. Мальчик отбирал лошадку у девочки, но маленькая проказница, изловчившись, так стукнула его по ноге, что он упал. Игрушка осталась в ее руках.
Для видимых образов мы остаемся недостигаемыми: нас нельзя ощутить или потрогать. Мы берем из них нити света, в этом наша сила. Но сейчас я решила просто идти дальше.
В другой комнате девчушка лет одиннадцати вертелась перед зеркалом в ярком зеленом платке и напевала стихи, наверное, собственного сочинения:
Заката тлеющую рану
Внезапно солнце расплеснет,
И озарится лист Корана
Мечтой, похожей на полет…
Потом девочка стащила с себя платок и, сверкнув коротким ежиком волос, рассмеялась, громко объявив в пустоту:
– Меня зовут Нейши!
Комнаты были прочные. Я подошла и постучала по стене: тук‑тук.
Опасно для странника измерений поддаться эмоциям. От этого мы упускаем возможность контролировать силу и тратим энергию попусту. Если я и обижаюсь на деда, а он на меня – это шутка, игра, но не более того. Это не всерьез. На это энергия не уходит.
Но в этой части сновидения я начала ощущать переживание: в каждой комнате меня ждали ссоры, дружба, любовь.
Периодически мне пришлось восстанавливать свою энергию – потирая руку об руку. Так нужно, чтобы не утащило в пространство Ид, пространство, где нельзя контролировать сон и ус– талое сознание мечется, подобно тряпке в тазу с грязной водой.
В последней из белых комнат, где я оказалась, я увидела девушку девятнадцати лет. Она прощалась со старенькой женщиной с добрыми солнечными морщинками. Женщина сидела в кресле‑качалке и вязала шарф, а полосатый котенок рядом баловался, запутывал нитки. Девушка наклонилась и поцеловала ей руку.
– Мы еще увидимся… – прошептала она.
Но я знала: тот шарф останется недовязанным и долго будет пылиться на деревянной книжной полке.
Когда все комнаты закончились, я поняла, что стою в коридоре, который ведет туда, где светились прозрачные фиолетово‑золотые шары, похожие на круглые лампы под потолком.
Пойдя в этом направлении, я нашла еще одну комнату. Двадцать вторую. Там сидел мужчина. Светловолосый, синеглазый. При моем появлении он отложил в сторону древнюю книгу, страницы которой затрепетали от негодования. Она хотела внимания, но странник отключил его, и книга, заворчав, как брошенный пес, рассыпалась и пропала.
Объектом внимания стала я.
Есть вирус. Он называется доверие. По всей видимости, незнакомец успел меня заразить, воспользовавшись внезапностью появления.
Нам позволено два потока: страх и любовь. Страх идет изначальным, первым, глубинным, но я его пропустила.
– Меня зовут Рыцарь… И я живу здесь.
– Где?
– Здесь!
Он ловко поймал и вернул мне белую нить света. Энергия начала стабилизироваться.
– В моем сне?
Рыцарь засмеялся и смеялся довольно долго – я даже успела обидеться. Белые комнаты мгновенно окрасились оранжевым цветом и рассыпались. Мы стояли у мрачного Замка. Его зубчатые стены уходили в самое небо.
– Это моя обитель. Я живу в ней тысячи лет. В соседних лесах от деревьев мертвые берут силу. Деревья питают их, подобно кувшинам с парным молоком.
– Ты странник? Ты умеешь нырять в тишину?
– Я вынырнул оттуда давно. С тех пор я пью солнечный свет. Я – рыцарь солнца. На месте твоего дома в одном из нижних пространств – мой замок. Я живу в нем, как затворник, изучая мир летающих магов.
Только теперь я разглядела, что на длинных волосах Рыцаря завязан маленький шелковый платок. Он перехватывал заплетенную густую косу, являясь заколкой. Один из углов платка был длиннее волос и продолжал косу из тяжелых каштановых волос.
– Как ты попал в сон, пойманный на Старой башне?
– Ты видишь Старую башню, а я вижу Мост. Это Мост, на котором есть шлюз. Сны, что вы ловите, – обитатели шлюза.
– Как это?
Вместо того чтобы ответить на вопрос, Солнечный Рыцарь внимательно посмотрел на меня и спросил:
– Сколько тебе лет?
Хотя вопрос был с виду прост, ответить на него я не могла. Дед Атолла считал меня совсем маленькой, а сам был древним как обитатели Ледяных Глыб, перемещающихся от эры к эре. Однако иногда мне казалось, что я знаю все, а иногда – что ничего.
– На вид – ребенок, но за плечами – шесть рождений в одном из нижних миров, четыре эры погружения в осознанные сновидения. Немало. В одном из тонких пространств ты известна как Жрица с изумрудными волосами, – подытожил Рыцарь.
Я не знала, что на это следует ответить, поэтому промолчала.
– Мы встретимся. Мой осколок живет там, где окажешься ты.
Осколки – это отражение одних и тех же душ в разных реальностях. Они являются носителями одной информации и связаны с оригиналом первого модуля.
– Как я узнаю?
– Солнце укажет путь.
– А что за шлюз на Мосту?
– Собственно, если бы не он, я бы не потревожил тебя. Он явит тебе тень огненного вихря. Его сила превзойдет силу солнечного света, и ты сможешь прочитать историю измерений. Белое и Красное встретятся. Только опасайся человека Молний.
Просыпаясь, я поняла, что не успела ничего узнать про человека Молний, а Чапа уже виляла хвостом и задорно лаяла рядом.
Выйдя наружу, я увидела, что деда нет. Наше солнце никогда не уходит с горизонта, но мы наблюдаем звезды, когда оно купается в море или прячется за Синие горы. Вот и сейчас я смотрела с обрыва вниз, где под толщей прозрачной воды можно было разглядеть созвездие Пса. Есть поверье, что те, кому нужна лодка без паруса, ждут оттуда проводников.
Ноги сами несли меня к Старой башне. Я смотрю и вижу дорогу. Или на самом деле здесь бурлит зелеными водами река? Что такое подлинная реальность?
Верхний этаж – под цветным куполом, где давным‑давно не горит огонь…
Огонь.
А на каких частотах он горит?
Что есть время для меня: кольцо или лента?
Сев под купол, я закрыла глаза. Пламя, внутри которого я находилась, не обжигало меня.
– Каб и таб.
Это подошел дед Атолла:
– Ты видела его?
– Кого?
Очевидно, он знает.
– Я не хотел, чтобы тени решали за нас.
– Почему?
– Это твой прыжок. Я предчувствовал.
– Не переживай, деда.
– Есть души‑потоки, а есть души‑пространства. Большинство душ – пространства. Они являются структурой всего видимого, его переходными видами. Потоки – это те, кто изменяет структуру пространства. Самый ценный материал. Грааль, истина, светоч. За ним охотятся все.
– А какое отношение…
– Прямое. Между пороком и невинностью выбирай чистоту, между счастьем и горем выбирай чистоту, между жизнью и смертью выбирай чистоту.
Дыхание теневого огненного вихря усиливалось. Может быть, это открывался таинственный шлюз.
– То, что увидишь ты, не увидит никто, – сказал дед Атолла. – Тебе выбирать, видеть или нет. Пересмотреть все – значит подвергнуть себя опасности.
Чапа бегала вокруг и виляла хвостом.
Потом я услышала, как затихли их шаги.
И нырнула в глубину.
Когда самолеты спят
Мы шли с большим трудом, проваливаясь в рыхлый снег. Дорога была опасной и неблизкой.
– Только на рассвете самолеты спят! – сказала мама. – Поэтому, когда восходит солнце, они не бросают бомбы.
У меня по этому поводу была своя теория: если самолеты бомбили весь день и всю ночь, отчего бы им не заняться этим и на рассвете?
– Просто они полетели за новыми боеприпасами! – объясняла я маме.
– Да что ты понимаешь в свои девять лет! – отмахивалась мама от меня, как от мухи.
На маме было теплое светло‑голубое пальто и белый вязаный шарф, которым она закрывала волосы. «Для маскировки!» – часто повторяла она, если нам приходилось лежать под обстрелом, зарывшись, подобно кротам, в снег: «С высоты нас примут за маленькое пятнышко и не убьют. Зачем им пятнышко?»
Мы шли за хлебом на Хлебозавод.
Мне с самого начала эта затея не понравилась, но отпустить маму одну я не могла. Мне всё время казалось, что когда я рядом, то смогу ее защитить, вовремя подсказать, что делать, куда бежать, или сумею спрятать от бомбы.
Побродив по пустому разбитому Хлебозаводу и, разумеется, никакого хлеба не обнаружив, мы решили возвращаться. Мои сапоги промокли, а варежки мало согревали руки, но я не жаловалась, а всё прислушиваясь, не летят ли самолеты.
Гул в небе заставлял меня судорожно вздрагивать и закрывать голову руками. Когда самолеты шли на снижение, чтобы сбросить бомбы на улицы и дома, их рев, подобно огромной звуковой волне, накрывал нас, и только затем следовали оглушительные взрывы и земля уходила из‑под ног. В воздухе пахло металлом и пеплом, а черные сгоревшие дома походили на истлевшие скелеты людей, и казалось, что мы навсегда застряли в этом кошмаре.
Иногда вдалеке по трассе ехала грузовая машина, скрипя колесами по льду и снегу. Этот скрежет я принимала за нарастающий гул самолета‑штурмовика, поэтому падала прямо на дорогу и закрывала уши.
– У всех дети храбрые, а мне трусиха досталась! Это машина! Она уже проехала, – ворчала мама, нередко награждая меня тумаками для пущей убедительности.
Но случалось так, что мама ошибалась. Взрослым свойственно не видеть детали, не чувствовать связи между явью и сном. Вернее, чувствовать могут лишь те, кто сохранил в себе душу ребенка. Таких людей единицы.
Вот и на этот раз, поругав меня за трусость и поглядев вслед удаляющемуся грузовику, в котором гремели какие‑то коробки и железные ящики, мама упустила из виду, что российский самолет словчил, втиснувшись в гул промчавшегося по абсолютно пустой трассе грузовика.
Предчувствие подсказывало мне, что маму нужно спасать. Я знала, что будет взрыв за минуту до того, как его услышат остальные обитатели ада. Дернув маму за рукав, я заставила ее согнуться к земле, усыпанной снегом, и прокричала:
– Мы должны спрятаться!
Рядом с нами, буквально в десяти шагах, была бетонная плита, исчерченная осколками. Серая большая плита, в которой жили искореженные куски арматуры, лежала сама по себе рядом с трассой.
– Что?! – не поняла мама.
В этот момент земля под ногами покачнулась, самолет злобно взвыл, выходя из пике, и стало ясно, что мы совершенно лишние в пространстве черного снега и белого огня. Мама скатилась за бетонную плиту ко мне. Солнце светило нам прямо в глаза.
Я лежала на холодной январской земле и думала о том, что больше не увижу, как растет трава. Именно эта мысль казалась мне сейчас очень важной.
Я всегда любила смотреть, как растет трава. Утром, в час пробуждения солнца, зеленые ростки показывались из глубин земли. Днем ростки становились больше, приобретали темно‑зеленый цвет, и довольные садовые улитки стремились вскарабкаться повыше на одуванчики, чтобы сверху посмотреть на эту красоту: к вечеру травинки наливались соком весны. Нередко, сбежав из дома, я проводила целый день, наблюдая за этим удивительным микромиром.
Кто‑то скажет «глупость», а это была моя вселенная. Закрыв глаза, я видела улитку, которая питалась травинками.
Мы лежали на снегу около часа, пока соседняя улица превращалась в горстку камней, оставляя свою жизнь лишь старым фото, а потом побрели в свой дом, как оказалось, частично уцелевший при бомбежке. Хлебозавод находился в низине, и нужно было идти вверх по улице. Возвращались мы молча.
Когда проходили мимо одного из догорающих домов, я отпустила руку мамы и, приблизившись, стала рассматривать то, что стало пеплом: стены, вещи, человеческие тела.
– Зачем ты это делаешь? Пошли домой! – твердила мама, пытаясь оттащить меня от дымящегося пепелища.
– Нет! Я хочу видеть, – ответила я, понимая, что теперь, закрывая глаза, буду видеть не зеленую траву, а белый дым, идущий от черных частиц материи.
В родной двор мы пришли уставшие и голодные. Ничего мы не нашли: ни хлеба, ни круп. Но заметили странное оживление около дома: костер и группу соседей с мисками. Вокруг раздавались возгласы: «Сказка!», «Диво!», «Чудеса!» – и мы протиснулись в толпу, чтобы тоже увидеть чудо.
Оказалось, что наш сосед, ингуш по имени Султан, отец моей подруги Хавы, где‑то нашел курицу. Настоящую! Живую! Поймал!
После того как куриная душа отправилась в Поднебесье, ее тушку, помолившись Аллаху, решили сварить в огромном десятилитровом ведре! Соседи волновались, хватит ли всем такого лакомства? Жители наших домов забыли даже о самолетах и гулкой канонаде: все смотрели в ведро с булькающей водой. Русские и чеченцы, евреи и армяне, цыгане и кумыки сгрудились с мисками, кастрюльками, банками. Аварцы принесли луковицу, которая тут же резво прыгнула в ведро, как и до этого две картошки, пожертвованные ингушем Султаном. Получался настоящий суп!
Еды давно не было. Ведь шла военная осень 1994‑го. Бомбили и обстреливали с октября, поэтому рынки и магазины опустели; тех, у кого было свое хозяйство, выручали запасы. Люди, жившие в квартирах, быстро ощутили голод в отсутствие еды.
– Еще бы хлеба! – мечтательно промолвила старушка Настасья, подкладывая в костер полено; но хлеба, увы, не было. Не было даже лепешки: мука закончилась.
О Султане, худеньком черноглазом соседе, который носил усы, раздавались хвалебные отзывы:
– Мог бы и сам съесть втихую, а он всех позвал!
– Молодец!
Когда курица сварилась, Султану вручили половник, и он начал разливать по банкам и мискам военный суп. Жители хватали горячую банку или миску – у кого что было в наличии – и бежали в укрытие, в родные стены, кормить детей и стариков.
– Может, нам ничего и не достанется. Мы последние пришли… – сказала мне мама.
Я сверлила дядю Султана взглядом, как бы напоминая, что мы с его дочкой Хавой ходим в одну школу, а это значит…
– Лена, давай сюда кастрюльку! – сказал Султан.
Некоторые жильцы от такого заявления скривились, потому как были ближе к ведру, а супа уже осталось меньше половины.
Мама мгновенно протянула посудину. Помимо бульона от курицы в кастрюльку еще что‑то плюхнулось, и народ подозрительно воззрился на Султана.
– Раз картошка попала в их кастрюльку, значит, на то была воля Аллаха! – бодро сообщил приунывшим соседям отец Хавы, отщипывая нам и клочок мяса.
Домой мы бежали довольные. Благо до подъезда было недалеко.
Одиннадцать беженцев, проживающих у нас потому, что в их квартиру попали из установки «Град», похватали ложки и разделили с нами наш завтрак, обед и ужин в одной тарелке.
Мне досталась половинка картошки. Неслыханное богатство!
Мы – террористы
Сейчас щелкну замочком на сумке, и будет взрыв.
Кто бы мог подумать, что внутрь металлического язычка изящного дамского аксессуара из крокодиловой кожи внедрен сгусток силы, способный разорвать в клочья человеческие тела.
Секьюрити обыскали меня на входе и пропустили. Ничего не нашли. Я всего лишь журналист, который берет интервью.
Охрана президента окружила аэропорт плотным кольцом, но я спокойно улыбалась солнцу – я была уверена, что мои братья ждут сигнала, лежа в густой траве: они пойдут в наступление, как только взорвется бомба.
Моим заданием было подкрасться как можно ближе к неприятелю.
В легком белом платье, к которому так шел изящный черный пиджак, я, казалось, только спрыгнула с подиума в Милане. Перед тем как щелкнуть замочком, я в последний раз втянула в себя теплый воздух и посмотрела на синие горы. Прощайте!
В фильтрационных лагерях пытали моих друзей. И за это следовало мстить: око за око, кровь за кровь; так заповедовал нам Моисей.
Так отомстили двенадцать чеченских героев зимой 1995‑го, бросившись под российские танки и взорвав их.
Так отомщу и я.
– Вы помните правила этикета? – спросил меня некто в сером плаще. – Пока вам не предложат сесть, стойте. Сейчас Он появится.
– Хорошо. Спасибо, – говорю я, чуть презирая себя.
Наш истинный язык иной – он хриплый, дикий, ищущий опоры в собственном эхе, как птичий зов в горах, а это чужие, мертвые слова.
Враги на нашей земле. Мы должны сражаться и умирать. Дудаев сказал: «Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства».
Мне нужно еще успеть крикнуть «Нет Бога, кроме Аллаха», но я не успела.
Грудь обожгла пуля. Теряя сознание, я активировала взрывчатку – вот и всё.
– Я стала шахидом!
– Всё ты врешь! – противный мальчишка по имени Ислам выполз из‑за мусорного ящика с игрушечным автоматом в руках. Он был главным в охране русского президента, и в игре его звали Вася.
– Я убил тебя раньше, заподозрив что‑то неладное. У меня старая школа КГБ. Ты не успела активировать детонатор!
– Но взрывчатка все равно взорвалась, и все вокруг погибли. Ты не можешь говорить – ты покойник!
– Сама такая! – ответила Катя, снайпер. Катя сидела на крыше сарая, обтянутого крупной сеткой: в старые времена, до войны, там хранили картошку и арбузы. На лицо девочке падало яркое солнце, и она щурилась, потому что больно было смотреть.
– Нет, Полина права. Мы победили… – со связанными руками, вертясь клубком от несправедливости, вопила Хава, моя подруга.
Я бросилась ее развязывать – хотя должна была быть на небесах и встречаться с ангелами.
– Не имеешь права! – истошно орал Ислам– Вася, стреляя по нам из автомата: – Бух‑бух‑бух!
А ичкериец Магомед выполз из травы и отвесил ему пинка.
Наверное, мы так бы и спорили до вечера, кто виноват, а кто прав, под июньским солнцем 1996 года, если бы не Анина мать – тетя Женя. Девятилетняя Аня играла, что она инопланетный корабль, наблюдающий за действиями «жалких людишек» с высоты небес. И не принимала ничьей стороны.
Тетя Женя выглянула с балкона и, увидев, что мы столпились у гаражей и спорим, кто «боевик», кто «русский солдат» и как стать шахидом, крикнула:
– Угощаю бутербродами с вареньем!
Мы, тут же позабыв про игру, побежали на второй этаж. Добрая тетя Женя нашла припасы в погребе. Открыла две литровые банки: с малиновым и абрикосовым вареньем! Можно было мазать варенье ложкой на только испеченный в духовке хлеб, сколько душа пожелает.
Мы не знали, что нас ждет впереди, и наивно верили, что война закончилась, стала просто глупой игрой, хотя на улицах нашего города были слышны выстрелы.
– Мне достался бутерброд со сгущенкой! Я выскребла немного с самого донышка, – похвасталась я Хаве, уплетающей абрикосовое варенье за обе щеки. – А вам сгущенка не досталась!
– Тебе повезло, потому что ты в раю, – съехидничал Ислам. – Ты ведь шахид!
Коробка из‑под «Монпансье»
– Смотри, что у меня есть! – сказала девочка Надя с большим розовым бантом на макушке.
Она открыла коробочку, где было написано «Монпансье», но вместо лакомства, к моему сожалению, коробочка из‑под леденцов была доверху наполнена украшениями: там были серьги, разные по форме – мелкие, как точка в конце строки, и удлиненные, как листья ивы.
Меня в отличие от других девочек никогда не волновали сережки, поэтому я спросила:
– А где конфеты?
– Слопала!
– Эх, – вырвался у меня непроизвольно грустный вздох, а потом я заметила, что в волосах Нади, по выражению моей мамы, «черт копеечку искал».
– У тебя бантик развязался. Хочешь завяжу?
– Отстань! – отмахнулась Надя, обиженно глядя на меня синевой глаз. А через секунду напомнила: – Смотри, сколько у меня сокровищ!
После этого девочка запустила руку в коробочку и показала целую горсть драгоценностей.
– У меня есть сережки с белыми камешками под цвет луны, есть с желтыми камнями, как глаза кошки, а есть с черными – словно угольки!
– Кто тебе их подарил? – спросила я, чтобы не обижать девочку.
Мы сидели под длинными ветвями золотисто‑зеленой ивы в школьном саду.
В дневнике с оценками был вписан 1995 год, и одну из моих школ уже разбомбили российские самолеты: остался только черный остов от четырехэтажного здания.
– Старший брат! – ответила Надя на мой вопрос и захлопала в ладоши. – Это настоящее золото! Он сам так сказал!
– А я не люблю серьги! – призналась я.
– Почему? – удивилась Надя.
Надя недавно пришла в первый класс. Я считала восьмилетнюю Надю совсем маленькой, ведь сама училась уже третий учебный год!
Пришлось объяснять:
– Мне прокалывали уши обычной иглой для шитья, было очень больно, шла кровь. Потом случилось воспаление, со временем раны заросли, а серьги я так и не надела.
– А‑а‑а‑а… – Надя задумалась. – Поэтому не любишь! А мне уши еще не прокалывали ни разу.
– Тогда зачем тебе серьги?! – удивилась я. – Как ты их наденешь?
– А я не надену! – сказала Надя. – Я их тайно взяла. То есть брат подарил бы их мне потом… но я взяла сейчас. Они золотые.
В это, конечно, трудно было поверить. Откуда в нашем городе, где нет нормальной еды, золотые серьги? Я подумала, что маленькая Надя выдумывает, дабы напустить на себя пущей важности. Что взять с первоклашки!
– Хочешь, тебе одни подарю? Вот эти, красивые! – Надя достала пару сережек, похожих на колокольчики. В них сверкали крошечные белые камушки.
– Нет, спасибо! – ответила я, увидев через ограду, что мама идет. Попрощалась с девочкой: – До завтра!
Пока мы шли домой, периодически прижимаясь к деревьям при внезапных автоматных перекличках, я думала над историей коробочки из‑под «Монпансье».
– Мама, а где в нашем городе можно найти золото? – спросила я задумчиво.
– Уж не двойку ли сегодня ты получила? – внимательно глядя на меня, ответила мама вопросом на вопрос. – А то, смотри, задушевными разговорами не отделаешься! Всыплю ремня как следует!
– У меня только пятерки! – испуганно возразила я. – И в мыслях не было…
– Смотри мне! – на всякий случай повторила мама, когда мы перебегали железную дорогу. – Слава богу, школу открыли в здании детского сада; хоть под бомбами, но должна учиться на отлично! Поняла?
Пришлось кивнуть.
Школу действительно открыли в детском саду. Это было забавно. Менее забавно было то, что дети после Первой чеченской войны стали ненавидеть всех с русскими именами, и почти ежедневно меня ждали драки и оскорбления, как и других детей, которые вдруг оказались в меньшинстве.
С Надей я общалась только неделю, а она уже сообщила, что их семья собирается уезжать из Чечни: дедушка, бабушка и братик собирали вещи. Было грустно.
На следующее утро, нарисовав в тетрадке кораблик, я отправилась в Надин класс. Но ее там не было. Поискав, я нашла ее у туалета.
– Я тут прячусь! – сказала Надя. – Чтобы не побили. Меня уже за косички дергали…
– Будем прятаться вместе! – сказала я. – А где твоя коробка с сережками?
Надя замялась.
– Это секрет!
– Но ведь вчера ты мне хотела одни подарить…
– Об этом нельзя никому говорить! Дедушка запретил!
Я расстроилась.
– Ладно, – сказала я. – Вот тебе кораблик!
Надя просияла.
Мы посидели в молчании, а потом я пошла ее провожать. В коридоре мы увидели задир из моего класса, один из которых показал мне кулак и осыпал проклятиями. Не зная, как реагировать на подобные выходки, я постаралась пройти мимо как можно быстрее, чтобы избежать драки. Удалось.
– Когда закончатся уроки, я расскажу тебе тайну! – неожиданно выпалила Надя, вбегая в двери кабинета. – Встретимся под ивой!
После занятий я справила нужду за кустами черной смородины – именно там по негласному утверждению был школьный туалет, который вместо уборщиц иногда омывали дожди. С приходом войны цивилизация начала покидать нас: ни воды, ни электричества, ни, разумеется, канализации не было. Затем я пошла на камни под иву, где принялась терпеливо ждать.
Вскоре появилась Надя.
– Мой старший брат очень храбрый! – сказала она. – Он сообщил, что рядом с мостом, который частично упал в реку, когда‑то был магазин. В этом магазине раньше было много‑много золота, бриллиантов и серебра! Часть унесли, а часть осталась в подвале. Потом прилетели бомбы, и всё рухнуло. Но брат нашел туннель. Одни люди полезли и пропали, умерли. А брат тоже полез в глубину. Там страшно лезть и тяжело. Дом ведь рухнул! Брат мог умереть, но рискнул. Он нашел большой чемоданчик! В нем были сережки! – девочка радостно рассмеялась и захлопала в ладоши.
– Он принес чемоданчик тебе?!
– Нет! Дедушке отдал! Дедушка головой покрутил, удивился! Чемодан тяжелый! Дедушка сказал, мы теперь уедем из Грозного, купим большой дом и машину! Пока ночью все спали, я отсыпала немножко сережек в свою коробочку. У меня там раньше леденцы были, но я их съела.
Пока переливалась речь, я со свойственной мне способностью проникать в чужие истории увидела гигантские бетонные плиты, рухнувшие подобно карточному домику. Внутри моего сознания отважный брат Нади в поисках сокровищ лез в холод и темень, рискуя задохнуться под завалами. Многие ищущие до него погибли… Вот он в подвале среди обгоревших стен находит странный чемодан, который не может открыть… Вдруг там бомба? Ему удается выползти на свет и передать чемодан дедушке! Они открывают его и видят – золото.
– Пойдем домой, пока стрельбы нет! – сказал тихий голос, отчего я очнулась и заметила, что Надя собирается.
Коробочку из‑под «Монпансье» девочка положила в розовый рюкзачок с полосатым тигром. Ее уже торопил пожилой господин с тросточкой в правой руке. В левой руке он держал сумку–авоську. Сквозь крупную сетку виднелись две булки хлеба и молоко в банке, закрытой пластмассовой крышкой. Было понятно, что Надин дедушка был на рынке.
– Попрощайся с подружкой! – сказал внучке дедушка. – Больше ты в школу не придешь. Мы уезжаем.
Надя подбежала и быстро меня обняла.
– Надо было раньше соглашаться, – прошептала она мне на ухо. – Я бы подарила тебе сережки, а теперь не могу, дед поругает, если увидит.
– Хорошей дороги! – ответила я, понимая, что узнала еще одну тайну нашего города, и помахала им на прощание рукой.
Добрый доктор
Марьям – ингушка. Она пережила ужас осетино‑ингушского конфликта, начавшийся 31 октября 1992 года. Те страшные дни мало кто вспоминает. Одни – потому что безумно больно. Другие – потому что безумно стыдно. Непонятно, почему тут употребляется слово «конфликт», – вполне уместным было бы другое слово. Нельзя забывать безумие. Иначе оно может повториться. И я записала ее свидетельство.
* * *
Осетия – моя родина. Я родилась и выросла в городе Владикавказе. Наш большой пятиэтажный дом расположился среди зеленых крон, по улице Шмулевича, в районе Военный городок. Отец был всё время на работе, а я, мама и младшие братья ждали его возвращения за домашними делами. Мне исполнилось двадцать пять в 1992 году. Закончив медицинский вуз, я работала стоматологом в частной клинике. Осетины, ингуши, русские на учебе или на работе не ссорились. Ничто не предвещало беды: с соседями мы были очень дружны и все праздники справляли вместе.
Зло случается неожиданно: начавшуюся стрельбу я приняла за далекий гром и закрыла окно, думая, что начинается гроза. Двух младших братьев, двадцатидвухлетнего Тимура, недавно вернувшегося из армии, и четырнадцатилетнего школьника Рашида, не было в тот день дома: они отправились в кино. А мы с мамой затеяли уборку.
Грохот вдали не прекращался, и, решив посмотреть, что же там происходит, мы с мамой поднялись на чердак родной пятиэтажки. Прогремел взрыв: кирпичи взлетели вверх с облаками белого дыма. Это взрывались дома.
Испуганные, мы спустились вниз по лестнице, во двор, и увидели, как со стороны Шалдона – района одноэтажных строений – идет парень. Это был русский паренек по имени Андрей. После инсульта он ходил с большим трудом. Но проявил настоящий героизм, стараясь как можно быстрее двигаться в нашу сторону.
Издали крикнул:
– Бегите! Всех ингушей убивают! Бегите!
Мы удивленно посмотрели на него, не в силах поверить его словам. Оказалось, только что взорванные дома ингушей были отмечены для уничтожения белым крестом. Кресты ставили мелом вооруженные люди.
Мы с мамой забежали обратно в подъезд. Я беспокоилась: где же мои братья?
Как люди, не знавшие войны, мы совершенно не понимали, что происходит. Мы привыкли жить в мире, и осознание того, что нас придут убивать из‑за национальности, никак не укладывалось в голове. Казалось, что распри из‑за спорных осетинско‑ингушских земель отошли в прошлое…
Соседи вокруг волновались, пытались узнать какую‑то информацию: кто‑то сказал, что была провокация и ингуши тоже виноваты!
Мои младшие братья пришли к вечеру живыми, и мы с мамой стали надеяться, что всё образуется. Но посыпались стекла… Прямо по нашим окнам ударили автоматные очереди… Не сговариваясь, мы все бросились к входной двери.
В подъезде оказалась пожилая русская соседка Валентина.
– Прячьтесь! – крикнула она, открыв свою дверь.
Валентина жила как раз напротив нашей квартиры.
Мы опрометью влетели туда.
Что бы мы делали, если бы не эта женщина? Нас бы просто убили! Не прошло и пары минут, как осетины поднялись на нашу лестничную площадку. Сначала они обстреляли дверь, а потом выломали ее так, что вход в наше жилище стал похож на лаз в пещеру.
Из квартиры Валентины мы по очереди смотрели в дверной глазок: пришедшие вооруженные люди по виду были южными осетинами, и у них были какие‑то бумаги, видимо, с адресами. Как потом выяснилось, все ингуши, проживающие в Осетии, действительно были в списках на уничтожение.
Не обнаружив никого в квартире, одни из вооруженных людей начали мародерничать, выволакивая наши вещи и ругаясь, а другие застучали кулаками в дверь Валентины.
Соседка приоткрыла дверь, держа ее на замке‑цепочке, и спросила:
– Что вам нужно?
– Где твои соседи‑ингуши?! – требовательно закричали пришельцы.
– Кто‑кто? Мои соседи? – дрожа от страха, выпалила Валентина, но твердо ответила: – Не знаю!
Мы стояли прямо за ней, от вооруженных людей нас отделяла тонкая деревянная дверь.
– Ладно, тетка! Верим! – крикнули пришедшие, и мы поняли, что милосердие Всевышнего с нами.
…Я училась в музыкальной школе, поэтому дома было множество инструментов. Мы слышали, как рвали меха у аккордеона. Наш сосед, старик, по национальности – южный осетин, вдруг начал кричать:
– Что вы делаете? Какой позор! Мы, горцы, не должны себя так вести! Перестаньте убивать! Не воруйте вещи!
Его прогнали, но он долго еще причитал с улицы.
Стало понятно, что из зоны конфликта не вырваться, и наша семья решила разделиться. Я и мама остались в квартире русской соседки Валентины – она отдала нам ключи, а сама ушла к своей дочери. А мои младшие братья пошли в семью соседей‑осетин: те, на свой страх и риск, решили их спрятать по старой дружбе.
Тимур взял нож и пообещал не дать убить себя и Рашида.
Мама плакала.
Отец и старший брат были в другом городе. Телефонная связь в те годы была плохой, и они не знали, что с нами.
В школах, больницах какие‑то люди раздавали оружие: автоматы, пистолеты. Вооружали всех, кто поддерживал конфликт и принимал участие в преступлениях.
В квартирах ингушей били окна, выносили вещи, убивали хозяев. Это хаотичное безумие творилось у всех на глазах! Многие студенты были убиты на лекциях, работающие – на рабочих местах! Трупы убитых людей были со следами пыток: женщины и дети погибли мучительно – одним перед смертью перерезали горло, на телах других остались следы от сигарет…
Так прошла первая неделя.
Мы были в ужасе! Кто подстроил весь этот кошмар? Кто за этим стоит?
Мы не знали, что делать: выйти из Владикавказа оказалось невозможно. В этот момент приехал руководитель стоматологической клиники, где я работала, Борис Борисович К.
Осетин по национальности. Христианин.
Это был удивительный человек: всегда веселый, щедрый ко всем, готовый прийти на помощь. Офицер. Он воевал во Вторую мировую. Весь наш город знал его как талантливого доктора.
События на родине так поразили Бориса Борисовича, что он не смог не вмешаться: он поехал в наш район, надеясь, что мы еще живы и он сможет помочь.
Он отыскал меня и маму в квартире Валентины, сказал:
– Вас в любой момент могут убить. В городе полно вооруженных людей, я неделю не мог пробраться к вам. Собирайтесь, спрячу вас в своем доме и никому не отдам.
Первыми мы отправили с ним наших мальчишек: боялись за их жизни.
Вторым рейсом он забрал меня и маму. В его доме нас приняли как самых родных и близких.
– Если сюда ворвутся и захотят вас убить, то прежде они должны будут убить меня! – сказал человек из осетинского рода.
Борис Борисович жил в элитном районе Владикавказа, среди политиков и культурных деятелей. На всякий случай наша семья не говорила на ингушском языке: и у стен есть уши.
Нам выделили большую комнату, обеспечили всем необходимым: едой, постельными принадлежностями, медикаментами. Родственникам Борис Борисович объявил, что все они страдают от страшного гриппа, и старался гостей не принимать, дабы никто не узнал о нашем местонахождении.
В это время мой отец рассматривал горы истерзанных трупов, привезенных из Осетии, искал нас. Платил взятки военным, чтобы его беспрепятственно пропустили в зону конфликта, расспрашивал соседей по дому. Услышав «их увезли», начал раздавать поминания, предполагая, что в живых нас уже нет. Через какое‑то время мне удалось позвонить к нему на работу в Кабардино‑Балкарию и сообщить, что мы живы.
…Из окон дома Бориса Борисовича был виден железнодорожный вокзал. Бесчисленные эшелоны военной техники приходили ежедневно: танки, БТРы, машины с оружием.
– Готовится грандиозная кавказская война, – как‑то сказал наш спаситель. – Осетия, Ингушетия – это начало. Они пойдут на Чечню!
Он как в воду глядел.
Пытавшихся спастись бегством ингушей ждала жуткая участь: ехавших на автобусах в село Эльхотово на мосту высаживали вооруженные люди, надевали на них покрышки от машин и заживо поджигали. Люди катались, кричали и горели…
Те, кто спасались из Осетии через горы, проходя над пропастью, зачастую срывались вниз с узкой тропы. Многие были с детьми, и порой матери приходилось принимать решение: кого из детей спасти – старшего или младшего? Одного прижимала к себе, другой летел в пропасть, не в силах удержаться за ее руку…
Борис Борисович сетовал:
– Если бы я знал, что такое будет!.. Я бы предупредил всех, кого смог!
Ему всё время было плохо с сердцем. Старик рыдал.
Потом, когда мы смогли встретиться со своими родными и оплакали друзей и знакомых, лишенные дома и имущества, попытались начать жизнь заново – я думала, что больше не улыбнусь никогда. Не смогу.
Мой брат, которому было четырнадцать, несколько месяцев не говорил.
Отец пережил инфаркт.
Я, ингушка, знаю, что есть достойные и хорошие осетины. Мы можем жить в мире. И людей, и землю создал Аллах. Как можно сказать «ненавижу» из‑за цвета кожи, одежды или веры? Ударить? Убить?
Всю нашу семью спас замечательный человек, осетин по национальности, доктор Борис Борисович К. Не так давно я узнала, что он умер. Всю свою жизнь перед ликом Всевышнего он творил добро.
Благородный поступок (чеченский вариант)
Все соседи в нашем дворе жили дружно.
За годы советской власти пару раз были волнения на национальной почве, но в основном, по сравнению с явившимся кошмаром девяностых, это была тихая и безоблачная жизнь, полная уважения к соседям.
Чеченцев в столице Чечено‑Ингушетии было мало.
Вернувшись из депортации, жили они в селах, занимались животноводством, строительством и прославились среди русских своей вежливостью и щедростью: в праздники готовили различные вкусные блюда, накрывали столы и угощали соседей.
В нашем доме из сорока восьми квартир было всего десять, принадлежавших чеченцам, остальными соседями были цыгане, аварцы, украинцы, болгары, евреи, русские, татары…
Первые бомбы первой войны попали в русских стариков в центре Грозного.
И что бы ни твердили журналисты, нам, подлинным очевидцам, ясно, что более всего пострадали немощные и брошенные люди, не имеющие, в отличие от других жителей Кавказа, родовых кланов.
Первая война сблизила людей: русские мирные жители спасали и прятали у себя чеченцев, делились последней едой. Так же поступали и живущие в городе чеченцы.
Однако потом начали спускаться с гор, где всегда преобладал только родной язык, потомки дерзких абреков: их опасались сами вайнахи. Они начали создавать банды, истребляя последнее русскоязычное население.
Были случаи, когда чеченцы бежали от них в Дагестан прятаться, так как за помощь русским соседям и за их спасение свои же обещали им смерть.
А еще в нашем дворе был случай, когда, наоборот, городские, всю жизнь дружившие с соседями, стали помогать банде убийц и слились с ней в единое целое. Это была большая чеченская семья, братья которой прославились грабежом и разбоем: мать нередко выкупала их из милиции.
В доме рядом, на втором этаже, проживала русская семья. Люди эти еще до войны очень пострадали: в семье погиб внук, совсем маленький мальчик.
Осталась женщина шестидесяти лет по имени Аксинья, ее сын Игорь двадцати пяти лет и его сестра Ангелина, молоденькая девушка.
Когда убийства семей в квартирах стали частью быта, соседи, перед тем как открыть дверь, спрашивали:
– Кто там? Свой или чужой?
И вот, посреди летнего солнечного дня, в дверь на втором этаже постучали.
На заданный вопрос ответил сосед:
– Это я. Виса.
Соседа Вису русская семья знала всю жизнь, они дружили с его матерью, поэтому без боязни повернули ключ в замке. В этот миг в их квартиру ворвались пятеро вооруженных мужчин, а сосед Виса благополучно ушел к себе, в свою квартиру, которая находилась за стенкой.
Многолетнее соседство не помешало ему предать. Для людей, жаждущих наживы, чужая жизнь – пшик, мелочь, о которой можно не думать в перерыве между между чаем и вечерними новостями.
Вооруженные бандиты наставили на хозяев квартиры автоматы и сказали:
– Мы вас зарежем, и крови будет много. Но можем проявить благородство – если вы сами отдадите нам золото и деньги.
– Зачем нам утруждать себя поисками? Отдайте всё сами, и тогда мы вас пристрелим! – благородно пообещал другой.
Аксинья закричала от ужаса, видя, что пришедшие настроены решительно: они загородили входную дверь так, что выбежать из квартиры не представлялось возможным.
Тогда пожилая женщина кинулась к распахнутому в летний день балкону и спрыгнула на асфальт. Когда она упала, то закричала от боли, сломав ногу.
Сидевшие на скамейках около дома многочисленные соседи бросились к ней на помощь. Среди них была чеченка по имени Тамара. Именно она помогла доставить пострадавшую в больницу.
Ситуация в квартире была безрадостная. Девушка заметалась, заплакала, чем вызвала веселье гостей и фразу: «Может быть, тебя как раз мы убьем не сразу…»
А Игорь проявил невиданное хладнокровье.
Он встал, загораживая сестру, и сказал:
– Я знаю, что чеченцы – люди чести. Если я отдам вам из тайника золото и деньги, вы не станете издеваться над моими родными, а расстреляете их, как обещали?
«Гости» ответили:
– Мы клянемся именем Аллаха! Ты хорошо знаешь наши обычаи и можешь нам верить!
– Мы поступим, как пообещали!
– Я вам верю. – Игорь отодвинул диван. – Подождите, сейчас я достану наши сбережения…
Пришедшие благородно уступили ему место – в ожидании наживы.
Игорь зарылся в ящике, под старенькой софой, и вдруг выпрямился, сжимая в руке боевую гранату, с которой уже была снята чека.
«Гости» ахнули и попятились.
Игорь быстренько взял «старшего» бандита под руку и сказал:
– А теперь все вместе выходим из квартиры!
В те времена купить оружие в городе можно было без особых проблем, и некоторые русские жители также приобретали его для собственной безопасности.
Мужчины вышли.
Граната была сжата в руке. Если Игорь ее отпустит, все погибнут!
Во дворе из нескольких четырехэтажных домов было многолюдно. Дети играли в догонялки и прятки. Оценив обстановку, Игорь сказал:
– Ну‑ка садимся в вашу машину!
Все сели, кроме младшего чеченца, лет семнадцати, которого старшие братья отогнали с криками: «Оставайся дома! Иди к маме!»
Чеченцы стали возить Игоря вокруг пустыря, чтобы тот разжал руку и гранату выбросил…
Но тут случилось следующее: Игорь рад был бы ее выбросить – но руку парализовало. Он перестал чувствовать пальцы и разжать их никак не мог.
Машина ездила вокруг пустыря более двух часов.
Пришедшие убивать русскую семью стали рассказывать анекдоты и смешные истории, чтобы Игорь пришел в себя и расслабился. Похохотав и навеселившись, он вдруг почувствовал, что его рука «ожила». Тогда он смог замахнуться и бросил гранату в сторону большой мусорной кучи, где она и бабахнула! Только прошлогодняя картошка и грязные тряпки взмыли вверх.
Чеченцы были в восторге от его поступка.
– Ты нам брат! – кричали они. – Ты не испугался! Ты совсем не похож на русского! Ты мог взорвать нас, но не сделал этого! Ты совершил благородный поступок!
И, поклявшись в вечной дружбе, они повезли его обратно домой.
Пообещали, что если «другие бандиты» из «другого района» придут их убивать, они теперь всегда заступятся.
И, пожав Игорю руку, пошли в свой подъезд в доме напротив.
Игорь выяснил – маму увезли в больницу.
После всех этих событий русская семья навсегда покинула Грозный.
Один день на войне
Мы встретили ее у колодца. Старая седая чеченка сидела на земле, держась за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. Платок из козьей шерсти сполз на спину, обнажив другой, более тонкий, который прикрывал волосы женщины. Коричневая кожаная куртка местами порвалась и запачкалась копотью. Неудивительно: мы все готовили на дровах под обстрелом. На ногах женщины были калоши и теплые носки. А под курткой я разглядела длинный красный халат.
…Мы пришли к колодцу, выждав момент, когда русские и чеченцы временно прекратили воевать и наступило короткое затишье. Даже самолеты, нагруженные бомбами, улетели в другой район, и к нам пришло волшебство тишины.
– Ой, ой! – твердила седая чеченка. – Аллах, Аллах!
– Вы ранены? – спросила моя мама.
Поняв, что произошло нечто ужасное, я стала шептать молитву, а мама бросила ведро на длинной веревке в пожарный колодец. Но вместе с коротким «всхлипом» послышался удар о бетон. Воды почти не было.
Мы сунулись в колодец. Лестница была сломана, поэтому никто так и не достал дохлую кошку. Она упала в колодец и лежала там уже очень давно.
Мама вытянула грязной мутной воды чуть меньше трети ведра.
А женщина рядом с нами все раскачивалась, не переставая призывать Аллаха.
На моих часах был февраль 2000 года. Черный снег лежал на серых руинах, бывших некогда нашими домами. Кажется, копоть проникала в летящие с неба снежинки, и они достигали земли, тотчас же сливаясь с ней.
Набрав горсть этого снега, мама подошла к сидящей на камнях женщине и приложила к ее рукам.
– Не бойся! – сказала мама, продолжая обтирать старуху снегом. – Все хорошо! Мы отведем тебя домой.
Когда серый комочек коснулся лба женщины, она вздрогнула, посмотрела на меня и заплакала. Вдали послышались залпы «Града», словно кто‑то накачивал примус. Нужно было уходить.
– Нет! Нет! – твердила женщина, мотая головой.
Земля под ногами дрогнула и качнулась от близкого разрыва.
– Уходим! – крикнула я, потащив маму за рукав пальто.
– Без нее не пойду! – огрызнулась в ответ мама, отмахнувшись от меня.
Ловко подхватив старуху, она заставила ее встать. И сказала:
– Бежим!
Взяв ведро, где на самом донце плескалась мутная вода, я бросилась прочь с пригорка и каким‑то чудом, под свист и грохот начавшегося обстрела, сумела добежать живой до подъезда.
Шесть ступеней, и вот она, спасительная коридорная ниша.
Мама и старуха забежали за мной. Старуху мы посадили на матрас, который служил нам постелью. Он лежал в коридоре на досках.
– Где живут ваши родные? – спрашивали мы незнакомку.
– В Микрорайоне! – ответила женщина, приходя в себя. – Я не ранена, не беспокойтесь. Меня Хадижей зовут.
Запах гари и едкого дыма наполнил дом: где‑то на верхних этажах полыхал пожар. Разумеется, никто его не тушил. Часть квартир давно рухнула вниз, и в перекрытиях образовались провалы, из которых торчали диваны, кресла или останки шкафов, «вцепившиеся» в уцелевшие части стен…
– Поставим чай, – предложила мама.
– Мне бы воды, – сказала старуха, покосившись на принесенное мной ведро.
– У меня есть! – сообщила я. – Возьмите!
Снег, набранный ранним утром, растаял в кастрюльке, и получилась чашка воды, слегка горьковатой на вкус.
– Спасибо! – поблагодарила наша гостья, выпив пару глотков.
– Вы попробуйте поспать, – посоветовала мама. – А там видно будет…
Свернувшись калачиком, женщина закрыла глаза. Края досок, на которых лежал матрас, уходили в пролом бетонного пола, поэтому было похоже, что человек дремлет на дрейфующей льдине. Мы накрыли ее отсыревшим от холода одеялом.
– Тихо сиди! Дай несчастной поспать! – строго сказала мне мама.
Я кивнула и, поймав луч холодного света, сочившегося из пробоины в борту нашего корабля, открыла книгу, взятую в домашней библиотеке. Наша библиотека была собрана несколькими поколениями моих родственников и хранила в себе около десяти тысяч томов. Рядом с моим местом в коридоре всегда лежала стопка книг – это было последнее, что я хотела бы видеть перед смертью.
На этот раз мне попался рассказ Жана Гривы «Ноктюрн» о гражданской войне в Испании. Каждая его строка была короткой тропой, уводившей мою душу из одного ада в другой, где тоже страдали и любили, пытали и спасали, смеялись и плакали. Там тоже не было убежища, но был яркий свет сострадания, и, окунаясь в него, я забывала, что война бушует сейчас под моими окнами.
Город неспешно падал на дно ночи, и буквы на странице втиснулись в ее мрак и исчезли. Я отложила книгу. И услышала тишину. Второй раз за день!
Мама и Хадижа тихо перешептывались, словно боясь спугнуть это чудо.
– Приготовь чай! – сказала мне мама.
Выйдя из подъезда, я взяла пару досок, разрубила их топором и принялась разжигать огонь. Из кирпичей у нашей двери в подъезде была сложена маленькая печка. Флажки огня лихо заплясали, когда я сбрызнула сырые дрова керосином.
Вода, которую я процедила через марлю, начала нагреваться в кастрюльке. Бросив туда щепотку чайной заварки, я смотрела, как вода окрашивается в золотисто‑коричневый цвет.
Внезапно воздух вздрогнул и завибрировал, и мы сразу узнали этот сигнал. Метнувшись в коридор, я обняла маму и старую Хадижу. Мы прижались к полу, но взрыв был такой силы, что волна воздуха подбросила нас, а затем ударила о матрас. Это была мина, которую мы окрестили «бабочкой». На подлете она издавала звучание, подобное шелесту тысячи крыльев.
Только минут через десять мне удалось встать на четвереньки и выползти из подъезда за кастрюлькой чая. Огонь уже потух.
– Чай! – радовались мы, разливая его в пиалы.
– Согреюсь, а затем уйду, – сказала Хадижа.
– Куда вы на ночь глядя? – удивилась мама. – Оставайтесь!
– У меня сестра рядом живет. Внуки! Искать будут.
– А что с вами утром случилось? – спросила я.
– Замолчи, бесстыжая! – махнула рукой мама.
Хадижа посмотрела на маму, а потом сказала:
– Страшно жить. Почему нас сразу не убьют? То, как мы живем, – жизнью назвать нельзя!
– Расстреливают по нескольку раз в день и нас, и наши жилища, – поддержала мама.
– Я хлеб пекла, – рассказала Хадижа. – И приносила ребятам, которые жили через улицу. Они воевали с русскими. Потом, когда обстрелы усилились, уже не могла прийти. Думала в село уехать, да дорога была закрыта. А ребята стали сами печь хлеб и мне сказали больше не рисковать, в подвале сидеть у сестры. Моей сестре тоже за семьдесят. Дочь погибла. Четыре внука с ней. Старшему – десять лет!
– Никто не ранен? – спросила я, зажмурившись от боли. Осколки ракеты, уже несколько месяцев живущие в ногах, дали о себе знать.
– Нет, слава Аллаху, – сказала Хадижа. И продолжила: – Мука закончилась. Там, в отряде боевиков, семь человек. Двое старших, уже за пятьдесят, четверо молодых, а один – мой двоюродный племянник, ему только семнадцать исполнилось. Тоже пошел! Говорила, дома сиди, но он побежал родину защищать! Так вот, мука у них закончилась, а идти в дом напротив надо за мешком. Стреляли страшно. Дом трясся весь! Старшие сказали младшему: «Принеси мешок!» Он направился к дверям. А с ним еще один паренек пошел. И он возьми да скажи: «Сами не идете, потому что боитесь!» Пошутил так. Некрасиво.
Старший чеченец вскипел, приказал:
– Сидите тут! Я сам сейчас принесу!
Но другие возразили, мол, никто не боится. Любой пойдет. Спор начался. Поругались даже. В конце концов решили вместе идти.
Я говорю им: «Не оставляйте меня одну. Не идите!», а они: «Через две минуты вернемся!» Вышли. Зашли в дом напротив, а я у окна стояла. И такой взрыв! Бомба попала! Когда очнулась – лежу на полу вся в опилках. Как только смогла встать, сразу бросилась туда. А там… Никого в живых. Все погибли. Все семь человек. Понимаете?
Старуха рыдала.
«Так не бывает, чтобы все сразу погибли», – вспомнила я слова русского старика. Мы вместе с ним пережидали обстрел зимой 1995‑го. Но, оказывается, бывает. Война на то и война, чтобы опровергать все прописные истины, скалясь из своего черного капюшона.
В нашу дверь постучали.
– Открыто! – крикнула мама.
– Бабушка Хадижа у вас? – спросил мальчик, а за ним показалась пожилая женщина в большом платке. – Мы у всех спрашиваем, сказали, что на первый этаж зашла.
– У нас! Заходите! – обрадовалась мама.
Хадижа, увидев родных, перестала плакать. Засобиралась.
– Завтра попробуем через Старую Сунжу в село попасть, брат приехал! – сообщила Хадиже сестра.
Они ушли.
За окнами продолжалась канонада.
Маленький Ангел
Станислав живет за железной дорогой в районе остановки «Березка». Он поселился в квартиру погибшего брата. Дом родителей найти не смог. Нашел только глубокую яму от полуторатонной бомбы и фрагмент забора, заброшенный взрывом на высокое дерево.
Вместо уличной стены в его новой квартире стоят друг на друге пластмассовые ящики, крепко связанные между собой алюминиевой проволокой. Ящики мужчина принес с рынка. Сверху на диковинную конструкцию наброшены ветхие одеяла, собранные по всей округе. Станислав говорит, это здорово помогает в ненастную погоду: дождь почти не попадает внутрь жилища.
На днях он рассказал историю своих нынешних соседей.
* * *
Давным‑давно стоят здесь пятиэтажки. Их строили полукругом.
Теперь с внешней стороны они сильно разбиты, но с внутренней – во дворе – живут люди. В нашем подъезде трое: бабушка Вера с внучкой Любушкой да я. И всё, больше никого нет. Зато в других домах много жильцов: в одном подъезде четыре‑пять семей! Есть дети.
Моя соседка Любаша – светленькая. У нее серые глаза. Косичек девочка не носит. Волосы вольно летят во все стороны и волной бьют по худым плечам. Наверное, как все дети, она любит мороженое и танцевать. Но кто оценит все эти движения рук, блеск глаз? Неожиданные повороты? Разве что мутное, разбитое зеркало?
Девочка часто простужается и болеет. Бабушка Вера лекарства отрицает, готовит отвары из трав. «Пенсию задерживают, а кушать – хоть так, хоть этак – надо», – повторяет моя старшая соседка. Сегодня она посадила под своим окном лук и сообщила, что на грядке есть и моя доля. Всегда эта женщина находит себе дело! Странная! Ежедневно убирает двор.
Мне тридцать три года. Я холостяк и безработный. Малыши нашего двора рассматривают меня молча. Только Любаша одолевает вопросами:
– Почему куришь? Там – яд! А где твои дети?
Бабушка шлепает ее и гонит.
Девочка ответов моих не ждет. Ее звонкое «Привет!» повторяется по двадцать раз за день. Ох! Надоела же она мне!
Только вот уже дня три не видно маленькой болтушки во дворе.
Здороваюсь с бабой Верой:
– А где внучка?
– Температурит, – вздыхает бабушка.
Вытаскиваю из кармана свой ужин – банку сгущенки. Соседка Вера кивает, благодарит. Скрывается в своей комнате.
Проходит одна неделя, другая… А на дворе пусто. Любы не видно.
Напрашиваюсь к соседям в гости.
– Заходи, – соглашается старушка.
Удивленно смотрю на узкую больничную кушетку. На ней полупрозрачная маленькая фигурка, словно укутанная невидимой ватой.
В руках у девочки фотографии.
– Это мама, это папа, это Сашка, мой старший брат, – Любаша внимательно смотрит на меня и молчит… Ждет, что отвечу.
– Не волнуйся! Они скоро приедут из беженцев! – говорю я ей, просто чтобы что‑нибудь сказать.
– Нет, – качает головой Люба, – они в доме были. А самолет – у‑у‑у! Мы с бабушкой успели в подвал. Мама, папа и брат задержались, брали в подвал одеяла, еду…
Смутная догадка давит мне на плечи. Бабушка Вера не плачет, просто говорит:
– Напрямую попали. Я никого не нашла. Только лоскуты от платья невестки и пуговицы.
– Мне снился инопланетный корабль! – перебивает девочка. – Они все прилетели на землю. Огни! Свет красивый, он розовый и голубой!
Я киваю. Молча достаю последние сто рублей.
Вру, что заработал, путаюсь, говорю, что это задолженность по зарплате.
Через два дня Любаша умерла. Совсем незаметно, тихо, во сне.
Бабушку Веру увела к себе ее одинокая подруга.
В своем подъезде я остался один.
Орел
На Северном Кавказе в одном из чеченских сел жил искусный мастер по дереву.
Настолько чудесные вещи он создавал, что люди охали и ахали и понять не могли, как такое возможно! Бывало, притащит откуда‑нибудь обыкновенный пень и занесет к себе во двор в мастерскую. Потом смотрят люди, а это уже и не пень вовсе, а прекрасный орел с распростертыми крыльями, который хватает добычу, словно живой.
Несколько часов работы – и рождался шедевр!
Столы и стулья мастер делал не менее великолепные. По мнению тех, кто видел работу мастера, все изделия можно было выставлять в музее!
Иногда богатые люди покупали что‑то в свои дома: вырученных денег хватало мастеру на жизнь.
Но за большими деньгами или славой он не гнался. Обучал желающих своему ремеслу – искусной резьбе по дереву. От учеников отбоя не было!
Слава об этом человеке росла день ото дня, но пришла война.
Война заставила людей выживать: искать хлеб и воду, укрываться от обстрелов и бомб, хоронить родных.
Мастер любил родину и не любил захватчиков, пришедших с войной.
Однако, что бы ни случалось, он продолжал работу: кропотливо и мирно вырезал что‑то в своей мастерской.
Однажды в 2000‑х годах приехали в чеченское село на БТРах российские военные.
Кто‑то из соседей, желая прислужить новой власти, указал на дом мастера и шепнул о том, что мастер патриот, мусульманин, а значит, «боевик».
Военные, разогнавшись на своем БТРе, снесли его забор и въехали на территорию домашней мастерской. Каково же было их удивление, когда они увидели мастера на своем рабочем месте: он, как обычно, трудился!
Командир российских военных, увидев вокруг мастера орлов, настолько похожих на живые оригиналы, сразу понял – перед ним явный талант.
– Ты ли это делаешь? – спросил командир, тараща глаза.
– Я! – сказал мастер.
– Нам сказали, что ты боевик.
– Завидуют. – «Хотят, чтобы убили меня», – понял мастер. – А я у себя дома живу, ни от кого не прячусь.
– Ясно, – отвечает российский командир. – Орлы красивые у тебя. Продай мне одного!
– Нет! Не продаю! – ответил мастер.
– Почему?! – опешил русский командир. – И мне не продашь?!
– Тебе подарю. Но с одним условием!
– С каким еще условием? – на удивление своих подчиненных, втянулся русский военный в беседу, залюбовавшись орлами.
– Это простое условие: вы ведь приехали, чтобы убить меня? Ведь так? Теперь вы посадите меня на БТР и повезите по всему селу. Я буду сидеть и кричать «Аллаху акбар!» После этого любого орла возьмешь в подарок!
– Хорошо! – засмеялся командир.
Посадили солдаты мастера на БТР, он на голову повязал зеленую ленту, едет и кричит: «Аллаху акбар!», «Аллаху акбар!», «Аллаху акбар!»
Соседи, которые указали, что он «боевик», убежали и спрятались. Другие жители не могли понять, что же это происходит среди белого дня?
Три раза проехал по селу мастер на российском БТРе, потом солдаты высадили его у дома.
Извинился русский командир за то, что забор ему снес, взял орла и уехал с компанией.
А мастер и поныне живет.
Дальше работает.
Дедушка Идрис
Я помню его, худощавого, скромного старика‑ингуша, сидящего в обувной будке ярко– синего цвета. Ее было видно издалека – маленький живой маяк среди мертвой зыби неуклюжих, больших домов.
Мы с матерью часто приносили ему чинить свои поношенные ботинки и туфли.
– Извините, – обычно говорила с поклоном мать. – Не почините ли в долг, до зарплаты? Они совсем прохудились…
– Починю, – кивал с улыбкой дедушка Идрис. – Не переживайте, Лена. И с деньгами не торопитесь. Всю жизнь я сапожником проработал и понял: это Аллах великое счастье мне дал. Кропотливо и тихо, но все же помогать людям…
– Вы нас очень выручите, – мать доставала из пакета ботинки, взглянув на которые, каждый бы понял: когда‑то они просили каши, потом ее переели, и их стошнило…
– Ой‑ой‑ой, – качал головой седой Идрис, но, поймав печальный взгляд матери, кивал: – Подошву новую пришью. Починю.
Я крутилась неподалеку, зная наперед, что без конфеты от него ни один ребенок не уходит.
В темно‑перестроечные времена получить ириску, а может быть, даже карамельку от кого‑то из взрослых было для меня делом чести.
Нашарив в кармане сарафанчика белый мелок, обменянный мной у другого ребенка на кусок батона, я принялась рисовать на асфальте картинки, внимательно посматривая на старика.
Так сначала появилось солнце с кривыми лучами и кот, задумчиво смотрящий на мышь в короне. Мышь получилась большая, намного больше солнца, и чтобы дорисовать ее, пришлось зайти за угол синей будки…
Для своих шести лет я рисовала неплохо и очень гордилась тем, что под моим мелком на асфальте возникали целые сказки‑картинки.
Но места для продолжения трудов не было – другой, не менее гениальный художник уже изрисовал асфальт позади будки сапожника, да и всю ее саму…
– Полина! Полина, ты где? – услышала я голоса взрослых.
– Тут я! – крикнула в ответ.
Появились уставшая мама с пустым пакетом и дедушка Идрис. Он прихрамывал, опираясь на тросточку, и шел с большим трудом.
«С немцами храбро воевал. Герой…» – вспомнила я фразу кого‑то из соседей.
– Чего ж ты убегаешь? – спросил он.
– Вот… – я показала на чужие рисунки. – Смотрите!
– Вижу, – дедушка Идрис нахмурился. – Опять скверные мальчишки нарисовали войну.
Я всмотрелась в чужое творчество.
На синей будке был нарисован белым мелом горящий дом. Из него вырывалось белое пламя. Какие‑то маленькие фигурки стреляли друг в друга, и от их оружия шли длинные пунктиры, попадающие другим фигуркам в голову и сердце.
А прямо под ногами на асфальте расположился большой пистолет, совсем как у меня – водяной, из которого мы с друзьями стреляли в жаркое лето по прохожим…
Только этот был настоящим! С таким можно играть в «войнушку»!
– Придется опять смывать и чистить… – Идрис явно расстроился.
– Вам помочь? – спросила мама. – Я могу отмыть.
– Нет. Спасибо, Лена, я сам. Это мальчишки местные хулиганят. Плохие рисунки, очень плохие.
– Почему плохие? – удивилась я. – Нарисовано здорово, мне бы так уметь…
– Нельзя, – он наклонился ко мне. – Запомни, нельзя ни в коем случае рисовать войну. На войне убивают людей: малышей, женщин и стариков. Когда дети начинают рисовать войну или играют в нее – это самое страшное. Тогда война непременно случится!
– Значит, нельзя? – шепотом переспросила я.
– Да. Так гласит древняя легенда! Обещаешь, что не будешь?
– Обещаю!
Дедушка Идрис засмеялся и, погладив два торчащих на моей голове хвостика, вручил настоящую жвачку!
Это была неслыханная роскошь.
От счастья я даже забыла поблагодарить его. Запрыгала как заяц и пустилась в пляс вокруг синей будки, прижимая к груди свое сокровище в голубой бумажке с надписью «Love is…».
– Простите ее, – сказала мама, – она еще маленькая…
Прошло несколько лет. Война в нашем городе проросла в человеческую жизнь и стала неотделимой от внезапной и бессмысленной смерти.
Четырехэтажный дом по улице Заветы Ильича уже неоднократно горел, и мы хоронили жильцов. Моего родного дедушку разбомбили в больнице. Ему было 72 года. Участник Великой Отечественной. Он лежал на операции, с язвой желудка.
Мы не могли похоронить его неделю. Шли бои.
– Так трудно теперь положить в гроб… – плакала мама.
Слезы текли, но она их не вытирала.
До этого мы уже похоронили бабушку и прабабушку.
Но старичок Идрис, живший в соседнем подъезде, все так же шутил, несмотря на бомбежки, кормил детей и подростков сушками и обещал:
– Война обязательно закончится! Ведь хорошие люди не хотят воевать…
А в мальчика восьми лет, жившего на самом верхнем этаже, попали осколки. И мы все ходили посмотреть, как это – быть в осколках.
Руки и ноги его опухли и нагноились в местах, куда проникло железо.
Но он старался нам улыбаться и говорил:
– Я потерплю и не буду плакать!
Потом мы узнали, что его удалось вывезти в госпиталь и спасти.
Многих соседей хоронили в огороде. Я узнала, что лучше всего это делать в яме, где недавно разорвался снаряд. Земля – рыхлая и мягкая там, несмотря на зиму, и копать недолго… И не страшно.
А страшно только, пока люди не умрут. Когда они кричат, потому что им очень больно от ранений, которые взрослые называют несовместимыми с жизнью…
6 августа 1996 года в нашем районе с новой силой начались бои.
К тому времени я считала себя большой – 11 лет…
Спросила взрослых:
– Что там, на улице?
Баба Настасья, забежав к нам с мусорным ведром, сообщила:
– Русские войска уходят! Бросают Грозный и уходят! А боевики их подгоняют… Дали сорок восемь часов…
Судя по стрельбе, так оно и было.
Началась Летняя война.
Хотя ее нет в учебниках истории, но она унесла множество жителей из города Грозного во владения Смерти.
Только около нашего подъезда погибло более десяти человек от внезапно разорвавшегося снаряда.
Я как раз принесла с колодца воду, и за мной закрылась дверь. В этот миг и прогремел взрыв…
Молоденькую девушку ранило в живот, и она, побелев, упала на ступеньки.
Ее брату оторвало голову. По частям человеческих тел в подъезде можно было изучать анатомию.
Сосед Адам с оторванной ногой катался около нашей входной двери и кричал:
– Дайте мне умереть! Я не хочу быть калекой!
А моя мама накладывала ему жгут и приговаривала:
– Жить надо! У тебя трое детей маленьких и жена беременная. Придется жить! Потерпи…
Но, несмотря на все события, дедушку Идриса я не упускала из вида. Он, правда, совсем постарел и уже не обещал, что война скоро закончится. Иногда он сидел на скамеечке и глядел в небо на тяжело гудящие самолеты.
«Наверное, он хочет понять, – думала я, – почему светит солнце, бегают кошки друг за другом, а нас убивают, но Бог ничего не делает…»
– Заходи домой, Идрис! – кричала его старушка. – Вдруг сейчас начнется пальба… Тебя убьют! Убьют!!!
Но дедушка Идрис не обращал внимания и даже не пригибался, если начиналась перестрелка. Так и сидел под деревом, чуть раскачиваясь в такт изуродованным осколками веткам над ним.
Русских жителей после первой войны было мало: кого убили, кто‑то сам убежал в Россию скитаться и нищенствовать.
Но в нашей четырехэтажке по‑прежнему ютилось несколько семей.
Напротив квартиры Идриса жила тетя Валя с Аленкой.
Аленка была младше меня, и мы часто играли, а тетя Валя общалась с моей матерью.
Несчастья так и сыпались на эту семью. Сначала у Аленки сгорел отец. Он кинулся на пожар – тушить – и задохнулся в дыму. Потом, в зиму 95‑го, от голода и холода умерла ее бабушка Римма…
Соседи‑чеченцы засматривались на их хорошо обставленную трехкомнатную квартиру, но не трогали. Предлагали даже продать по дешевке, но тетя Валя не захотела:
– Здесь могилы родные. Куда я поеду?
В конце августа, когда залпы орудий уже стихали вдали и мы стали робко надеяться на некое подобие мира, случилось непредвиденное.
Люди с оружием в руках пришли убивать тетю Валю.
Это были чеченцы‑боевики. Четверо.
Как потом рассказывали соседи, в руках у них был приказ, подписанный Басаевым, с красивой печатью волка.
«…Признать Валентину врагом чеченского народа за предательство и помощь федеральным войскам…» – прочитала соседка Роза, вышедшая на шум ломаемой двери.
– Семья приговаривается к полному уничтожению! – объявил собравшимся соседям главный бандит. – А пострадавшему нашему брату Адаму переходит ее жилье и все вещи в качестве компенсации…
– Адаму? – спросил кто‑то. – Из соседнего подъезда?
– Да, он потерял ногу в фильтрационном лагере русских убийц! При жесточайших пытках! Его «сдала» Валентина. Он правду рассказал!
– Так его же у подъезда ранило, после того как он выпил водки и на гармошке играл… – удивилась Роза. – И не боевик он вовсе, а пьяница сраный… Лена с первого подъезда жгут ему наложила, иначе бы сдох как собака. Какой фильтрационный лагерь?!
– Молчать и не мешать исполнению! У нас жалоба есть и приказ!
Дверь стала поддаваться под ударами тяжелых ботинок, а соседи бросились врассыпную.
Тетя Валя с Аленкой метались по своей квартире, понимая, что жить им осталось считаные минуты.
И тут вышел дедушка Идрис.
Загородив собой дверь в квартиру Валентины, он спросил пришедших с автоматами:
– Как можно уничтожить семью, где только несчастная вдова и ребенок?
– Расстреляем! – кричали разгоряченные парни. – Всех русских долой из Чечни!
– Я мусульманин, как и вы, – спокойно продолжал старик. – Я прошу вас разобраться, а не творить бесчестье и зло!
Тетя Валя слышала каждое слово: воспользовавшись внезапной заварухой, они с Аленкой стали связывать простыни, чтобы слезть с балкона.
Бандиты стали бить старика прикладами. Он упал. Но из последних сил цеплялся за дверь и кричал:
– Что вы творите! Там женщина и ребенок!
Потом его отшвырнули ногой и, сбив замок, ворвались в квартиру.
Но Валентина с Аленкой уже успели сбежать и затеряться в темных переулках среди частных домов…
А старик Идрис умер на руках у своей старушки.
Тонкая серебристая нить
Смерть – мой союзник, мой партнер по игре в шахматы, мой надежный ненавистный друг и самый любимый враг. Когда смерть рядом, жизнь видна по‑другому: ясность и понимание становятся безграничными. Стоит ей отлучиться –, обманчивый иллюзорный мир вторгается в мои откровения, туманит сознание.
Мы познакомились с ней уже давно, в моих детских снах. Мы сражались, вели философские беседы, блуждая по мирам сновидений, пока однажды она не постучала в мою дверь наяву: началась Первая чеченская война.
Я смотрела на растерзанные трупы людей и животных на улицах своего города, и приходило четкое понимание: смерть идет чуть позади – за моим правым плечом. Она хотела забрать и меня, но что‑то все время мешало ей. Настойчиво, будто в этом был хоть какой‑то смысл, я писала дневник, в котором были уже тысячи страниц…
А она, наверное, ждала последней.
Она криво усмехается, когда кто‑то говорит, что ненавидит войну. Ведь она‑то знает: мир за всю историю человечества на нашей планете был только сто лет.
Смерть не любит слабых духом, жалеет немощных, испытывает сильных.
На войне происходит много странных и необъяснимых вещей, о которых слагают легенды.
Я научилась слышать, как летит пуля, рассчитывать по секундам, когда и где упадет снаряд, открывать рот, если глубинная бомба падает на соседскую пятиэтажку, чтобы не лопнули барабанные перепонки.
Мертвых жителей в городе куда больше, чем живых, если война настоящая. Поэтому грани миров между живыми и мертвыми быстро стираются, и приходит понимание, что нет никаких мифических «мы» и «они». Есть «они», которые только что были «мы». И есть «мы», которые в любую секунду могут стать «ими».
Бродящий по руинам сумасшедший философ, герой моего романа, сгоревшего в печке из нескольких битых кирпичей, что стояла рядом с нашим подъездом, как и положено герою, остался внутри войны. Затерялся в том времени и пространстве, откуда исчезла я – чумазая четырнадцатилетняя девчонка с осколками в ногах, одетая в тяжелые от постоянного холода и сырости вещи, сноровистый зверек, умеющий спать прямо на снегу и вынюхивать еду в развалинах.
На войне нет закрытых дверей: они выбиты взрывными волнами; нет преград ни в чужие дома, ни в другие измерения. И когда кто‑то из Верхнего мира с сумасшедшей последовательностью каждые несколько часов гасит свет в нашем, Нижнем, следует твердо помнить, что множество «шутников» в военной форме выходят на пустые улицы. Иногда они минируют помещения: вдруг кто‑то взорвется?
Поэтому, заходя в руины, бывшие некогда жилыми домами, в поисках консервов или подгнившей сырой муки, следует двигаться очень медленно, смотреть перед собой и под ноги. Если заметишь тонкую серебристую нить – не стоит ее задевать: это твой билет в один конец.
Таких нитей оказалось великое множество; они, словно паутина, окутали многие квартиры, и несколько раз мне удавалось перешагнуть через них: не подвел Союзник, идущий невидимо рядом. А мой Город стал серебристым коконом, раскачивающимся на невидимой черной нити, натянутой между Там и Здесь.
Серый большой дом из бетонных плит был еще недавно пятиэтажкой с четырьмя подъездами, внизу, на остановке «Нефтянка». Соседи, что занимались мародерством, рассказывали, какие славные там пылесосы, ковры и посуда, но тот, кто играет в шахматы со смертью, знает хрупкость этих «славных» прочных вещей, как и тех безумцев, кто прикасается к ним. Впрочем, вещи меня никогда не интересовали. Другое дело – еда.
В городе, который находится в блокаде, в кольце, нет ни хлеба, ни риса, ни воды. Мы пили растопленный снег и все время искали хотя бы немного муки для некоего подобия лепешки.
Серый дом показался мне подходящим местом для поиска. Его верхние этажи съехали вниз, подчиняясь закону гравитации, а нижние сохранили свои очертания, словно запомнили то, чем они были когда‑то.
В первом подъезде, куда я вошла, прихрамывая от боли в ногах, лежал труп мужчины в домашней одежде. Его убили выстрелом в голову. Его рот был приоткрыт, а глаза смотрели удивленно – будто он что‑то хотел сказать, но не успел. Чуть дальше лежала женщина, раскинув руки, и два ребенка лет пяти‑семи.
Странно, но пахло только гарью и металлом, словно убитые были андроиды. Еды на кухне не оказалось.
Пожелав мертвым утешения и радости – все же они покинули этот иллюзорный мир, где постоянно шла война, опередив меня, – я, прислушиваясь к грохочущей надо мной музыке, поспешила заскочить в другой подъезд, шатаясь от голода, так как не ела по меньшей мере четыре дня.
Там я натолкнулась на мертвую женщину с седыми волосами. И вдруг словно невидимая рука толкнула меня с такой силой, что я сразу рухнула в коридоре, не дойдя до зала. Лежа на сгоревшем, черном полу, я увидела стальную нить.
Нить была такой тонкой, серебристой, что ее нельзя было заметить, не пролейся на нее солнечный свет. Мысль, что в древних восточных трактатах из дедушкиной библиотеки я что‑то читала об этом, не покидала меня. «Это то, чем душа прикреплена к телу», – подумала я, увидев, что один конец нити привязан к боевой гранате.
Через несколько дней в районе серого дома, который я покинула, не найдя никакой еды, случилась суматоха: на БТРах подъехали военные и что‑то деловито втаскивали внутрь в ящиках.
Наша соседка тетя Аза, крутившаяся неподалеку, спросила:
– Что вы делаете?
– Будем взрывать! – последовал лаконичный ответ.
– Что взрывать?
– Дом! Пошли отсюда! Прочь!
Соседи поспешили ретироваться, дабы предупредить остальных, что скоро во все стороны полетят куски бетонных блоков.
Взрыв произошел ровно в 13:00 по местному времени, смешав камни и тела.
Мы не решились оставаться в своей квартире, медленно, как геологический пласт, сползающей в подвал, вышли на улицу и открыли рот. Не от удивления, конечно, – просто хотели сохранить барабанные перепонки.
Ведь от такого мощного взрыва могли рухнуть соседние здания. Они вздрогнули, но устояли.
Вниз упала только пара балконов.
Алхазур
В Чечне принято давать людям два имени – одно в паспорте, другое в жизни.