Неоконченное путешествие Достоевского
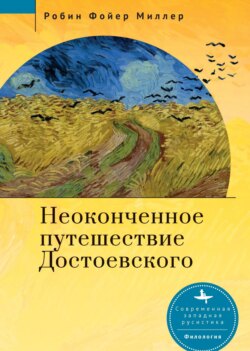
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Робин Фойер Миллер. Неоконченное путешествие Достоевского
К русскому изданию
Предисловие
Введение
Глава 1. Обращение, идеи и их воплощение, духовное преображение: Достоевский и народ
Что представляло собой религиозное обращение Достоевского? Когда оно случилось? Какую роль сыграли в нем крестьяне?
Обучение крестьянина и искусство ради искусства
Достоевский как будущий искусствовед
Расхождение между изображением крестьянина в публицистике и в художественных произведениях Достоевского
Глава 2. Вина, раскаяние и тяга к творчеству в «Записках из Мертвого дома»
Глава 3 «Преступление и наказание» в учебной аудитории: слон в саду
Существует ли опасность исчезновения чтения?
В поисках аналогии: роман как трагедия
Возможность передачи читательского озарения другому
Чтение и перечитывание романа
Влияние ненаписанного романа и отвергнутого повествования
Вглубь первой части романа
Мелочи и слепые пятна
Глава 4. Евангелие от Достоевского: парадокс, сюжет и притча
Где здесь Достоевский?
Глава 5. Трансформации, разоблачения и признания Руссо в «Бесах»
Глава 6. Осмысление границ жанра и расшифровка «Сна смешного человека»
Свифт, Руссо, По
Сон: гибрид утопии и дистопии
Сады и парадизы
Пробуждения
Глава 7. Появление и исчезновение тревоги в метафизическом романе: прочтение «Братьев Карамазовых» через оптику «Мельмота Скитальца»
Глава 8. Опасные «путешествия к обращению»: приключения во времени и пространстве
«Мужик Марей»
«Сон смешного человека»
Иван Карамазов
Алеша Карамазов
Заключительные фрагменты: несколько слов напоследок
Листья, дверь, камень
Интеллектуальная собственность и духовный плагиат
Хаос и согласованность
Источники
Библиография
Отрывок из книги
Слова, молчание и повествование – как машины, которые всегда находятся в движении, подпитывая нас и побуждая к действиям: добродетельным и преступным, добрым и злым, прекрасным и безобразным, возвышенным и нелепым. Никакой другой писатель (кроме, пожалуй, Шекспира) не стал таким неиссякаемым источником вдохновения для всего спектра человеческих действий, мыслей, эмоций и убеждений во всех их противоречивых проявлениях и сочетаниях. Путешествия Достоевского по этим территориям никогда не кончаются, всегда находятся в процессе, активны и рискованны – даже если те, кого он вдохновил, могут остановиться в своих поисках, найдя для себя ответы. Его читатели дали различные названия тому качеству завершенности, скрытому в неопределенности, которую передает его творчество и которая затем может служить для возникновения религиозных, философских или откровенно политизированных дискурсов, некоторые из которых, несомненно, удивили бы или даже ужаснули бы самого писателя.
Достоевский, однако, продолжает стоять особняком: его слова, молчание и повествование, будучи воплощенными в персонажах, выражают его собственный незавершенный путь. Возможно, мятежный философ Ивана Карамазова и завершил свой путь в квадриллионы километров в темноте, но писатель все еще продолжает путешествие.
.....
Идиосинкразические представления Достоевского об изобразительном искусстве, в том числе оценка «Сикстинской Мадонны», лежат в основе эстетической концепции таких его произведений, как «Идиот» (1868), «Подросток» (1875), «Сон смешного человека» (1877) и «Братья Карамазовы» (1880)[16].
Понимание взглядов Достоевского на живопись современных ему русских художников важно для более глубокого прочтения его художественных сочинений, однако его наблюдения не менее ценны тем, что проливают свет на восприятие им «крестьянского вопроса» и проблемы тенденциозности в искусстве в целом. Еще одна ранняя журнальная статья Достоевского, «Выставка в Академии художеств за 1860–1861 годы», – яркий тому пример. В ней он нападал на утилитарный характер академического обучения, которое, как ему казалось, слишком сосредоточено на анатомии, костюмах и теории [Jackson 1978: 217][17]. Подобно передвижникам, писатель критически относился к Академии, но пошел другим путем, нежели художники-реалисты, надеявшиеся воплотить в своих произведениях те идеи об отношении искусства к действительности, которые пропагандировали такие радикальные критики, как Н. Г. Чернышевский[18].
.....