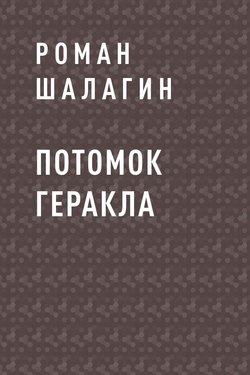Читать книгу Потомок Геракла - Роман Николаевич Шалагин - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление…мы знаем достаточно много о Филиппе и его жизнедеятельности, чтобы, не боясь ошибиться, назвать его Отцом Македонии. Отцом того государства, которое он создал, и отцом того народа, который осознал себя таковым в этом государстве.
А. А. Краевский
Часть первая. Пролог знаменательных свершений.
Все при дворе имеют гордость, и все – фигуры в игре. Во многих играх сразу – одни игры связаны с убийством, другие – со страстью, – но лишь одна игра имеет значение в конечном счете, а все другие – лишь часть ее.
Г. Г. Кей
Глава I. Тайные интриги у смертного одра.
I
В этот вечер в столице Македонского царства – Пелле1 и её окрестностях не слышно было привычных звуков, столь характерных для крупного античного города. Не доносился звон и лязг металла из кузниц, не слышны были крики строителей, что ещё накануне укрепляли внешние стены и ворота.
Прекратили всякую работу мастеровые люди, дети и подростки не играли на улицах, крестьяне заблаговременно заперли весь свой скот в хлевах и загонах, а царские пастухи увели свои табуны и стада подальше от городских окрестностей.
На центральных улицах, удаленных улочках и закоулках – ни души. Только городская стража, побрякивая оружием и защитными доспехами, совершала обход по установленному маршруту. Если вдруг чья-то собака принималась лаять или выть, её тут же заставлял молчать кто-то из хозяев или домочадцев самыми грубыми методами – при помощи камней или палки.
Солнце ещё не село, а на опустевших улицах, площадях, во дворах жилых строений, на крепостных стенах и сторожевых башнях, на всей территории ярко запылали сотни костров. Часть из них зажгла ночная стража и царские телохранители, охранявшие дворец и территории, прилегающие к нему.
Другие кострища – более мощные, жаркие и остроконечной формы разожгли жители Пеллы по распоряжению местных жрецов. Это были импровизированные огненные алтари под отрытым небом, предназначенные для жертвоприношения древним и крайне суровым македонским богам.
Со строго определенными временными интервалами жрецы, простолюдины, воины и представители знати совершали магические ритуалы и обряды. Каждый из них непременно завершался сожжением части туши заранее принесенного в жертву священного животного – овцы, барана, жеребёнка, молодого бычка или телёнка.
Уже третий день из-за отсутствия ветра над притихшей Пеллой висела пелена смога, состоящего из дыма, благовоний, пепла, копоти сожженных шкур и плоти жертвенных животных. Этот смог, окутавший столицу Македонии, ещё сильнее усиливал гнетущее впечатление скорого свершения чего-то недоброго, опасного, зловещего и даже сверхъестественного.
Однако ничего мифического или потустороннего в происходившем не было. Причиной происходящего стало резко ухудшившееся состояние здоровья престарелого македонского царя Аминты III. Этот авторитетный и вполне успешный монарх разменял восьмой десяток, что для эпохи Античности считалось едва ли не крайним пределом долгожительства.
Аминта уверено, твёрдо, расчётливо и дальновидно правил Македонией на протяжении последних двадцати трёх лет. Почти четверть века Македонское царство не знало больших потрясений и бед, неудачных войн и вражеских нашествий, эпидемий и неурожаев.
Пусть не преумножил Аминта наследные владения, полученные от отца, но и не растерял исконных македонских земель, на которые систематически покушались многочисленные воинственные соседи. Аминта не только защищал своё царство, но и сам организовывал набеги на своих географических соседей и недругов – временных или постоянных.
Македония с подачи надменных, непомерно самолюбивых и чрезмерно заносчивых греков считалась варварской державой. Но, несмотря на это обстоятельство, Македонское царство оставалось сильным и довольно стабильным государством Балканского полуострова.
И вот три дня назад здоровье Аминты, никогда прежде не хворавшего и не имевшего серьёзных ран, внезапно и очень сильно пошатнулось. Царь внезапно утратил ясность ума, перестал узнавать своих родных и близких друзей, язык монарха заплетался, точно у пьяного.
И походка, и движения, и мимика, и речь Аминты также походили на повадки сильно пьющего человека. А прошлой ночью македонский правитель окончательно впал в беспамятство, походившее на поверхностный и тяжёлый сон бредившего пациента.
Царский врачеватель Никомах – грек по происхождению прилагал все свои обширные знания и практические навыки, чтобы поставить царя на ноги или хотя бы замедлить быстро прогрессирующее течение коварной болезни. Свои обряды, направленные на скорейшее исцеление Аминты, совершали местные жрецы.
Ни официальная медицина, ни культовые и магические манипуляции, ни языческие мессы – ничто уже не могло отсрочить неизбежный уход из жизни монарха. Когда тело Аминты разбил полный паралич, ближнему царскому окружению и семье стало очевидно, что в самом скором времени на троне македонском воссядет новый правитель.
II
Так уж повелось, что даже вполне обычное заболевание пожилого человека, вызывает множество сплетен, домыслов и кривотолков, если пациент принадлежит к монаршему сану и когорте сильных мира сего. Не избежал этой участи и Аминта, находившийся на смертном одре в глубоком беспамятстве.
Причиной для недоверия к естественным причинам паралича царя, находившегося у самого порога в подземное царство мёртвых, прежде всего, послужила нестабильность его семейного положения. Дело в том, что в силу своей любвеобильности и политических интересов, Аминта трижды вступал в официальный брак.
С древнейших времён цари македонские практиковали многожёнство. Монархи вступали в брак по нескольку раз за свою жизнь, порой весьма непродолжительную. Чаще всего браки эти носили династический и политический характер.
Женитьба в этих случаях являлась хорошим поводом для заключения выгодного военного союза с соседними царями или верховными вождями. Иногда жена становилась гарантией соблюдения заключенного союза или условий мирного договора.
Крайне редко цари македонские женились не по расчёту, а повинуясь порывам страсти. Подобная ситуация запутывалась и усугублялась тем, что помимо официальных жён правители Македонии имели десятки наложниц, а также охотно пользовались проститутками, рабынями и дворовыми девками для удовлетворения своей необузданной сексуальной похоти и невоздержанности.
Для того, чтобы сын царя в будущем мог хотя бы теоретически претендовать на македонский трон, монарх ещё при жизни своей обязан был публично объявить своего отпрыска законнорожденным. Право на наследие трона получали также сыновья, рожденные от царя в официальном браке, даже если мать их не принадлежала к правящему или знатному роду.
Вне зависимости от своего происхождения, а также соблюдения всех формальностей законности брака, македонский царь мог в любой момент официально лишить любого из своих сыновей права когда-либо занимать трон или претендовать на него вообще.
У умирающего Аминты III имелось три законные жены – Эвридика, Гигея и Архелая. Главенствующее положение среди супруг престарелого монарха занимала царица Эвридика. Она принадлежала к древнему знатному македонскому роду, представители которого на протяжении многих веков являлись правителями Линкестиды2.
Архонты3 Линкестиды длительное время считали себя независимыми и самостоятельными господарями, всячески сопротивляясь верховной власти македонских царей. Лишь полвека назад князья Линкестиды, смирив гордыню, но не укротив полностью вольнолюбивый дух, признали себя вассалами македонских властителей.
Чтобы как можно крепче и надёжнее упрочить своё шаткое наместничество над Линкестидой – притихшей и присмиревшей, но до конца не смирившейся со своей провинциально участью, цари македонские брали себе в жёны дочерей линкестидских архонтов.
Вот и Аминта исключительно из династических и наместнических соображений взял себе в жёны Эвридику – внучка архонта Аррабея, последнего из влиятельных и независимых правителей Линкестиды.
Эвридику не зря прозвали Дикой или Необузданной. Едва прибыв ко двору своего новоявленного супруга, своенравная линкестидская княжна сразу же чётко – раз и навсегда определила высочайшую значимость собственной персоны, заняв подобающее место.
Все македонцы, включая самых доверенных лиц царя и его родню, величали Эвридику исключительно царицей, с присущим пиететом и смиренным почтением. Македонцы не слишком-то утруждали себя дворцовыми церемониями и нудными правилами придворного этикета.
По негласной традиции уважаемые воины, полководцы и приближенные монарха обращались к царю на «ты» в приватных беседах, опуская витиеватые эпитеты, титулы и всякого рода ненужные дворцовые условности. Эвридика запретила подобное панибратство в своём присутствии.
Дикая княжна быстро и решительно избавилась от многочисленных наложниц своего мужа, отослав их в самые глухие поселения на самые дальние окраины Македонского царства. Эвридика также заставила Аминту официально отречься от всех своих внебрачных детей, лишив их даже теоретических шансов претендовать на престол в будущем.
Эвридика решительно настояла на том, чтобы от двора была удалена и первая жена царя – Архелая. Эта несчастная женщина за несколько лет брака так и не смогла своему монаршему супругу родить ребёнка, а кроме того её родословная не была столь впечатляющей как у Эвридики. Аминта без каких-либо колебаний и сожалений отослал опостылевшую ему Архелаю подальше от столицы.
Куда сложнее дело обстояло с третьей женой Аминты. Предки Гигеи с древнейших времён входили в число высшей македонской аристократии. Прадедом Гигеи был царь Александр I4 – самый почитаемый правитель Македонии. Если брак с Эвридикой был сугубо политическим, то союз с Гигеей возник на фоне глубоких и нежных чувств уже зрелого Аминты к молоденькой представительнице одного из самых знатных родов Македонского царства.
Эвридика родила Аминте троих сыновей: старшего – Александра, среднего – Пердикку и младшего – Филиппа. Александр и Пердикка по македонским меркам уже считались зрелыми мужами, которые довольно успешно и активно принимали участие вместе с отцом в войнах и боевых походах.
Совершеннолетие у македонцев наступало в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Считалось, что по достижении этого возрастного периода юноша мог стать мужем и главой семьи, а девушка – уже была готова к полноценному деторождению и самостоятельному ведению домашнего хозяйства.
По древней македонской традиции юноша становился мужчиной, убив лично на охоте вепря – матёрого кабана или иного опасного хищника – волка, росомаху, горного барса, пещерного медведя. После свершения этого важнейшего ритуала македонец мог участвовать в пирах и празднествах наравне с прочими знатными мужами, он мог вступать в брак и принимать участие в боевых действиях.
Чтобы стать настоящим воином и полноценным членом войскового братства каждому македонцу в обязательном порядке (вне зависимости от степени знатности и положения в обществе) требовалось в очном поединке сразить насмерть врага мечом, копьём или боевым топором. Особенно приветствовалось уничтожение противника при помощи кинжала или ножа в ходе схватке на предельно близкой дистанции боя.
Македонец, убивший врага в поединке, получал право носить специальный кожаный широкий пояс с медной пряжкой. Эти пояса – символы обретения настоящей мужественности и приобщения к воинской касте являлись для их обладателей нескрываемым предметом гордости, а потому всячески украшались. Декорирование воинских поясов, сделанных из лучших сортов кожи молодых телят, обычно заключалось в нанесении расписных узоров и инкрустации при помощи драгоценных камней.
Воин, опоясанный кожаным ремнём, мог пировать рядом с царём, возлежать на ложе среди почётных гостей, претендовать на младшие командирские должности, имел право голоса на общевойсковых сходах и судах, получать причитавшуюся ему долю добычи и военных трофеев.
Александр и Пердикка уже давно получили заветные пояса, сразив в боях нескольких врагов. Они заслужили авторитет у царя, его стратегов – старших военачальников, офицеров и простых воинов.
Филиппу ещё не исполнилось пятнадцати. Он недавно убил на царской охоте свирепого кабана, сделав первый шаг к получению статуса полноправного македонского мужа и воина. Недалёк был и тот час, когда юноша отправится в свой первый военный поход, где непременно сразит врага, получив право носить заветный пояс.
Ещё в браке Аминты и Эвридики родилась дочь – Эвриноя. В духе древней македонской традиции, как только царской дочери исполнилось пятнадцать лет, её отдали замуж. Супругом Эвринои стал знатный представитель македонской знати – Птолемей Алорит. Отцом его был Аминт – влиятельный наместник города Алора, расположенного в Боттиеи5 – одной из центральных областей Македонского царства.
В браке от Гигеи у плодовитого Аминты также родилось три сына – Архелай, Арридей и Менелай. Все они уже достигли совершеннолетия и также заслужили право носить кожаные пояса.
Однако под нажимом неуступчивой, ревнивой и властной Эвридики ещё несколько лет назад Аминта официально объявил своими наследниками лишь трёх сыновей, рождённых исключительно от Эвридики – Александра, Пердикку и Филиппа.
Архелай, Арридей и Менелай по-прежнему считались законнорожденными сыновьями царя, однако они не имели права ни при каких обстоятельствах претендовать на отцовский трон. Сыновья Гигеи жили при дворе, но в дела государственной важности никогда не вмешивались, довольствуясь скромной ролью помощников отца в вопросах ведения столичного хозяйства.
III
Эвридика почти не сомневалась в том, что её старший сын – Александр вскоре займёт место агонизирующего Аминты. Столичная и провинциальная македонская знать, царские соратники и сподвижники, военачальники и простые воины, крестьяне и простолюдины – все уважительно относились к царевичу, признавая за ним законное право на отцовскую корону.
Эвридику, томительно ожидавшую весть о кончине мужа, беспокоило в данный момент другое. Верные ей люди из числа дворцовой прислуги, стражи и ближнего круга царя в последнее время неоднократно доносили о крайне слухах и сплетнях, касавшихся причастности Эвридики к нынешнему безнадёжному состоянию Аминты.
Злые языки столичных жителей всё чаще и в более дерзкой форме намекали, а порой и открыто обвиняли царицу в том, что она косвенно или целенаправленно довела своего монаршего супруга до смертельного недуга. Подозрения эти и кривотолки был отнюдь не беспочвенными пересудами и досужими вымыслами.
Почти все обитатели царского дворца знали о том, что Эвридика изменяет царю. Любовником неверной царицы был Птолемей Алорит – зять Эвридики и Аминты. Именно Эвридика в своё время буквально заставила престарелого супруга назначить Птолемея на должность управителя и распорядителя царского дворца. Она же – царица способствовала тому, что дочь её – Эвриноя стала женой Алорита.
С женской точки зрения измена Эвридики была вполне логична и объяснима. Аминта был старше своей супруги почти на тридцать лет. Царица никогда не испытывала к мужу каких-либо нежных чувств, а тем более любви или душевной привязанности. В свою очередь и сам Аминта быстро пресытился молодостью и свежестью Эвридики, охладев к ней уже после первых лет совместной жизни.
Эвридики родила царю трёх здоровых физически и психически дееспособных сыновей. Именно это обстоятельство более всего устраивало Аминту, а потому в благодарность он не стал разводиться с ней, когда воспылал страстью к молоденькой, наивной и покладистой Гигее.
Эвридике уже давно опротивел её супруг – состарившийся, располневший, поседевший, обрюзгший, лишившийся многих зубов, внешней привлекательности и прежней сексуальной ненасытности.
После того, как Аминта взял в жёны простушку и дурнушку Гигею, уязвленная и оскорбленная до самой глубины алчной и ревнивой души царица люто возненавидела и царя, и его молодую жену, и детей от второго брака.
Сама Эвридика, вошедшая в пору цветущей женской красоты и пика эротической чувственности, сначала увлеклась, а затем и впервые в жизни страстно влюбилась в молодого и амбициозного Птолемея Алорита.
Он разительно контрастировал с престарелым Аминтой. Птолемей был высок, атлетически развит, широк в плечах, обладал настоящей мужской привлекательностью и харизмой. Его смуглое мускулистое тело, покрытое боевыми шрамами, чёрные кудри и большие карие глаза производили неизгладимое впечатление на женщин.
Алорит слыл отважным воином, опытным охотником и превосходным наездником. Он знал все македонские наречия, мог вполне сносно общаться с греками, эпиротами, фракийцами и горными варварами, проживавшими близ северных границ Македонии.
Птолемей оказался толковым распорядителем царского дворца, был незаменим в качестве переводчика во время переговоров с послами соседних держав и народов. Он также хорошо исполнял обязанности адъютанта и офицера штаба во время войн и походов.
Птолемей быстро обратил на себя внимание Эвридики. Молодой фаворит сразу же понял, какие блестящие выгоды и превосходные перспективы сулит ему длительная связь с влюбленной в него царицей. Алорит охотно стал любовником Эвридики и не прогадал. С тех пор как Птолемей стал с лихвой удовлетворять неуёмные плотские прихоти жены Аминты, сделавшись доверенным лицом царицы, карьера его стремительно пошла в гору.
Разумеется, в царском дворце нельзя было долго скрывать от посторонних любовную интрижку, полную бурных страстей, душевного и интимного накала. Об измене Эвридики с собственным зятем Аминте донесли довольно быстро. Царь сначала непременно хотел жестко покарать обоих прелюбодеев, всерьёз подумывая о суровой казни.
Однако затем Аминта под благостным воздействием Гигеи и благодаря мудрым советам своих приближенных переменил свои намерения. Царь решил развестись с неверной супругой, выслав Эвридику и её любовника подальше из Пеллы, как говорится, с глаз долой – из сердца вон.
Развод и последующая высылка из столицы в самый удаленный и захолустный уголок Македонского царства никак не входила в планы Эвридики. Во-первых, ненавистная Гигея становилась в таком случае единственной законной женой Аминты. Во-вторых, Эвридика не собиралась покидать Пеллу, а тем более царский дворец. Она не могла допустить, чтобы её сыновья остались без поддержки, тайной опеки и надёжного присмотра.
Тихоня Гигея со временем могла переменить решение Аминты, касающееся вопроса о престолонаследия в пользу своих сыновей. Этого Эвридика допустить никак не могла. В свою очередь Птолемей не собирался остаток своих дней провести в вечной ссылке где-нибудь на самой дальней порубежной заставе, безвестно и бесславно погибнув с хватке с варварами-грабителями.
Чтобы избежать огласки, разоблачения, публичного скандала и наказания Эвридика и Птолемей были готовы на самые радикальные меры вплоть до убийства Аминты. Любовники лихорадочно разрабатывали план физического устранения царя, остановив свой выбор на наёмном убийце и отравлении в качестве запасного варианта.
Однако судьба распорядилась иначе. Из-за переживаний и в силу преклонного возраста Аминту разбил паралич. Царь так и не успел официально предпринять в отношении неверной жены и её фаворита каких-либо карательных мер или распоряжений. Это обстоятельство сильно обнадёживало царицу и успокаивало её.
Впрочем, умирающий царь мог запросто на какие-то мгновения прийти в сознание и в присутствии свидетелей из числа жрецов, врачевателей и ближнего окружения озвучить вслух свои намерения в отношении Эвридики и Птолемея. Царь мог и в бреду, и в агонии сказать что-либо компрометирующее свою неверную жену.
Вот почему Эвридика с плохо скрываемым волнением и опаской ожидала скорейшей смерти ненавистного и презираемого супруга. Последние часы царица неотлучно находилась возле покоев Аминты, чтобы первой узнать об его окончательном уходе в подземное царство.
Вместе с Эвридикой в тесной комнатке находились все три её сына и самые близкие соратники Аминты. Птолемей, дабы не возбуждать в отношении своей персоны лишние поводы для слухов и сплетен, был в своих покоях вместе с Эвриноей. По категорическому настоянию Эвридики к царскому одру не допустили детей Аминты и Гигеи.
IV
Из комнаты, в которой отходил в мир иной царь Аминта, со скорбным выражением на лице вышли три верховных жреца. Следом за ними в полном отчаянии и с обреченным видом плёлся главный придворный врачеватель Никомах. Эвридика, её сыновья и ближайшие сподвижники царя разом встали, уже догадавшись, какую новость они сейчас услышат.
– Царь Аминта, третий обладатель данного имени, носитель крови рода Аргеадов и прямой потомок славного Геракла, четырнадцатый правитель Македонии, – монотонным и заунывным голосом нараспев неожиданно заговорил один жрецов, – предстал перед всесильными богами и теперь готовится к своему последнему путешествию в подземное царство вечных теней и мёртвых…
– Я и все мои обширные познания в медицине оказались бессильны перед коварным недугом, от которого пока ещё нет действенного средства… – обречённо развёл руки в стороны Никомах, оглушенный и ошарашенный смертью царя.
– Мы не виним тебя в случившимся, – поспешила успокоить царского лекаря Эвридика. Её волновало совершено иное. – Не сказал ли перед своим последним вздохом что-либо царь Аминта? Не велел ли он передать своим наследникам и приближенным последние свои указания и распоряжения?
– Нет, – еле слышно ответил Никомах, – последние два дня царь провёл в полном беспамятстве. Ни разу он не приходил в себя и ничего не произнёс, кроме стонов…
Не скрывая своих вырвавшихся наружу радостных и почти ликующих чувств, Эвридика со вздохом радостного облегчения и избавления от гнетущей опасности громко и почти торжественно принялась отдавать распоряжения:
– Следует немедленно разослать по всем городам, поселениям и заставам Македонии гонцов с известием о смерти мужа моего – царя Аминты. Пусть все желающие проститься с усопшим монархом направляются в Эги6, туда же жрецы и почётная траурная стража повезут тело Аминты…
Жрецы, склонив подбородок в знак согласия, удалились бесшумно, чтобы приступить к длительному обряду подготовки перехода почившего Аминты из мира живых людей в подземное царство мёртвых – Тартар. Эллины называли Тартар – царством Аида в честь одноименного верховного бога, решавшего окончательную судьбу всех умерших людей – и простолюдинов, и могущественных царей.
– Быть может отца следует похоронить здесь – в Пелле? – неуверенно спросил Александр, нервно теребя складку на своём хитоне7. – Он очень любил эти места и всегда мечтал со временем превратить Пеллу не только в полноценную столицу Македонии, но и в самый большой город, что затмит все известные греческие полисы8.
– Ни в коем случае! Издревле все правители македонские находили своё последнее пристанище в Эгах – первой и древнейшей столице нашего царства! – категорично отрезала Эвридика. – Именно в Эгах находится священная гробница для царей Македонии. И потом, не забывайте, что несколько столетий назад дельфийский оракул9 сделал важнейшее предостережение нынешнему правящему царскому роду. Оракул строжайше предупредил, что как только хотя бы одного царя из рода Аргеадов похоронят вне гробницы, находящейся в Эгах, то правящая династия пресечётся навсегда в самом скором времени!
– Царица сказала истинную и суровую правду, – донёсся из-за спины голос верховного жреца. Никто из присутствующих не заметил как и когда он появился в довольно тесном и хорошо освещенном помещении. – Аминту следует торжественно похоронить в Эгах! И на похоронах, и на тризне всем должен непременно распоряжаться новый царь…
– Да, да! – Эвридика, словно одержимая воспылала какой-то демонической энергией. – Именно сейчас и именно теперь мы должны безо всякого промедления избрать нового царя! Я полагаю, следует во всём полагаться на волю Аминты, а он объявил своим наследником нашего старшего сына – Александра!
– Народ македонский, знать, доверенные лица Аминты, стратеги и простые воины, жрецы – все знают о волеизъявлении почившего царя, – подтвердил Парменион, начальник царской стражи и личных телохранителей монарха.
Этот молодой военачальник, которому ещё не исполнилось и тридцати, совсем недавно вошёл в ближний круг Аминты, заслужив его доверие своей безупречной службой и отвагой на полях сражений.
– Поздравляю тебя, сын мой! – в неистовом восторге закричала Эвридика. – С этого момента – ты законный и полноправный царь Македонии!
– Я стану полноправным царём лишь после того, как меня утвердит общевойсковой сход… – вновь неуверенно произнёс Александр, покрываясь румянцем тайной радости.
– Войсковой сход и знать непременно провозгласят тебя царём без каких-либо колебаний и сомнений! – самоуверенно и властно заявила Эвридика, после чего походкой торжествующей победительницы и истиной хозяйки царства направилась в гинекей – женскую половину дворца. Уже на ходу царица отдала новое распоряжение: – А теперь, дети мои и верные соратники, займёмся насущными и неотложными делами! Александр, а тебя я жду вечером в своих покоях!
Глава II. Роковые страсти под покровом траура.
I
В личных покоях вдовствующей царицы было тихо и тепло. Эвридика не выносила холода и сырости. По этой причине опытные слуги, панически опасавшиеся вспышек буйного и плохо контролируемого гнева своей госпожи, всегда старательно и с особым усердием отапливали опочивальню Эвридики.
Кроме того, стены, полы и даже потолки комнат, в которых обитала новоиспеченная вдова Аминты, дополнительно утеплялись шкурами и войлоком. На пол даже жарким летом обязательно стелились самые лучшие ковры с пышным ворсом. Наготове у слуг всегда под рукой имелись самые тёплые одеяла из лучших сортов местных тонкорунных овец и диких яков.
Эвридика помимо холода и сырости также очень не любила темноту и даже полумрак. В угоду царице её опочивальня и покои более прочих помещений освещались при помощи бронзовых лам и светильников. Они заправлялись специальным маслом, содержащим благовония для нейтрализации неприятных запахов спёртых и плохо проветриваемых помещений, а также для устранения запаха копоти и гари.
Войдя в свою спальню – ярко освещенную и сильно натопленную, Эвридика едва не вскрикнула от испуга и удивления. На её постели, вальяжно развалившись в непристойной позе, лежал совершенно обнаженный Птолемей.
– Как ты меня напугал! – воскликнула царица, переводя дух. – И потом, не слишком ли ты смело и рано обосновался в моих личных покоях!?
Птолемей оскалил в улыбке свои крупные и белоснежные зубы:
– К чему теперь все прежние наши страхи, опасения и излишние меры предосторожности? Все во дворце, да и уже, наверное, каждому жителю Пеллы известно, что Аминта умер! Теперь ты – хозяйка Македонии! Ты и только ты, моя госпожа!
– Да, любимый, – радостно и со слезами на глазах просияла Эвридика, – мой муженёк – этот опротивевший мне и опостылевший старикашка наконец-то отправился в царство Аида, а оттуда ещё никто из смертных не возвращался!
Широко улыбающийся Птолемей приподнялся на ложе, не забывая поигрывать мускулами перед любовницей, и, хлопнув в ладоши, пробасил:
– Так давай же отметим радостную для нас обоих весть и крайне удачное стечение обстоятельств! Я припас для такого торжественного случая лучшее греческое вино, привезенное из Фессалии10!
– Тебе только приложиться к хмельному зелью! – строго упрекнула царица Алорита. – Хвала всесильным древним богам, что не пришлось нам, рискуя головами своими, насильственно лишить жизни Аминты. Ещё неизвестно, чем завершилась наша затея с отравлением! Прежде чем ты примешься за опустошение очередной амфоры с вином, я хочу полностью утолить свою жажду любви и нежности!
Эвридика безо всякого стеснения одним ловким движением сбросила с себя свой полупрозрачный хитон, скроенный по греческому образцу. И в цивилизованной Элладе, и в полуварварской Македонии сорокапятилетняя женщина считалась более чем зрелой и уже лишенной внешнего эротизма и соблазнительности.
Эвридика вопреки этим устоявшимся догмам прикладывала массу усилий для сохранения своей увядающей красоты и привлекательности. Она ежедневно принимала ванны в тёплых карстовых источниках с солёно-горьковатой водой, старалась придать телу равномерный умеренный солнечный загар, как могла берегла кожу от воздействия жары, холода и ветра.
Эвридика умащала постоянно тело своё оливковым маслом и различными омолаживающими снадобьями, которые ей готовили сведущие в вопросах сохраннеия и поддержания красоты служанки.
По примеру греческих модниц и женщин лёгкого поведения царица систематически удала все волоски со своего тела, используя горячий воск и мёд. Для придания упругости кожи она делала болезненные прижигания нагретой на огне скорлупой грецких орехов.
И всё же, несмотря на все ухищрения и достижения античной косметологии, Эвридика неизбежно старела, теряя прежнюю молодость, свежеть, сексуальную привлекательность и манящий эротизм. Всё чаще царице приходилось старательно закрашивать хной седые волосы, а морщины на лице, шее и области декольте уже не разглаживались.
Птолемей никогда не был в восторге от созерцания увядающей наготы своей монаршей любовницы. Однако, будучи опытным соблазнителем и тонком знатоком женской натуры, Алорит все умело и искусно притворялся, что переполнен возбуждением лишь от одного только вида обнаженной Эвридики.
Птолемей отлично понимал, что привязанная к нему глубокими чувствами вдовствующая царица – это единственный для него шанс быть как можно ближе к македонскому трону. Алорит довольно успешно и вполне натурально разыгрывал из себя влюбленного.
Однако для пробуждения и усиления сексуального влечения к требовательной на ложе любви царице Птолемею приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям. Всё чаще и в довольно больших количествах он тайком перед свиданиями употреблял различные снадобья для повышения своего либидо, не справлявшегося с буйным и разнузданным темпераментом Эвридики.
II
Вот и на этот раз Алорит на ложе, принадлежавшем вдовствующей царице, старался изо всех своих сил – физических и сексуальных. Птолемей отлично знал, что Эвридика, полностью удовлетворившая свою похоть и страсть к доминированию, граничившую с порицаемым извращением, становится покладистой и сговорчивой.
Пока разомлевшая и полностью расслабленная Эвридика не приобрела прежнюю свою властность, непреклонность и жёсткость, переходящую в жестокость, Алорит, отхлебнув внушительный глоток вина, перешёл к волнующей его теме.
– Какими будут наши дальнейшие отношения и какова теперь моя роль при дворе? – осторожно осведомился Птолемей, внимательно следя за непредсказуемой реакцией любовницы.
– Наши отношения останутся прежними, как и твоё нынешнее место во дворце, – с полным спокойствием отвечала Эвридика, не открывая глаз. – Но встречаться мы сможем гораздо чаще и дольше!
– Но я надеялся, что после смерти Аминты… – с нескрываемым разочарованием протянул Алорит, расплескав от досады вино мимо серебряной чаши.
– Надеялся на что!? – подскочила Эвридика. – Что мы поженимся!? Но в таком случае я утрачу все выгоды и привилегии вдовствующей царицы, да и тебе не подняться выше должности управляющего царского дворца…
– Это ещё почему? – вспыхнул Алорит, которому крепкое неразбавленное вино, поглощаемое обильными и частыми глотками, ударило в голову. – Правящий в Македонии царский род Аргеадов берёт своё начало от легендарного Геракла. Мой род – один из самых древних и уважаемых среди македонской знати также ведёт свою родословную от Геракла!
– Уж не возомнил ты себя равным царям!? – Эвридика полоснула своего зарвавшегося любовника суровым и пристальным взглядом. – Мой старший сын Александр – новый царь Македонии, а я – его мать и вдовствующая царица замолвлю за тебя слово, чтобы ты не лишился своего нынешнего места. А если вздумаешь кичиться своим мнимым родством с прославленным Гераклом, то не успеешь оглянутся, как окажешься на самом дальнем порубежье где-нибудь у северной границы с Иллирией11 или Пеонией12.
– Не гневайся, моя ненаглядная царица, – испугано забормотал Птолемей, из которого мгновенно выветрился хмель, пробудивший спесь и честолюбие. – Я всего лишь напомнил о своей родословной безо сякого умысла. Всё будет так, как скажешь ты и твой царственный сын! Я безропотно приму любую вашу волю и распоряжение…
– То-то же! – с видом победительницы и полновластной хозяйки царства заявила Эвридика. – Я сполна отмстила своему ненавистному муженьку за унижение и порабощение моей родной Линкестиды. Но теперь, когда я стала вдовствующей царицей Македонии, я не стану возвращать свободу Линкестиде! Мне и только мне теперь по-праву принадлежит верховная власть над всеми провинциями и землями Македонскими!
– О, мудрейшая царица моя! – с понимающим восторгом осушил свою чашу Алорит. – Через сына своего Александра ты вознамерилась править Македонией! Я целиком и полностью поддерживаю твоё решение и готов оказать тебе любую посильную помощь!
– Вот так-то! – снисходительно усмехнулась Эвридика. – Чем попусту болтать и лакать вино, давай-ка как следует разотри моё тело оливковым маслом, смешанным с восточными ароматическими мазями. Я что-то стала замерзать, поэтому бери снадобье, оно стоит в амфоре на самой верхней полке, и принимайся за дело. Да, двигай мягко и осторожно своими мозолистыми лапищами, не поцарапай мою нежную кожу!
Не на шутку испугавшийся гнева и вполне реального сурового наказания, Птолемей принялся на совесть со всей старательностью и внимательностью аккуратно массировать тело рассердившейся царицы. Опытный ловелас более всего уделял внимание во время своего «штрафного массажа» эрогенным зонам Эвридики, дабы вожделением отвлечь её от недавней вспышки раздражения.
План Алорита сработал довольно быстро. Возбудившаяся царица с рычанием тигрицы набросилась на своего любовника, ловко оседлав его. Если кто-то из македонцев узнал, что каждый раз во время интимной близости Эвридика скачет верхом на Птолемее и вообще постоянно доминирует над ним, заставляя исполнять все свои похотливые фантазии и прихоти, Алорита бы тотчас нещадно осмеяли и освистали.
Если бы подробности любовных утех Эвридики и её фаворита стали известны македонским мужам, то в глазах общественности Птолемей навсегда бы лишился авторитета и вообще всякого уважения. Однако Алорит в опочивальне был согласен исполнят любые прихоти своей госпожи, лишь бы она в отношении его не применяла своих карающих санкций.
Эвридика после второго раунда сексуальных игрищ, казалось, полностью отошла от недавней вспышки гнева и раздражения. Однако Алорит обрадовался раньше времени, поскольку его чрезмерно эмоциональная любовница сама начала новый разговор, столь же неприятный по своим последствиям как и предыдущий.
– А с моей дочерью, развлекаясь на ложе опочивальни, ты столь же пылок и податлив? – царица взглядом-рентгеном пристально смотрела Птолемею прямо в глаза.
– Вовсе нет… – неуверенно замялся Алорит, выдавая своим смущением сказанную неправду.
– Не лги мне! – разъярилась Эвридика. – Я чуть не каждый вечер слышу ваши взаимные крики страсти, и твой голос доносится гораздо чаще!
– Ты, что подслушиваешь и следишь за мной!? – возмутился и одновременно испугался распорядитель царского дворца.
– Я знаю обо всём, что происходит в моём царстве и тем более в моём доме! – горделиво прикрикнула царица.
– Но ведь ты сама насильно женила меня на Эвринои, чтобы я вошёл в твою семью и всегда мог быть рядом! – принялся оправдываться Птолемей.
Разгоравшуюся ссору любовников неожиданно прервал нежданный визитёр, который сильным и уверенным движением распахнул импровизированный занавес из медвежьих шкур, служивший дверью в покои царицы. Птолемей и Эвридика с изумлением и застывшим выражением ужаса на лице уставились на вошедшего царя Александра.
III
Немая сцена в опочивальне вдовствующей царицы длилась недолго. Обнаженные, разгоряченные, лежащие в объятиях друг друга Эвридика и Птолемей не имели ни малейших шансов на какие-либо вразумительные оправдания. Да, они и не пытались этого сделать, осознавая всю бесполезность всяческих отговорок.
– Вот они – прелюбодеи-охальники! – из-за спины Александра выпорхнула Эвриноя. Её буквально трясло от гнева и ярости. Внешностью она пошла в своего отца, а вот вспыльчивостью и гневливостью – в мать.
– Прочь отсюда, мерзавка! – рявкнула на дочь царица, лихорадочно соображая как же с наименьшими потерями и неприятностями выпутаться из щекотливой и практически безвыходной ситуации.
– Жалкая стареющая потаскуха! – завопила Эвриноя, теряя над собой контроль. Александр едва успел перехватить сестру, которая с кулаками кинулась на родную мать. – Сначала я лишь подозревала, что ты принуждаешь мужа моего к сношениям, а потом застукала вас в постыдный момент соития! Я рассказала об этом отцу, а он вместо того, чтобы отодрать тебя ивовыми прутьями как продажную девку, задумал развестись! Теперь тело его ещё не остыло, а ты опять ублажаешь свою старческую похоть при помощи мужа моего – твоего зятя!
Алорит в разгар семейной перепалки повёл себя самым неожиданным образом. С ловкостью горного барса он вскочил с ложа прелюбодеяния и молниеносным рывком оказался в противоположном от царя углу помещения.
Александр обнажил свой меч, не сомневаясь, что оскорбивший его монарший род прелюбодей-соблазнитель уже никуда не денется от заслуженного возмездия. Однако Птолемей и не думал оказывать сопротивление и вступать в обреченное на гибель единоборство с взбешенным и вооруженным царём.
Алорит превосходно ориентировался в опочивальне Эвридики, зная о наличии тайного хода, что вёл из спальни царицы в катакомбы, соединенные с царским дворцом несколькими засекреченными туннелями.
Их прорыли на случай осады царской резиденции, чтобы царская фамилия могла в критической ситуации тайно покинуть дворец. Система подземных ходов и тоннелей соединялась с несколькими комнатами, покоями и помещениями, расположенными в различных частях дворца. Потаенные ходы эти вели за пределы городской черты Пеллы.
Голый Алорит, нырнувший в один из таких тоннелей, спас свою жизнь от немедленной расправы или, что гораздо хуже – от суровой казни и истязаний. Должность распорядителя царского дворца спасла незадачливого любовника Эвридики. Птолемей очень хорошо знал систему подземных ходов и уверено в них ориентировался.
– Стража! – загремел Александр, поняв, что дерзкий и голый Птолемей ускользнул от его безупречно заточенного лезвия и острия его фамильного меча. – Всем немедленно в погоню за Птолемеем Алоритом! Этот человек нанёс тягчайшее оскорбление царской семье, а посему отныне он – злостный преступник царства Македонского! Взять Птолемея живым, дабы предстал он перед суровым и справедливым судом!
Пока дворцовая стража и телохранители царя спешно организовывала погоню за Алоритом, между Александром и матерью состоялся крайне эмоциональный и неприятный для обоих разговор.
– Так, значит, это правда! – крикнул на мать новоиспечённый царь, свирепо швырнув в неё шафрановое платье, дабы та прикрыла свою наготу. – Это чистая правда! Ты изменяла отцу в его дворце с его же приближенным! Ты разделяла ложе со своим собственным зятем! Ты раздвигала ноги перед мужем своей дочери! Твой поступок – это несмываемый стыд и вечный позор для славного рода Аргеадов!
– Перестань кричать! – огрызнулась Эвридика. – Если ты сам не расскажешь о том, что тут произошло, никакого позора для нашей семьи и рода Аргеадов не будет! Не смешивай дела семейные и державные, и прекрати истерику!
– Ты ещё смеешь указывать мне и приказывать!? – от глубочайшего изумления царь застыл посреди комнаты, нервно вложив меч обратно в ножны.
– Смею, поскольку я произвела тебя на свет! – перешла в наступление полностью пришедшая в себя царица. – И именно я добилась того, чтобы тебя без проволочек и препятствий избрали царём! Твой отец завёл себе новую молодую жену – податливую и коварную потаскуху Гигею, а я в отместку Аминте развлекалась с Птолемеем! Кстати, сыновья Гигеи запросто могут оспорить твой трон – вот о чём нужно думать сейчас, а не позорить мать из-за пустяков!
Гнев мгновенно вновь обуял Александра. Он сжал кулаки и подскочил к матери, которая так и не соизволила одеться, а лишь прикрылась платьем. На секунду Эвридике показалось, что сын непременно ударил бы её, если бы дотянулся.
– Пустяков!? – закричал царь. – Своим непотребным распутством, похотью и противоестественной связью с мужем дочери родной ты свела в могилу отца! Никогда не прощу тебе эту постыдную измену! Никогда! Моё прежнее отношение к тебе и почитание навсегда остались в прошлом! Я не стану изобличать тебя на людях, чтобы не опорочить память отца. Помни, что отныне ты мать мне лишь по названию, но не по родству и крови! Облачайся в траурные одеяния, коротко остриги волосы и будь готова в самом скором времени отправиться в Эги, чтобы принять участие в погребении отца. Покаянием своим, может, искупишь хоть часть своей необъятной вины перед ним!
– А что будет после похорон? – с тревогой спросила Эвридика. Только теперь, охваченная страхом, она осознала, что все слова, сказанные сыном, не просто плод его сиюминутного гнева, а неожиданная суровая реальность.
– Ты останешься во дворце, будешь под постоянным моим надзором, – нахмурился Александр. – Я более не допущу никаких действий с твоей стороны, порочащих имя и честь нашего рода или семьи. Что касается твоего любовника, то, как только Птолемея схватят, я лично отрежу его жалкий отросток, болтающийся между ног. Я заставлю Алорита перед смертью съесть собственные причиндалы, которыми он завоевал твоё расположение! Ты станешь свидетельницей мучительной казни охальника и прелюбодея, разделявшего с тобой ложе!
– Мне нет никакого дела до судьбы Птолемея, – поспешила отречься от возлюбленного растерявшаяся и перепугавшаяся царица. – Но ты не посмеешь сделать из меня узницу! Лучше запри под замок потаскуху Гигею и весь её змеиный выводок! А ещё лучше поскорее отправь всё это семейство в царство Аида!
– Не волнуйся, Гигея и её сыновья уже находятся под неустанным надзором верных мне людей, – заявил Александр, прибавив презрительно. – Имей ввиду, что Гигея и дети её вызывают у меня куда больше жалости, сочувствия и снисхождения, чем ты!
Глава III. Быстрое взросление царевича Филиппа.
I
Царя Александра II весьма опечалило то обстоятельство, что предерзостному Птолемею удалось целым и невредимым покинуть Пеллу. Если бы не отцовские похороны, то монарх лично бы возглавил облаву на гнусного прелюбодея. Впрочем, новоявленный царь македонский не сомневался, что рано или поздно Алорит будет пойман и предан жесточайшей и самой позорной казни.
В родной город Птолемея, ко всем его дальним и ближним родственникам, а также знакомым и друзьям уже были посланы охотничьи команды. На все пограничные заставы и поселения отправились гонцы с грозным приказом ни в коем случае не пропустить в соседние края и державы беглого преступника.
По всем городам, поселениям и общинам Македонии были разосланы гонцы для оглашения царского указа. В нём Птолемей объявлялся главнейшим государственным преступником, которого следовало изловить живым и доставить на царский суд. За голову Алорита была назначена щедрая награда, а за пособничество ему и укрывательство – суровая казнь с конфискацией всего имущества.
Александр явно недооценил Птолемея. Личный враг царя не собирался бежать из Македонии или прятаться остаток своей жизни в глухих лесах или горных малообитаемых районах. Алорит задумал неслыханное по дерзости и масштабу предприятие.
Он намеревался взбунтовать против верховной власти Александра македонские провинции, которые лишь несколько десятилетий назад признали Аргеадов своими законными и наследными царями.
Как только в Эгах завершились траурные мероприятия, посвященные прощанию с почившим Аминтой, встревоженный Александр с братьями, охраной и ближним кругом поспешил обратно в Пеллу. Опасность, исходившая от Птолемея, оказалась вполне реальной и грозила вылиться в масштабную междоусобицу, угрожавшую Македонии не только гражданской войной, но и распадом.
Сложившуюся ситуацию Александр обсуждал со своими соратниками и сподвижниками на военном совете, как того требовало нынешнее положение и древние обычаи. Филиппа – младшего сына Аминты III и Эвридики на этот военный совет не пригласили по уже известной и весьма существенной причине. Филипп ещё не заслужил право носить кожаный пояс полноправного воина и мужа македонского.
Пусть юноша и не сразил ещё ни одного врага на поле боя и ещё не бывал на настоящей войне, зато он обладал весьма важным для царского отпрыска качеством. Филипп никогда не пасовал перед давлением внешних сил и обстоятельств.
Пытливый ум, изобретательность, находчивость и настойчивость почти всегда помогали младшему сыну Аминты найти выход из практически любой сложной ситуации или затруднительного положения.
Вот и теперь он не стал умолять или канючить у старших братьев возможность хоть одним глазком узреть в первый раз в жизни таинства и реалии военного совета. Филипп просто заблаговременно проник в систему дворцовой вентиляции и дымоходов, предусмотрительно сооруженную греческими инженерами, трудившимися над строительством царской резиденции.
Без труда Филипп отыскал наиболее удобную для прослушивания отдушину, что снабжала свежим воздухом тронный зал. Комфортно устроившись на войлочной подстилке, предусмотрительно припасенной заранее, юноша безо всякой опаски разоблачения и обнаружения принялся внимательно слушать речи своих братьев, военачальников и ближнего царского круга.
Тот, кто никогда прежде не видел македонского монарха, немало удивился бы чрезвычайной простоте его внешнего вида и одеяниям. Издревле цари Македонии разительно контрастировали с персидскими владыками, греческими тиранами и египетскими фараонами.
Правители македонские никогда не придавали своей внешности вычурные атрибуты роскоши, богатства и знатности. Цари рода Аргеадов одевались одинаково со своим ближним кругом, практически ничем не выделяясь среди главных советников и полководцев. Лишь золотая диадема являлась непременным и главным отличительным атрибутом повседневного внешнего облика царя.
В свои самые лучшие праздничные одеяния цари македонские облачались во время торжественных церемоний, религиозных и государственных празднеств, а также на приёмах иноземных делегаций. В обращении со своими поданными македонские монархи также избегали излишних помпезных церемоний и раболепия.
Все свободные македонцы в общении с царём держались почтительно, но без подхалимства и притворного угодничества. Македонцы соблюдали принятый при дворе необременительный этикет, но держались в общении с монархами и членами их семьи открыто, смело и без боязни.
– Положение наше весьма тяжёлое, – без лишних отступлений и прямо к сути насущной повестки дня перешёл Архелай – один из самых опытных и возрастных царских военачальников. – Птолемей, пока мы занимались похоронами Аминты, возмутил практически всю Боттиею. Хуже того, он вошёл в союз с влиятельной знатью Пиерии13 и Элимии14. Наши люди сообщают, что Алорит обещает этим провинциям полную независимость от власти царей македонских. В замен наместники Боттиеи, Пиерии и Элимии обязуются предоставить в распоряжение Птолемея по пять сотен конных воинов и три тысячи пеших.
– Клянусь всеми тёмными и злейшими древними богами нашими, что не просто кастрирую презренного Птолемея! – вскочил, повинуясь вспышке внезапной ярости Александр. – Я лично буду каждый день отрубать по кусочку от его тлетворного тела самым тупым топором!
– Прежде чем предать Алорита заслуженной казни, его нужно сначала изловить, – назидательно заметил Пердикка. – А чтобы изловить Птолемея, нужно уничтожить его войско до того, как оно соберётся воедино.
Филипп в тот момент ещё раз убедился, что его старший брат Александр унаследовал от отца внешность – суровые черты лица, орлиный профиль, чёрные как смоль кучерявые волосы и борода, тёмно-карие глаза, плотное телосложение.
Однако характер свой нынешний царь полностью унаследовал от матери. Так же как и Эвридика, импульсивный Александр быстро приходил в ярость и плохо контролируемый гнев. В запале злобы и возмущения старший сын Аминты отдавал суровые и зачастую опрометчивые приказы, а также принимал роковые по своим последствиям решения.
Пердикка, напротив, своей светлой кожей и рыжеватым оттенком волос, мягкостью в голосе, астеническим телосложением, царской осанкой и походкой пошёл в мать. Однако осторожность в принятиях решений, флегматичный склад ума, неторопливость, сдержанность и взвешенность в поступках и словах Пердикка унаследовал от отца.
– Верно, верно! – согласно закивали стратеги, соглашаясь с мнением среднего сына Аминты. – Первыми ударим по презренному шакалу Птолемею, разобьём его мятежное воинство! Жестоко и показательно накажем бунтовщиков Боттиеи, чтобы прочие наши провинции не помышляли о восстании!
– Каково по численности войско Птолемея и где оно находится теперь? – поостыв, спросил Александр.
– Свой лагерь Алорит выстроил в низовьях Галиакмона15 – у самой границы Боттиеи и Пиерии, – сообщил Симмий – командир царских разведчиков. – Птолемей ожидает прибытия своих союзников, предаваясь пирам, попойкам и охоте. Охрана лагеря и сторожевая служба у Алорита налажена плохо. Два дня мои воины следили за противником и не были обнаружены, хотя приближались к постам и ограде лагеря на расстояние броска дротика.
– Сколько воинов у Птолемея насчитали твои люди? – озабочено спросил царь.
– Не более трёх сотен всадников и около двух тысяч пехотинцев, – отозвался Симмий, прибавив: – Во время своих непрерывных застолий Птолемей, пребывая во хмелю, несколько раз похвалялся, что после прихода союзников войско его числом превысит десять тысяч бойцов.
– А когда Алорит ожидает прихода своих союзников? – спросил Архелай.
– Этого моим разведчикам узнать не удалось, – с сожалением пожал плечами Симмий.
Александр поднялся со своего трона, твёрдым голосом объявив окончательное решение:
– Ударим по разбойничьему логову Птолемея, не дожидаясь, пока против нас вооружаться Элимия и Пиерия! Выступаем без промедления силами царского войска. Ополчение присоединится к нам по пути или прибудет позже. Авангард поведёт Архелай, путь нам будут прокладывать разведчики Симмия, защищать Пеллу в моё отсутствие будет Пердикка!
II
Едва участники военного совета разошлись по своим неотложным делам, как Филипп быстро и незаметно покинул своё тайное место подслушивания. Вскоре он уже предстал перед старшим братом в радостном и возбужденном состоянии.
– Александр, возьми меня с собой на войну! – схватил брата за руку Филипп. – Мне уже исполнилось пятнадцать! Незадолго до смерти отец обещал, что обязательно возьмёт меня на следующую войну или в поход!
– Воля нашего отца священна, – неожиданно легко и быстро согласился царь. – Пришла пора тебе из отрока превратиться в настоящего мужа и воина. Готовься выступить через два дня. Пока будешь находиться при царской агеме16, а потом, если проявишь себя достойно, найдём тебе подходящее место при войске.
– Вот увидишь, я не подведу тебя и не опозорю наш славный род Аргеадов! – торжественно пообещал Филипп. – А Птолемея, если он мне попадётся, искалечу и притащу к тебе на расправу!
– Твои слова весьма достойны уст царевича, – потрепал младшего брата за плечо Александр. – Иди собирайся в дальний поход, и всегда помни, что отец наблюдает за тобой!
Филипп едва не закричал от переполнившей его радости и безмерного счастья! Всего через два дня он отправится на свою первую войну! В числе отборных царских телохранителей и гвардейцев ему предстоит сразиться с мятежниками и бунтовщиками, дерзнувшими бросить вызов великому роду Аргеадов!
Филипп непременно сразит собственной рукой врага! Нет, он изрубит на мелкие кусочки нескольких противников! Любой ценой он добудет себе кожаный пояс, украсив его трофеями, взятыми от поверженных людей Птолемея!
Своей радостью Филиппу, спешившему в свои покои, захотелось тотчас поделиться с кем-нибудь. Однако кроме суетившихся дворцовых слуг поблизости никого не оказалось. Лишь на царском дворе в тенистой беседке, не замечая царившей вокруг суеты и суматохи, поглощенный чтением текстов, записанных на пожелтевшем куске дифтеры17, сидел юный Аристотель – сын врачевателя Никомаха.
– Приветствую тебя, благородный Аристотель! – на вполне сносном греческом языке произнёс Филипп.
Греческому языку, довольно близкому к македонскому наречию, юного царевича обучал в свободное время Никомах и его сын. Филипп оказался весьма способным и усердным учеником. Никто из прочих детей покойного Аминты, да и он сам, не знали греческого языка, прибегая в случае общения с эллинами к услугам переводчика.
– И тебе пусть боги пошлют долгую, радостную жизнь, полную щедрот и изобилия! – учтиво отозвался Аристотель, не отрываясь от чтения.
– Поздравь меня! Я очень скоро отправляюсь на войну – первую для меня и самую настоящую! – срывающимся голосом воскликнул Филипп.
– Весьма рад за тебя, досточтимый царевич, – ответил сын Никомаха, отложив свои старинные рукописи, – но стоит ли так радоваться тому, что скоро тебе предстоит убивать и подвергаться риску быть убитому самому?
– Война, походы, охота и пиры в окружении знатных мужей – это удел настоящих мужчин! – оторопело воскликнул Филипп. – Неужели ты предпочитаешь чтение войне!?
– В твоём славном роду все мужчины были царями и полководцами, – пояснил Аристотель. – А мои предки, тоже принадлежащие к древнему роду, занимались исцелением недугов и хворей. Каждый должен заниматься тем, к чему имеет наибольшие способности, таланты и возможности.
По прежнему удивленный Филипп присел рядом с Аристотелем, пристально глядя на него своими тёмными глазами.
– Ты хочешь сказать, что и в будущем не возьмёшь в руки оружия? – вкрадчиво спросил царевич, изогнув брови дугой.
– Если враг вторгнется в мою страну или нападёт на моё жилище, то я буду защищать родину свою, домашний очаг, жизнь собственную и моих родных до последней возможности! – без лишнего пафоса ответил сын Никомаха. – Воин из меня, конечно, никудышный, но я буду сражаться до тех пор, пока руки мои смогут держать оружие.
Филипп после этих слов посмотрел на собеседника совсем иным взглядом – полным уважения и одобрения. Юноши были ровесниками, однако македонский отрок был явно плотнее, мускулистее и шире в плечах. Аристотель выглядел несколько неуклюже и несуразно – слишком высокий рост, худое туловище, ещё более худые руки, ноги и длинная шея.
– Да, – досадливо крякнул Филипп, – воин из тебя пока, и вправду, никудышный. Но ничего, когда я вернусь из своего похода с победой, то обязательно научу тебя владеть мечом, скакать верхом и метко бросать копьё! Ведь ты хочешь стать настоящим воином?
Аристотель примирительно и несколько печально улыбнулся, признавшись:
– Как и все дети, я мечтал обрести славу легендарных воинов-героев – Геракла, Ахилла, Тесея, Гектора. Однако отец мой рассудил иначе. Мой род берёт своё начало от самого Асклепия – бога врачевания и исцеления. Конечно, он не может соперничать со славой твоего предка – Геракла. Однако в честь Асклепия по всей Элладе и даже за её пределами воздвигнуты десятки храмов.
– А как ты – знатный и потомственный эллин оказался в Македонии? – продолжал свой опрос Филипп. От внезапно нахлынувшего любопытства он на время позабыл о предстоящем вожделенном походе.
– На свет я появился в Стагире18 – полисе, что граничит с владениями Македонии на самом севере Халкидики, – принялся охотно объяснять Аристотель. – Прадед мой и дед занимались лекарским ремеслом в городах Халкидики и на острове Эвбея. Отца моего ко двору пригласил лично царь Аминта – твой отец.
– Я рад, что ты вместе со своей семьёй живешь во дворце, – хлопнул греческого юношу по плечу Филипп. – Сразу видно, что ты очень умён. Я хочу и впредь беседовать с тобой, чтобы набираться ума и мудрости, как завещал мне и братьям отец. Кроме того, я хотел бы продолжить изучение греческого языка.
– Мой отец отправляется в поход вместе с царём Александром, – сообщил Аристотель. – Если будет время и возможность, то можешь попрактиковаться в изучении греческого языка с ним.
– А кто же будет лечить моих родных и близких, что остаются в Пелле? – с тревогой спросил Филипп.
– Я и мой брат – Аримнест, – улыбнулся Аристотель. – Именно поэтому я поглощён изучением трактатов, посвященных науке врачевания, чтобы как можно больше пополнить свои знания в лекарском искусстве. Тебе предстоит доказать, что ты – настоящий воин и будущий царь, а мне необходимо полноценно заменить отца на время его отсутствия.
– Так, пусть же боги будут благосклонны к нам обоим! – торжественно произнёс Филипп. – Мне пусть они пошлют удачу на поле боя и победу, а тебе мудрости в искусстве врачевания!
III
В поход против Птолемея Алорита и его сторонников из Пеллы выступили в южном направлении 3000 человек – 2000 профессиональных воинов и ветеранов, а также 1000 ополченцев.
Регулярная армия Македонии в ту эпоху была невелика. Около 3000 воинов и разведчиков несли службу по охране рубежей царства, постоянно проживая в приграничных поселениях и заставах. До 2000 пехотинцев и всадников находились в столице Македонии и самых крупных её городах.
В случае объявления войны или похода, а также при нападении врага к регулярным частям присоединялись ветераны – воины, отслужившие положенный срок и вышедшие в отставку. Пополнялось македонское войско и за счёт ополченцев – вооружившихся крестьян, пастухов и горожан.
Наиболее подготовленными, экипированными, обученными и хорошо вооруженными были царские солдаты – личные телохранители, а также воины конной и пешей агемы. Царские воины в обязательном порядке имели бронзовые шлемы греческого образца, медные кирасы, защищавшие туловище, а также наручи и поножи для защиты конечностей.
Прочие македонские воины экипировались попроще. Вместо металлических шлемов многие из них носили специальные амортизирующие удары кожаные или войлочные колпаки, а вместо кирас – панцири из выдубленной и спрессованной кожи, обработанной солью.
Ветераны использовали то защитное снаряжение и экипировку, которое имелось у них в наличии после оставления службы. Практически совсем беззащитными на войну отправлялись ополченцы.
Поскольку полный комплект вооружения выдавался только воинам, нёсшим постоянную службу, то единственный шанс заполучить его предоставлялся на поле боя. Каждый воин имел определенную долю при дележе добычи. Причитавшуюся себе часть трофеев можно было вполне взять в виде захваченных у врага доспехов или оружия.
Каждый македонский воин – и пеший, и конный в обязательном порядке имел при себе два копья – основное и запасное, меч или махайру19, большой охотничий нож или кинжал, боевой топор, круглый щит средней величины.
Несмотря на то, что подавляющее большинство македонцев являлось отменными охотниками и стрелками из лука, на поле боя это оружие использовалось крайне редко. Македонцы считали зазорным метать во врага стрелы издалека, когда твои соратники и земляки рубятся с противником на дистанции ближнего боя.
И всё-таки цари македонские содержали в своём войске отдельный отряд стрелков-лучников. Своей меткой, быстрой и убойной стрельбой они причиняли врагу порой огромный урон ещё до столкновения основных сил.
Сразу столько воинов, собравшихся в одном месте, Филиппу ещё никогда не доводилось лично видеть в окрестностях Пеллы. Юному царевичу казалось, что у стен столицы и на её окраинах находятся десятки тысяч бойцов. От этой мысли ощущение собственной силы и значимости переполняло юношу.
Филипп буквально рвался в бой, ему казалось, что с такой непомерной силищей вполне возможно сокрушить не только подлеца Птолемея, но и завоевать всю Элладу. С таким войском, которое будет пополнятся по мере продвижения гарнизонами городов, отрядами ополченцев и ветеранов, Филиппу казалось, что возможно завоевать и саму Персию – самую могущественную державу Ойкумены20.
Увы, но все прежние наивные представления Филиппа об эпичности боевых походов и мечты о невероятных героических приключениях, связанных с войной, рассыпались и развеялись уже в первые дни марша.
Практически весь световой день армия Александра, ведомая опытными военачальниками, следопытами и проводниками, живым ручьём двигалась на юго-запад. Лишь после заката солнца отряды останавливались на ночлег. Едва неба касались пятна зари, как македонцы вновь трогались в путь.
Настоящий воин обязан был стойко, терпеливо и молча переносить все тяготы, неудобства и трудности марша. Филиппу постоянно хотелось есть, частенько его одолевала жажда. От длительной езды верхом болела спина и шея, затекали ноги и ягодицы, усталость болью и окаменелостью отзывалась в различных мышцах.
Несмотря на все эти и многие другие неудобства, Филипп не подавал вида, что ему трудно даётся этот первый в жизни дальний боевой поход. И уж тем более, он не говорил вслух о своём физическом состоянии. Лучше упасть от истощения сил или потерять сознание от голода и боли, чем высказать или выказать хотя бы намёк на трудности и невзгоды.
Для того, чтобы максимально обезопасить младшего брата на время перехода и в последующих столкновениях, Александр первоначально определил место Филиппа в конной агеме. Принадлежность к правящему роду Аргеадов позволяла юному сыну царя без жесточайшего отбора и многолетней выслуги стать бойцом самого элитного отряда македонской армии.
Однако Филипп попросил старшего брата перевести его в отряд царских пажей. В их число входили юноши из числа самых знатных македонских родов и кланов. Отроки начинали службу в качестве оруженосцев, постигая азы воинской службы под наставничеством опытных командиров. Проявив себя с положительной стороны и заслужив репутацию отважного воина, пажи продолжали службу уже в качестве младших офицеров.
Решение Филиппа не пользоваться своими привилегиями царского сына, а проходить службу наравне с прочими сверстниками, вызвало всеобщее одобрение и у Александра, и у его военачальников, а также у офицеров и простых воинов. Это обстоятельство придало Филиппу дополнительные силы и усилило его стремление добыть в первом же бою свой заветный кожаный пояс истинного македонского воина.
IV
До низовьев Галиакмона македонская армия добралась довольно быстро – всего за четыре дневных перехода. Дозорная и охранная служба в лагере Птолемея действительно была налажена из рук вон плохо. Авангард Александра находился в нескольких часах пути, а воинство Алорита вместе со своим предводителем даже не подозревали о близости грозного противника.
Столь поразительную и роковую беспечность Птолемея македонский царь и его старшие военачальники просто не имели права не использовать максимально эффективно. На военном совете было принято единодушное решение атаковать врага на рассвете.
Именно в предрассветные часы большинство даже самых стойких и сознательных караульных поддаются чарам Морфея – коварного и обольстительного бога сновидений. Именно накануне рассвета завершались обильные попойки, пиршества и гулянки в стане Алорита. Большинство участников этих хмельных пирушек погружались в глубочайший хмельной сон или отключались до завершения застолья.
Чтобы скрепить «узы воинского братства» и поднять «боевой дух» своих людей, Птолемей позволял пьянствовать не только военачальникам и офицерам, но и простым воинам. При таком подходе к делу на заре и без того низкая боеспособность воинства Алорита становилась равной нулю.
К величайшему огорчению Филиппа и разочарованию, граничившему с отчаянием, отряду пажей в предстоящей битве отвели второстепенную роль. Младшему сыну Аминты и его сотоварищам предстояло заслоном перекрыть одну из троп, ведущих в лагерь Птолемея на случай возможного прорыва или отступления вражеских войск.
– Как же тут отличиться и внести свой вклад в общую победу, когда тебя отсылают на самый дальний и спокойный участок сражения!? – возмущенно сетовал Филипп.
– На войне у каждого – и простого воина, и самого старшего стратега своё строго определенное место, – осуждающе напомнил Парменион. Перед началом похода царь именно ему доверил начальство над корпусом пажей. – Только боги знают, как сложится битва. Мы не только преграждаем путь вражеским беглецам, но и в случае неожиданности послужим резервом. Быть может, илу21 нашу бросят в критический момент в самую гущу боя!
– Не волнуйся, Филипп, нам ещё с избытком достанется и вражеских голов, и трофеев, и побед, и большой славы! – утешил царя Антипатр, что в боевом построении занимал место слева от царевича.
– Долг наш самым строжайшим образом выполнять приказы царя, его стратегов и наших командиров, – вставил своё слово Полиперхон – сын Симмия.
Поняв, что ждать сочувствия от своих товарищей, что уже заполучили кожаные пояса воинов, не приходится, Филипп спрятал свои негативные эмоции. Теперь всё его внимание было сосредоточено на том недоступном для визуального наблюдения месте, где разворачивались главные события.
Сражение оказалось скоротечным и весьма ожесточенным. Сразу с трёх доступных сторон македонские отряды обрушились на спящий лагерь Птолемея. Бойцов Алорита рубили, топтали, кололи, пронзали, поджигали. Едва ли не треть воинов Алорита так и не поняла, что произошло, приняв смерть во сне или хмельном забытье.
Пешие и конные македонцы легко перебили охрану лагеря, ворвавшись во вражеский стан через ворота, или перемахнув через редкий частокол и плетёные изгороди. Лишь самые смелые, опытные и отчаянные воины Птолемея сражались с яростью и мужеством обреченных. Подавляющее же большинство сторонников Алорита попыталось спастись бегством.
Полторы тысячи мятежников живой волной брызнули в разные стороны, надеясь в своём паническом бегстве спасти жизни. Беглецов этих истребляли ещё более нещадно и свирепо нежели тех, кто предпочёл умереть смертью настоящего воина, а не бегущего безоружного труса…
Когда первые лучи солнца осветили своим рыжеватым заревом отряд Филиппа, на тропе неожиданно появилась запыхавшаяся группа беглецов. В полной панике, растерянности и сильной усталости пребывали безоружные люди, в которых тотчас признали воинов Птолемея и боттиейских ополченцев.
– Смерть собаке Птолемею и мятежным псам его! – этот громогласный клич сам собой вырвался из горла Филиппа. – Смерть врагам Македонии!
– Смерть! Смерть! – отозвались на призыв Филиппа десятки его товарищей.
Парменион едва успел взмахом руки подать сигнал к атаке, как первые ряды илы, в которой находился Филипп бешено с грохотом, лязгом и дикими криками устремились вперёд. Бойцов Птолемея на тропе оказалось не более шести десятков, а налетевших на них македонских пажей было в три раза больше.
В завертевшейся круговерти короткой бойни Филипп, поражаясь собственной ловкости и расторопности, сумел поразить сразу двух врагов. Первого мятежника – худощавого и высокого он пронзил копьём с первого же удара. Филипп метил металлическим острием прямо в голову врагу, но наконечник копья вонзился ниже ключицы.
Худой мятежник громко вскрикнул и завалился набок, увлекая за собой копьё, застрявшее в жилистом теле смертельно раннего противника. Филипп уже намеревался соскочить с коня, чтобы вырвать из агонизирующего врага своё ударное оружие. Неожиданно оказавшийся рядом Антипатр протянул царевичу своё копьё.
– Сегодня я уже сразил им двоих предателей! Пусть оно и тебе принесёт удачу! – прокричал соратник сквозь шум стычки, извлекая из ножен меч.
Благодарно кивнув Антипатру, обрадованный Филипп пустил коня в галоп, огибая эпицентр побоища. Царевич зорким и цепким взором заметил, что двое беглецов практически достигли спасительного края хвойного леса. Словно на тренировке, Филипп прикинув расстояние и вес копья, метнул оружие Антипатра в одного из бегущих.
Со свистом копьё рассекло влажный утренний воздух, угодив с треком ломающихся костей прямо в позвоночник своей безоружной жертве. Нелепо взмахнув руками боттиейский воин рухнул в заросли травы с предсмертным стоном.
– Есть! Есть второй!!! – буквально взревел Филипп, теряя от восторга и упоения самообладание и всяческий контроль над своими зашкаливавшими эмоциями хищника-убийцы.
Филипп позволил вырваться наружу демонам войны и жесточайшим инстинктам охотника-убийцы, дремавшим в глубине тёмной половины его души. Свирепым взором оголодавшего хищника царевич осматривал поле встречного скоротечного сражения, выискивая для убиения очередную свою жертву.
Тяжёлый запах обильно пролитой вражьей крови пьянил разум Филиппа во сто крат сильнее самого крепкого вина, лишал человеческого рассудка, пробуждая всевозрастающее желание убивать врагов, топтать их копытами коня, сбивать с ног, пронзать остриём копья, рубить мечом, сшибать и опрокидывать…
Однако бой уже завершился полной победой македонской армии. Воинство Алорита было разгромлено и позорно обращено в паническое и хаотическое бегство. Единственное, что омрачало торжество подавляющего превосходства македонского оружия, это отсутствие в числе павших и пленных врагов Птолемея – главного зачинщика смуты.
Глава IV. Переменчивая фортуна войны.
I
Филипп расхаживал по македонскому лагерю, переполненный гордостью и безмерным счастьем. Пока он пребывал в состоянии эйфории, буквально раздувшись от важности и собственной значимости, Александр и его стратеги решали, как им поступить дальше.
Войско Птолемея было разгромлено и почти полностью истреблено. Смертельной расправы и позорного плена избежали не более двух сотен наиболее везучих, хитрых и самых быстрых воинов. К величайшему разочарованию и негодованию Александра в числе спасшихся бегством оказался и сам Алорит.
В самом начале сражения, повинуясь своему звериному чутью, он вскочил на быстрого и выносливого фессалийского рысака, направив его в ближайшие заросли. Птолемей скакал не по тропам или дорогам, надёжно перекрытым македонскими заслонами, а продирался сквозь чащобы и дебри. Эта тактика, навеянная инстинктами самосохранения, позволила Алориту спасти свою жизнь.
– Похороним наших воинов, разделим трофеи и накажем всех пособников Птолемея, – таким было предложение Архелая.
Концепция самого возрастного и авторитетного стратега пришлась по сердцу остальным военачальникам македонского правителя.
– Верно! Нужно разорить те поселения и города Боттиеи, что оказали помощь Птолемею, прислав ему припасы, лошадей и воинов! – загомонили военачальники Александра. – Предадим казни самых рьяных пособников Алорита, чтобы знать других провинций даже помышлять в будущем не смела восставать против своего царя!
Сразу после тризны, посвященной погребению павших македонцев (таковых оказалось менее сотни), и пира, устроенного в честь славной победы македонского оружия, войско Александра разделилось.
В Пеллу под охраной Пармениона отправился обоз с царской долей трофеев и добычи, а также три сотни раненых, что не могли продолжать поход и ведение боевых действий. После прибытия в столицу Пармениону предстояло возглавить собранные в Пеле отряды ополченцев, чтобы привести их в Боттиею.
Главные силы Александра направились вдоль по течению Галиакмона к его устью с целью проведения показательной и карательной акции против наиболее активных сторонников и соратников Птолемея. Заключительным аккордом похода по замыслу Александра станет полное разорение родных мест Алорита.
Однако этим далеко идущим планам македонского царя не суждено было воплотиться в реальность. Разведчики Симмия и тайные агенты царя принесли крайне неприятные вести. Неожиданно для всех спустя всего две недели после своего разгрома неутомимый и целёхонький Птолемей объявился в Фессалии.
Фессалия издревле считалась частью Эллады – её северо-восточным рубежом, ограждавшим греческую цивилизацию от варварских племён и народов, проживавших за левым берегом Галиакмона.
По преданию именно на фессалийской земле после всемирного потопа обосновался легендарный царь Эллин – внук божественного Прометея и родоначальник всех греков. Ещё Фессалия являлась родиной самого знаменитого греческого путешественника – Ясона, который вместе с прочими аргонавтами раздобыл золотое руно.
Кроме того, на самом севере Фессалии – недалеко от границы с македонской провинцией Элимия возвышался Олимп. На этой священной для каждого эллина горе обитали двенадцать самых главных греческих богов, самым старшим и влиятельным из которых почитался Зевс-Громовержец.
Фессалия по-праву считалась заповедным краем, в котором производят одни из самых лучших сортов крепких вин. Сами же фессалийцы слыли не только знатными виноделами, но и отменными коневодами, а также воинственными смельчаками.
Ещё в стародавнюю эпоху, когда великие герои Эллады – Геракл, Ясон, Тесей и Персей совершали свои легендарные подвиги, фессалийцы уже заслужили репутацию отважных и умелых воинов. Они в ходе жестоких и кровопролитных войн отвоевали себе жизненное пространство, вытеснив из Фессалии воинственных и непобедимых прежде кентавров.
В дальнейшем отряды фессалийских вождей приняли самое деятельное участие в эпической осаде Трои. Фессалийская конница заслужила на полях сражений Эллады репутацию самой лучшей и грозной кавалерии среди всех прочих полисов и государств античной Греции.
В Фессалии уже на протяжении нескольких веков не было царей. Фессалийскими городами и общинами управляли верховные вожди. Из их числа выбирался главный правитель и наместник всей Фессалии – таг. Со временем власть тага сильно ослабла и теперь сводилась к функции главнокомандующего на период войн и походов.
Гонимый Алорит отлично знал, что никто из фессалийских вождей не захочет оказать ему помощь, особенно после недавнего позорного разгрома. Фессалийцы уже давно отказались от набегов на южные провинции Македонии, ибо тамошние воины отличались свирепостью, мстительностью и непременно воздавали ворам и грабителям все долги с лихвой. После пары неудачных малых войн против Аргеадов вожди фессалийские и вовсе перестали совершать набеги на македонские владения.
И всё-таки был один влиятельный фессалийский правитель, который мог при определенных условиях помочь Птолемею. Этого вождя звали Александр, а правил он в городе Феры22, расположенном в северо-восточной части Фессалии. Греки, считавшие идеальной и единственно приемлемой формой правления демократию, относились к Александру как к тирану, поскольку тот полностью узурпировал власть в Ферах и соседних городах.
Совсем недавно Александр Ферский захватил бразды правления в Ферах, убив своего родного дядю – Ясона. В мечтах своих сокровенных, которые для наиболее проницательных эллинов не были большой тайной, Александр мнил себя тагом Фессалии. Главными его соперниками на пути к заветному титулу были вожди из рода Алевадов, издревле правившие в Лариссе – самом процветающем и большом городе Фессалии.
В прошлом году тиран Ферский неосмотрительно ограбил южные македонские владения, за что поплатился жёстким ответным выпадом. По приказу тогда ещё живого царя Аминты его старший сын – царевич Александр совершил рейд по землям, что принадлежали Ферам. Владения тирана были основательно разорены, а сам он укрылся за стенами Фер.
Александр Ферский мечтал о македонском реванше не меньше, чем о титуле тага Фессалии. Тиран поклялся сурово расквитаться со своим тёзкой – нынешним македонским монархом. Именно по этой причине Алорит и направился в Феры, видя в тамошнем правителе-узурпаторе свой последний шанс на спасение от неотвратимой жестокой кары, обещанной разгневанным до крайности царём Македонии.
II
– Для чего ты хочешь принять у себя этого неудачника Птолемея? – недоумевал Главр – один из главных советников ферского тирана. – Он не умеет сражаться, его преследуют, словно загнанного оленя, все его сторонники и союзники либо погибли, либо отвернулись от него!
Александр Ферский, как бывало с ним в минуты глубоких размышлений, медленно прохаживался по своим покоям, потирая свои внушительные кулаки. Он охотно выслушивал советы своих приближенных, советуясь с ними практически по всем вопросам, однако все решения принимал исключительно сам, руководствуясь собственными соображениями и расчётами.
– Алорит – злейший враг македонского царя Александра, – принялся рассуждать вслух тиран, – а, значит, может быть мне полезен…
– Чем же? – не унимался Главр.
Александр смерил своего приближенного укоряющим и одновременно снисходительным взглядом, после чего с пренебрежением пояснил:
– Птолемею позарез нужна военная помощь от меня. Ради спасения своей шкуры и сохранения хотя бы части прежнего своего авторитета и богатства он наверняка будет готов предложить мне в обмен на войско и поддержку любые земли.
– Какие земли может предложить беглец, потерявший всё, улепётывающий подобно зайцу от собачей своры? – только и развёл руками Главр.
– Алорит принадлежит к знатному роду вождей, что когда-то правили самостоятельно на юге нынешней Македонии, – продолжал рассуждать Александр, одновременно растолковывая свои намерения непонятливому советнику. – Самые лучшие из этих южных владений я и возьму в оплату своей военной помощи!
– Но эти земли предстоит ещё завоевать в открытой схватке с македонцами! В прошлую осень наше войско едва унесло ноги после стычки с ними, а потом орда македонская разорила наши северные рубежи!
Тиран тяжело вздохнул. Взор его сделался суровым.
– Тогда я действовал в одиночку и недооценил врага. Теперь всё будет иначе!
– Но какие выгоды ты обретёшь, заполучив южные провинции македонские!? – продолжал упорствовать Главр.
– Я получу возможность нанести удар Алевадам в спину, когда начнётся большая война за право обладания титулом тага, – глаза тирана блеснули ледяным холодом предательства и глобальных завоевательных планов. – Кроме того, я обложу македонцев данью, а также заставлю их служить в моём войске! Война нуждается в воинах, звонкой монете и припасах – всё это я буду выжимать без жалости из тех земель, что мне отдаст Алорит!
Главр понял, что переубеждать тирана не имеет смысла, а потому прекратил бесполезные прения. Скоро Птолемей Алорит предстал пред Александром Ферским, неожиданно для себя получивший возможность личной аудиенции.
Македонский беглец был удивлён несоответствием истинного внешнего облика тирана и тем мало приглядным образом, сложившимся из описаний Александра, передаваемом из уст в уста.
Правитель Фер был высоким и крепко сложенным зрелым мужем, чей внешний облик имел немало схожих черт с легендарными героями Эллады – Тесеем или Персеем. Атлетически развитый тиран считался ещё красавцем, будучи обладателем смуглой кожи, кучерявой пышной шевелюры, несколько смазливых и излишне женственных линий лица.
– Ты, верно, ожидал меня узреть в образе деспотичного старца – отвратного, безумного и уродливого? – усмехнулся Александр, легко догадавшись о том, какие мысли посетили его гостя. – Обо мне ходит масса самых нелепых россказней и клевещущих слухов! А между тем, я – обычный сын славной Греции, имеющий свои достоинства и свои недостатки, как и всякий прочий эллин. Меня, например, обвиняют в убийстве родного дяди, но я лишь свершил отмщение. Мой дядя – Ясон самым подлым образом убил моего отца – Полидора, законного правителя Фер. Я лишь свершил законное правосудие и воздаяние убийце по заслугам! Верно, и ты слыхал обо мне ужасные небылицы?
– Я никогда не занимался сбором слухов и сплетен – это недостойное занятие позволительно лишь глупым женщинам! – поспешно и не слишком убедительно отозвался Алорит.
Птолемей сказал неправду. Заняв влиятельное положение при македонском дворе, Алорит старался быть в курсе всех самых важных событий, в том числе и тех, что касались внешней политики. Беглый македонец довольно много слышал о злодеяниях Александра и его тёмных делишках.
Так, тиран не скрывал от своих поданных, что воздавал божественные почести копью, которым он лично пронзил тело предыдущего ферского правителя Ясона. Убив собственноручно родного дядю, Александр насильно взял в жёны его дочь – Фиву, свою кузину.
И хотя Фива слыла одной из самых красивых невест Фессалии, похотливый и беспринципный Александр пресытившись её молодым и невинным телом, быстро охладел к своей супруге. Всё чаще он отдавал предпочтение развратным юнцам, систематически растлевая несмышлёных и податливых к порокам отроков.
Алорит также слышал о том, что своих врагов и просто недоброжелателей ферский тиран живьём закапывал в землю, лично истязал, а затем медленно убивал, глядя жертве в глаза. Несмотря на проявление подобного рода звериного изуверства и вопиющей жестокости, Александр был страстным поклонником театра.
Суровый тиран несколько раз искренне рыдал, наблюдая за перипетиями трагедии «Троянки», рассказывавшей о несчастной судьбе троянских женщин, взятых в плен после падения легендарной Трои.
– Мне приятно иметь дело с настоящим и знатным мужем, – с оттенком жалостливого презрения произнёс тиран. – Оставим пересуды и пустую болтовню для низших и никчёмных существ, коими являются женщины. Перейдём сразу же к делу. Я знаю, что ты прибыл ко мне за помощью в твоей борьбе против македонского царя. Я готов оказать тебе такую помощь, но в обмен на сделку, которую мы заключим тотчас и оформим официально.
– Какие земли ты просишь за своё участие в войне против македонского войска? – оживлёно и с возрастающей радостью приступил к торгу ободренный Птолемей.
– Всю Пиерию! – грозно пробасил Александр.
– В обмен на две тысячи всадников и не менее пяти тысяч пеших воинов, – категорично заявил Алорит, на миг испугавшись своей бескомпромиссности и дерзкому тону. Опасения эти оказались напрасными.
– У нас будет куда больше воинов, чем ты просишь! – весело заверил своего союзника ферский тиран. – В три или даже четыре раза!
Птолемей недоверчиво и с опаской украдкой посмотрел на своего собеседника, удивлёно спросив:
– Откуда же ты вознамерился взять такие силы?
– Я поведу на войну с македонцами свои лучшие отряды, присовокупив к ним ополчение и наёмников, – раздулся от гордости и важности тиран. – А ещё привлеку к союзу фиванцев и афинян!
– Фиванцы уже много лет заняты изнурительной войной против Спарты, а Афины слишком далеко даже от Фессалии… – разочаровано протянул Алорит, посчитав обещания Александра пустой бравадой.
– И афиняне, и фиванцы гораздо ближе, чем ты думаешь! – с устрашающе-загадочным видом и скрытой угрозой в адрес своих многочисленных врагов произнёс тиран ферский. – Считай, что союз с Фивами и Афинами уже оформлен! Только не спрашивай что и как – это сугубо моё дело! А твоё – расписаться под документами, в которых ты уступаешь мне и моим законным наследникам с этого момента и навсегда все права на Пиерию.
Алорит без сомнений и каких-либо колебаний быстро-быстро закивал в знак полнейшего согласия на все условия и предложения своего столь могущественного и прозорливого союзника. Так в одночасье из гонимого и презираемого мятежного изгоя Птолемей превратился в грозного противника. Теперь за спиной Алорита стоял весьма амбициозный, влиятельный, могущественный и коварный покровитель.
III
Обещания Александра не были пустым бахвальством или несбыточными мечтами. Ещё за два месяца до неожиданного визита Птолемея ферский тиран вступил в тайные переговоры с Фивами – главным и самым сильным полисом Беотии23.
Беотийский союз, в состав которого входили города и полисы Беотии уже второе десятилетие подряд вёл изнурительную войну против могущественной Спарты. Во главе этого союза стояли фиванские архонты – беотархи. Чтобы окончательно переломить ход боевых действий в свою пользу фиванским предводителям были необходимы новые союзники – военные, политические и торговые.
Несмотря на свою деспотическую и тираническую репутацию Александр Ферский мог принести ощутимую выгоду Беотийскому союзу. Будучи одним из наиболее влиятельных фессалийских вождей, Александр мог на взаимовыгодных условиях снабжать Фивы зерном, виноградом, древесиной. Но главное – тиран мог без каких-либо затруднений предоставить для войны со спартанцами свою знаменитую кавалерию.
Александр рассчитывал в свою очередь за счёт военной помощи беотийцев призвать к покорности Алевадов – своих заклятых противников в борьбе за титул тага. Фессалийцы слыли воинственными воинами и превосходными кавалеристами. Однако ни один вождь фессалийский не мог похвастать наличием в своём войске тяжёлой профессиональной пехоты.
И уж совсем плохо обстояло дело у фессалийских предводителей и стратегов с осадой городов. Никто из вождей Фессалии не умел правильно и эффективно штурмовать крепости и цитадели, ни у кого из них не имелось осадных орудий и приспособлений.
Именно в обмен на знаменитых фиванских гоплитов – профессиональных и отборных тяжёлых пехотинцев и беотийских специалистов по осаде городов готов был Александр Ферский снабжать на льготных условиях Беотию зерном, скотом, вином и отрядами кавалерии.
С появлением Алорита перед тираном Фер замаячила превосходная перспектива не только сокрушить Алевадов, но и разжиться за счёт присоединения к своим владениям южных провинций Македонии. Именно на эти земли, что расточительно отдал Александру росчерком писчей палочки Птолемей, и падут все тяготы снабжения Беотийского союза. Таков был расчёт Александра Ферского в предстоящей большой военно-политической игре.
Между Беотийским союзом и Македонией никогда не было вражды или существенных разногласий в вопросах внешней политики. Повода для войны между этими государствами также не имелось. Однако затяжная война против Спарты наносила огромный ежегодный ущерб торговле, сельскому хозяйству и увеличению численности населения.
Требовалось как можно скорее победоносно завершить противостояние с непримиримыми спартанцами. Ради этой долгожданной победы беотийские архонты были готовы и поступиться вопросами добрососедства и чести в отношении Македонии. В конце концов, македонцы – это всего лишь горные и неотёсанные варвары, а фессалийцы, пусть и с оговорками, но всё же считались эллинами.
В тот момент, когда Алорит и Александр заключили союз, фиванское войско уже проделало три четверти пути от границ Беотии до западных границ владений ферского тирана. Но не только это обстоятельство грело душу фессалийского архонта.
Александр считал своим самым большим дипломатическим успехом не привлечение на свою сторону беотийцев, а союз с Афинами. Афинское государство находилось довольно далеко от владений ферского тирана, а афинские архонты презирали Александра Ферского. Но оба этих обстоятельства нисколько не смущали фессалийского тирана.
Александр был отлично осведомлён о том, что афинские властители несколько месяцев назад прислали по морю экспедиционный отряд для завоевания города Амфиполь24. Осада этой бывшей афинской колонии, обретшей независимость от метрополии в ходе длительного вооруженного противостояния, затягивалась.
Руководил афинским войском стратег Ификрат – один из самых известных, опытных и прославленных военачальников своей эпохи. В послужном списке Ификрата значились громкие победы над спартанцами, фиванцами, персами, египтянами и фракийскими племенами25.
Сколь был Ификрат удачлив на полях сражений, столь же он был неразборчив и непостоянен в своих политических пристрастиях. За свою бурную и насыщенную полководческую карьеру Ификрат успел послужить верой и правдой не только Афинам, но и фракийскому царю Севту II, а также влиятельному персидскому наместнику Фарнабазу.
Для завоевания Амфиполя извечно скупые афинские архонты выделили явно недостаточно сил и средств. Осажденный город располагался близ устья реки Стримон, впадавшего в воды Эгейского моря. Амфиполь был хорошо укреплён и защищён заболоченной излученной реки сразу с трёх сторон. Лишь с восточного направления был возможен полноценный штурм.
У Ификрата не имелось достаточного числа опытных воинов, инженеров-механиков, а также осадных орудий и приспособлений. Большую часть афинского войска составляли наёмники, набранные в различных уголках Эллады за самую низкую плату. Соответственно боевые и морально-волевые качества таких наймитов были изначально крайне низкими, а понятие воинской дисциплины им и вовсе было незнакомо.
Плотников, обозной прислуги и рабов было слишком мало у Ификрата, а наёмники не желали без дополнительной оплаты валить лес, рыть землю и монтировать осадные машины. Осада Амфиполя затягивалась, поскольку фортификационные работы продвигались черепашьими темпами. Шансов взять измором Амфиполь было ничтожно мало, поскольку жители заранее запаслись провиантом и фуражом.
Александр Ферский был прекрасно осведомлён о трудностях Ификрата. Тиран сделал предложение афинскому стратегу выгодную сделку, от которой тот не смог отказаться. Александр сообщил Ификрату о том, что македонская армия находится вдали от своих восточных границ, а, значит, её восточные провинции практически не охраняются.
Ферский тиран предоставил в распоряжение афинского полководца лучших своих проводников и знатоков местности. Им предстояло показать наёмникам Ификрата самые надёжные, короткие и потайные пути, что вели прямиком к македонским поселениям.
Александр безвозмездно помогал Ификрату в грабеже восточных пограничных земель Македонии по одной единственной причине. Удар афинян в спину должен был непременно если не деморализовать македонского царя, то выбить его из колеи. Нападение наёмников Ификрата создавало впечатление отлаженного тройного союза, в котором фессалийцы, афиняне и беотийцы действовали сообща.
Как истинный военачальник Ификрат не слишком вдавался в истинные мотивы, которыми руководствовался ферский тиран в своей «благотворительности». Афинскому стратегу выпал превосходный шанс за счёт практически безопасного и ненаказуемого грабежа пополнить свою казну, а также заплатить привередливым и строптивым наёмникам за использование их на строительных и земляных работах.
– Передайте архонту Александру, что я согласен на его условия, – после непродолжительных раздумий объявил своё решение ферским послам Ификрат. – Я атакую владения македонские в указанное время и в условленном месте. Но пусть Александр помнит, что если он вздумает обмануть меня, то я вместо Амфиполя возьму штурмом Феры!
Глава V. Время принятия трудных решений.
I
Крайне неприятные вести со всех сторон приносили гонцы в походный стан македонского войска или сообщали их царю прямо во время марша. Сначала Александру донесли, что Алорит нашёл прибежище в Ферах, а затем стало известно, что тамошний тиран заключил союз с Птолемеем.
В который раз македонский царь долго не мог подавить в себе ярость, злобу и клокочущее негодование. Пользуясь покровительством злых богов и тёмных сил, Птолемей вновь и вновь обретал силы для противостояния с родом Аргеадов.
– Как поспел приютить у себя презренного Алорита этот Александрос Ферский!? – раздражаясь, вопрошал своих соратников македонский царь. Он намерено с оттенком презрения называл своего тёзку Александросом на греческий манер. – Мой отец заключил вечный союз с фессалийским тагом Ясоном и много лет неукоснительно соблюдал все его условия!
– Прошлой весной Александрос прямо во время священного праздника вероломно убил своего дядю Ясона руками семи юношей из самых знатных фессалийских родов, – печально усмехнулся Архелай. – Место Ясона заняли его сыновья – Полидор и Полифрон. Вскоре Полидор внезапно умер, будучи полным сил и здоровья. Полифрон правил Фессалией лишь десять месяцев, после чего Александрос умертвил и его.
– Презренный пёс! – негодующе поморщился Александр. – Теперь понятно, почему этот ферский тиран так быстро и легко снюхался с Птолемеем! Эти две гиены – одной крови и питаются одной и той же мертвечиной!
– Александрос метит на место тага, – рассуждал Архелай, задумчиво теребя бороду. – Ему нужны успешные войны и походы для завоевания у фессалийской знати авторитета. Вот почему он взялся помогать Птолемею, надеясь отхватить от Македонии увесистый кусок земель Пиерии.
– Тирана Фер следует хорошенько проучить и поставить на место! – гневно сжал кулаки Александр. – Он уже однажды посягал на македонские владения и получил жестокий поучительный урок! Пора наказать его основательно!
– Одно дело подавить мятеж Птолемея, совсем другое – начать войну против могущественной Фессалии, – покачал головой Архелай.
– Александрос – пока ещё не таг фессалийский, – категорично заявил македонский царь. – Ему подчиняются Феры с прилежащими к полису землями, да ещё пара городков, расположенных у границы и в Темпейской долине26. Захватим несколько поселений и потребуем выдать нам Птолемея, заодно заключим новый союз с этим Александросом на выгодных для нас условиях!
– А ведь у нас есть повод для большой войны и без требования выдачи Птолемея, – с хитрой усмешкой заявил Аррабей – один из самых молодых, но весьма опытных царских советников и соратников. Уловив на себе удивленные взоры соратников, Аррабей с важностью пояснил: – Жестокость Александроса по отношению ко многим городам и провинциям фессалийским уже дважды вынудила местную знать, возглавляемую родом Алевадов, искать защиты у почившего царя Аминты.
– Кто такие Алевады? – спросил царь.
– Это самые влиятельные верховные вожди северной части Фессалии, что граничит с Македонией. – Аррабей ещё больше раздулся от переполнявшего его чувства собственной осведомленности, важности и значимости, – Алевадам принадлежит верховная власть в городе Ларисса и близлежащих землях. Дважды этот фессалийский клан просил военной помощи у Аминты, и он, безусловно, помог бы Алевадам в борьбе с ферским тираном, если бы не умер столь загадочно и внезапно…
– Решено! – Александр вскочил с места, в привычной манере нервно раздавая на ходу распоряжения: – Выступаем прямиком к Лариссе! Пусть опытные лазутчики и разведчики определят нынешнее местоположение Александроса Ферского и его войска, а также установят связь с Алевадами. Совместным ударом с фессалийской знатью мы непременно сокрушим ферского тирана и изловим Птолемея!
Окончательное решение Александра относительно вторжения в северо-восточные владения Фессалии вызвало целый шквал самых радостных эмоций и надежд у Филиппа. Одно дело сражаться против мятежников. Они хоть и оказались врагами царской власти и рода Аргеадов, но всё же по происхождению своему являлись македонцами.
Воевать против фессалийцев – фактически эллинов, по глубочайшему убеждению Филиппа, было куда престижнее и почётнее. Фессалийцы считали себя носителями греческой крови и культуры, однако сами эллины всегда дистанцировались от своих северных соседей.
Филипп не был столь чванлив и заносчив как истинные сыны Эллады, а потому считал фессалийцев греками. Именно объединенные греческие силы восемьдесят лет назад одержали самую важную, легендарную и эпическую победу над Персидской империей – самой великой и сильнейшей державой Ойкумены.
Однако скрестить свой меч с носителями славных боевых греческих традиций Филиппу так и не удалось. Пажескую илу в столкновениях с фессалийскими заставами и заслонами не использовали, придерживая её во втором эшелоне.
Не довелось вступить в настоящий бой Филиппу и во время захвата двух крупных фессалийских городов – Кранона и Лариссы. Впрочем, жители Лариссы сами впустили в город практически без боя македонское войско. Дело в том, что власть в Лариссе издревле принадлежала аристократическому роду Алевадов, ныне враждовавшему с Александром Ферским.
После продвижения македонского войска вглубь владений тирана Фер, а также захвата Кранона и Лариссы царь Александр надеялся, что его противник станет более сговорчивым и покладистым. Но, как и в предыдущих случаях с Алоритом, импульсивный и прямолинейный Александр просчитался.
Сразу две обескураживающие вести получил македонский царь прямо во время проведения военного совета, на котором обсуждался план предстоящего похода на Феры. Выяснилось, что с западного направления усиленным маршем на выручку ферского тирана спешат войска беотийского союза.
Кроме того, из Мигдонии27 – самой дальней восточной македонской провинции пришло известие о вероломном вторжении афинских наёмников, пришедших из-за восточного берега Стримона.
Когда поулеглись гнев и ярость, всколыхнувшие Александра до самой глубины его возмущенной души, он с горечью обратился к младшему брату:
– Вот, Филипп, запомни этот день! Никогда не доверяй подлым и коварным грекам! Ни фессалийцам, ни фиванцам, ни афинянам – никому из них не доверяй и ни верь одному их слову или поступку! Греческие тираны, архонты и стратеги – все они почитают нас – македонцев варварами, а потому поступают в отношении нас самым скотским и вероломным образом!
– Наступит день, и мы обязательно воздадим всем предателям и врагам нашим троекратно! – неожиданно для себя изрёк клятвенную тираду Филипп.
Александр с глубочайшей тоской качнул головой, столь же безысходно положив младшему брату руку на плечо. На глазах царя блеснули злые росинки слёз.
– Теперь, когда коварные и могущественные враги со всех сторон окружили нас на чужой земле, этот день возмездия откладывается на месяцы или годы!…
II
Военный совет, собранный Александром для определения дальнейшей тактики ведения боевых действий против ферского тирана, проходил в гнетущей тишине. Лица присутствовавших стратегов и монарха были до крайности суровыми и мрачными.
– Положение наше крайне тяжёлое, если не сказать безвыходное, – с констатации столь печального факта начал военный совет Архелай, поскольку царь пребывал в мрачной молчаливости и задумчивости. – Фессалийские войска блокировали Кранон и Лариссу, а также все дороги к ним ведущие. Хуже того, Александрос Ферский надёжно заблокировал нам все возможные пути к отступлению, в том числе главную дорогу, ведущую в Пиерию через Темпейское ущелье.
– Разве войско моё не в состоянии проложить себе путь на родину? – злобно проворчал царь Македонии.
– Попытаемся атаковать фессалийцев в лоб, сразу получим удар в спину от беотийцев, – подробно пояснил Архелай.
– А если сначала ударить по беотийцам? – несколько оживился Александр.
– Войско фиванское возглавляет стратег Пелопид – один из самых опытных военачальников Беотии, – отрицательно качая головой, произнёс Симмий. – Пелопид этот ещё ни разу не терпел неудач на поле боя, даже будучи в заведомом численном меньшинстве. Два года назад Пелопид и его соратник Эпаминонд у себя на родине сокрушили десятитысячную армию могучей Спарты, дотоле считавшейся непобедимой на суше28…
– Дело даже в не этом Пелопиде, – подхватил Архелай. – Как только мы схватимся с фиванцами, тотчас фессалийцы ударят нам в спину. Войско беотийское уступает нам по числу пехоты и конницы, но зато превосходит по количеству гоплитов. Так греки называют своих профессиональных бойцов-фалангистов. Фессалийские силы уже превышают наши, а всё новые отряды наёмников и ополченцев идут и идут в Феры. Кроме того, в Мигдонии по-прежнему грабежами промышляют афинские наёмники…
– А наши подкрепления где? – вновь помрачнел царь.
– Парменион сообщает, что все пути через границу фессалийскую надёжно перекрыты, – печально вздохнул Симмий. – Попытка прорыва к нам обойдётся потерей едва ли не половины его наличных сил – и это в лучшем случае…
– Сражаться сразу против двух опасных и сильных врагов мы не в состоянии, – Архелай начал осторожно подводить монарха к итоговому положению текущих дел, – Разбить их поодиночке мы не успеем. Оставаться в Ларисе мы сможем безопасно лишь пару недель, а дальше начнётся голод…
– Иными словами, вы хотите сказать, что выбора у нас нет!? – окинул своих военачальников злобным взглядом Александр.
– Да, царь, – твёрдым голосом объявил Архелай, – нужно заключать мир и с Александросом, и с его могущественными союзниками – беотийцами.
По взаимной договоренности предварительная встреча в рамках мирных переговоров состоялась на одном из холмов близ Ларисы. В заранее поставленном шатре были заготовлены три скамьи и общий стол. На встречу каждый из участников обязался явиться без свиты и телохранителей. Разрешалось лишь взять с собой переводчика.
Ферский тиран вполне сносно владел македонским языком, а потому прибыл на переговоры один. Первоначально он хотел взять с собой и Птолемея, поскольку речь непременно коснётся и его судьбы. Однако вспыльчивый македонский царь непременно захочет убить Алорита, и тогда переговоры сорвутся, а затягивание войны грозило Фессалии большими убытками.
Поскольку Александр Ферский понимал македонское наречие и мог на нём свободно изъясняться, то Пелопид решил отказаться от услуг собственного переводчика, понадеявшись на лингвистические способности и дарования своего союзника.
Александр не владел ни греческим языком, ни фессалийским диалектом. Зато их знал и хорошо понимал Филипп. Именно его в качестве личного переводчика и взял с собой на предстоящую встречу македонский царь. Принадлежность Филиппа к царскому роду как нельзя лучше соответствовала формату и степени важности предстоящих переговоров.
Таким образом, в условленный час шатре, установленном на нейтральной территории собрались четверо – македонский царь Александр и его младший брат Филипп, а также фиванский стратег Пелопид и ферский тиран.
Македонские, фессалийские и фиванские телохранители на заранее оговоренном расстоянии друг от друга замерли в полной готовности прийти на помощь своим господам по первому же зову или в случае малейшей опасности.
Один лишь Филипп пребывал в радостном и приподнятом расположении духа. Впервые ему предстояло стать непосредственным участником важнейшего военно-политического мероприятия, от исходов которого зависела дальнейшая судьба всей военной кампании.
III
Перед тем, как непосредственно приступить к переговорам, все их участники обменялись между собой многозначительными взглядами. Александр смерил тирана Фер презрительным взглядом, давая понять, что в будущем обязательно с ним рассчитается за своё нынешнее затруднительное положение.
Пелопид впервые столь близко видел македонцев, поэтому во взгляде его не было и намёка на неприязнь или агрессию. Фиванский полководец рассматривал царя Македонии и его младшего брата с профессиональной позиции. Так воины или участники Олимпийских игр оценивают способности и возможности своих соперников.
Александр Ферский внимательно осматривал македонцев исключительно на предмет возможного наличия у них оружия, припрятанного где-нибудь в складках одежды или за доспехами. Тиран опасался покушения на свою жизнь потому, что сам прибегал неоднократно к подлому убийству и соратников, и соперников, и партнёров по переговорам.
Филипп лишь мельком глянул на Александра Ферского. В облике фессалийского тирана не было ничего примечательного. Он запросто мог внешностью своей сойти и за македонца, и за чистокровного эллина. Однако было в его облике что-то отталкивающее и неприятно-настороженное.
Гораздо больше Филиппа заинтересовал Пелопид. Вся внешность его и могучее телосложение, а также идеальный греческий профиль сразу же выдавали в нём настоящего эллина, воина и полководца. Боевые отметины и шрамы на лице и руках фиванца служили тому подтверждением.
– На правах хозяина земель фессалийских я оглашу условия, на которых уже сегодня мы можем завершить войну, – гордо вскинув подбородок, первым заговорил ферский тиран.
– Внимательно слушаю тебя, – сквозь зубы процедил македонский царь, когда Филипп слово в слово перевёл ему фразу, сказанную противником.
– Войско македонское без промедления покинет Фессалию через Темпейское ущелье, – вальяжно раскинувшись на скамье, начал перечислять свои требования Александр Ферский: – По пути домой ни один македонец не войдёт в фессалийское поселение и никого не ограбит. Царь македонский даст клятву в том, что, покидая Лариссу и Кранон, он не подожжёт эти города и не разрушит в них ни одного строения или укрепления.
– Согласен, – угрюмо ответил македонский монарх, когда Филипп закончил свой перевод.
– Я и не сомневался! – язвительно усмехнулся тиран. – Поскольку войну между нашими державами развязал царь Александр, то справедливо будет на него возложить оплату услуг войска благородного и славного Пелопида. Я вынужден был для защиты своих наследных владений призвать к себе воинов из Беотии, и в том не моя вина.
– Если бы ты выдал мне Птолемея сразу, а люди твои грабежам и воровством скота не нарушали договор о вечном союзе между Фессалией и Македонией, то не пришлось бы нам воевать! – огрызнулся царь Александр.
– Вечный союз заключал мой дядя Ясон, я же не продлял его и не приносил клятвы соблюдать условия этого договора, – развёл руками тиран, изображая из себя жертву обстоятельств. – Птолемей находится у меня в качестве гостя, а древние обычаи гостеприимства строжайше запрещают Алорита лишать свободы и передавать его чужеземцам.
– В словах тага фессалийского Александра истинная правда, – поддержал своего союзника Пелопид.
– Если у царя Александра нет нужной суммы денег, то расплатиться с беотийцами можно за счёт трофеев. Кстати, часть их весомая добыта в моих владениях, но я не стану заострять на этом печальном факте наше внимание, – гадливо усмехнулся тиран, ощутив солидную поддержку фиванского военачальника.
– Хорошо, – с трудом выдавил из себя македонский монарх, – я согласен оплатить услуги беотийских воинов, пусть уважаемый Пелопид озвучит сумму. Часть её, если не хватит наличного серебра, я уплачу за счёт трофеев и добычи, честно взятой на поле боя! – последнюю фразу царь подчеркнул особо, а закончил свою речь настойчивым требованием, – Птолемея всё равно я увезу с собой в Македонию, хочет того таг или нет!
– Алорит покинул мои владения ещё три дня тому назад, – без колебаний и заметного притворства соврал ферский тиран. – Он отправился куда-то на юг…
– Это даже к лучшему, что виновник раздора между Македонией и Фессалией удалился прочь из этих земель, – примирительно улыбнулся Пелопид, приняв ложь тирана за правду. – Ну, а теперь в завершении нашей встречи сразу оговорим главное условие заключение мира. Обе стороны – и царь македонский, и таг фессалийский в знак доброй воли и строго соблюдения будущего мира отошлют в Фивы по тридцать заложников из числа знатных семей…
– Почему именно в Фивы? – нервно перебил беотийского стратега македонский правитель.
– Потому что Фивы будут гарантом строго соблюдения всех условий мирного договора обеими сторонами, – пояснил Пелопид. – Именно в Фивах и будут находиться на правах почётных гостей заложники из числа фессалийцев и македонцев.
– Хорошо, – ещё раз пересилил себя царь Александр. – Я пришлю тридцать заложников в установленный срок… Но передай Птолемею, что я всё равно изловлю его и порублю на кусочки!
IV
С древних времён заложниками – гарантами исполнения и строго соблюдения достигнутых договоренностей становились юноши и молодые люди старше пятнадцати лет и не достигшие тридцати. Чтобы заложники имели ценность и значимость их набирали из представителей знатных родов.
Тут, в окрестностях Лариссы, да ещё в условиях войны заложники, соответствующие необходимым требованиям, могли отыскаться только среди пажеской илы. Каждый из пажей с пониманием отнёсся к предстоящей процедуре определения тридцати необходимых кандидатур.
Выбор тридцати требуемых заложников доверили жребию. Из числа добытых трофеев взяли сто восемьдесят оболов – мелких медных разменных греческих монет одинаковых по внешнему виду, форме и весу. Ровно три десятка оболов пометили крестом, а затем как следует перемешали с прочими монетами.
Все оболы, используемые для жребия, поместили в трофейный фессалийский шлем. Каждому из пажей предстояло тянуть жребий в том порядке и последовательности, в какой юный воин занимал место в иле, развёрнутой в боевом порядке.
Ещё накануне этой процедуры Филипп объявил царю, что примет участие в жеребьёвке на общих основаниях. Александр попытался отговорить младшего брата от столь серьёзного по своим последствиям шага.
– Ты носитель царской крови и представитель рода Аргеадов, а потому не обязан тянуть жребий! – увещевал Александр.
– Нет, я не изменю своё решение, – упрямо заявил Филипп, качая головой. – Весь нынешний поход против Птолемея и всю войну против фессалийцев я бок о бок сражался со своими товарищами, разделяя с ними трудности и удачу. И теперь я не воспользуюсь своим положением младшего брата царя македонского, чтобы избежать новой опасности!
– Твоё решение – есть зрелый и благородный шаг настоящего воина и сына покойного Аминты! – в восхищении похлопал юношу по плечу Архелай. – О твоём мужественном решении и благородном поступке скоро узнают все в Македонии!
В пажеской иле Филипп занимал место в первых рядах, а потому тянул жребий в числе первой полусотни. Прежде никогда царевич не задумывался о собственном везении и благоволении к своей персоне Фортуны – богини удачи. Теперь же, когда Филипп вытянул помеченную монету, ему в пору было поразмыслить на вопросами личной удачи и везения.
– Я могу силой своей царской власти отменить результаты жребия, – предложил Александр. – Я отправлю тебя в Македонию под предлогом болезни, или скажу, что ты упал с лошади и повредил спину…
– Нет, брат, – Александр обнял царя в знак признательности за его заботы и переживания, – я не прибегну к знатности своего царского рода и тем более не стану притворяться больным. Я с честью и достоинством, присущей роду Аргеадов, приму выпавший мне жребий.
– Иного ответа я и не ожидал от тебя, – печально улыбнулся Александр. – Раз так распорядились боги, значит, придётся тебе отправляться в Фивы… Но, клянусь древними богами македонскими, что вызволю тебя при первой же возможности! Сейчас начинается осень, а уже следующей весной ты обязательно возвратишься на родину!
– Я не подведу тебя, царь! – торжественно пообещал Филипп. – Я не запятнаю чести нашей родовой и не опозорю своё царское достоинство низкими поступками и постыдными делами! Надлежащим образом я перенесу все невзгоды и тяжести, уготованной мне доли заложника! Тебе же хочу дать совет: остерегайся Птолемея! Своим нынешним бедственным положением мы обязаны его коварству и изощренной хитрости.
Следующим утром тридцать македонских юношей во главе с царевичем Филиппом в назначенный час явились в лагерь фиванцев. Пелопид лично вышел навстречу прибывшим. Беотийского стратега весьма изумил тот факт, что в числе заложников оказался юный Филипп, с которым он познакомился во время переговоров.
– Признаюсь, я удивлён тому обстоятельству, что царь Александр включил в число заложников своего брата, – вполне миролюбиво и дружелюбно произнёс Пелопид.
– Все македонцы, стоящие тут, попали число избранных по воле богов, определивших исход жребия, – на греческом языке пояснил Филипп. – Я и двадцать девять моих соратников готовы следовать в Фивы. Оружия при нас, кроме кинжалов, нет. На повозке сундуки с оговоренной суммой для платы тебе и твоим воинам. Македонский царь и его войско оставили Лариссу, выступив к Темпейскому ущелью. Мой брат Александр полностью исполнил своё обещание, у армии беотийской более нет причин оставаться в Фессалии.
Глава VI. Коварство, предательство и жажда отмщения.
I
Отряды Пелопида и царя Александра, согласно договоренности, выступили из фессалийских земель практически одновременно ранним утром. Македонское войско направилось на северо-восток – к границам Пиерии, а беотийские контингенты и тридцать македонских заложников двинулись на юго-запад. Пелопиду, его воинам, а также Филиппу и его соотечественникам предстоял долгий путь в Фивы.
Очень скоро маршевые колонны, направлявшиеся в противоположные стороны, потеряли друг друга из вида. Настроение, царившее среди возвращающихся из дальнего боевого похода, также разительно контрастировало. Беотийцы сразу взяли максимально возможный темп движения, распевая победные гимны и хвалебные оды богам.
Вытянувшиеся в длинную вереницу македонские подразделения шагали в полной тишине, сохраняя суровое и гнетущее молчание. Бывалые воины, царские телохранители и простые ополченцы – все пребывали в мрачной задумчивости и угнетенном расположении духа. На полях сражений доблестные и горделивые македонцы не были побеждены, но итог войны для них оказался плачевным и до боли обидным.
Условия мирного договора, заключенного при посредничестве фиванской стороны, слишком походили на поражение. Птолемей Алорит, что нанёс роду Аргеадов тягчайшее оскорбление, не только избежал расправы, но и приобрёл влиятельных покровителей.
Знать южных провинций Македонии бурлила и кипела от негодования по поводу того, что их земли подверглись разорению во время кампании против Птолемея. Теперь же, когда Алорит отдал ферскому тирану Пиерию в качестве оплаты за военную помощь, знатные южане и вовсе были готовы взяться а оружие.
Подобное недовольство, вызванное понесенными убытками и негативными чувствами попранного достоинства, высказывали и жители Мигдонии, подвергшиеся грабежам и разбоям со стороны афинских наёмников. С дальних северных рубежей следопыты и стражники границ доносили, что активизировались давние недруги Македонии – пеонийские и иллирийские племена.
– Не отчаивайся, Александр! – обратился к монарху Архелай на полпути, прервав томительное и тягучее молчание, царившее среди царских приближенных. – Македония знавала времена и намного хуже! Это хорошо, что мы в трудную минуту оказались вне пределов царства нашего, избежав поспешных и необдуманных решений. Сейчас есть время всё тщательно взвесить и обдумать.
– А что тут думать! – недовольно буркнул царь. – Я обязательно рассчитаюсь со всеми своими врагами, обидчиками и предателями! Пусть на это уйдёт много времени и жизнь моя!
– Лишь об одном прошу тебя, Александр! – буквально взмолился Архелай: – Не бросайся сразу на всех обидчиков! Любая ошибка или неожиданность могу ещё больше усугубить наше шаткое нынешнее положение! Нужно усилить наши порубежные гарнизоны на севере и взять под контроль крупные поселения на юге. Возмести убытки самым знатным и спесивым кланам Мигдонии. Всё это необходимо сделать без промедления, чтобы не допустить мятежа и распада царства Македонского!
Царь долго и пристально глядел вперёд, сохраняя молчание, затем он устало прикрыл глаза и глухо заговорил:
– Я прислушаюсь к советам твоим, мой верный друг и соратник. Но не проси меня забыть о возмездии в отношении Алорита! Эту собаку я ни на миг не перестану искать, чтобы изловить и предать самой лютой казни!
– Вот тут я с тобой полностью согласен, царь! – повеселел Архелай. – Чем раньше мы изловим и прикончим пса Алорита, тем меньше он совершит гадостей и новых подлостей!
Главный стратег и царский советник испытал огромное облегчение, когда Александр согласился с последовать предложенной тактике постепенного возмездия. Но оставался не решенным ещё один важный и щекотливый вопрос – как поступить со вдовствующей царицей.
Эвридика принадлежала к самому знатному и влиятельному македонскому роду Линкестидов. Для большинства простых македонцев она являлась уважаемой вдовой царя, почитавшегося справедливым и авторитетным правителем. Лишь избранный круг посвященных знал о преступной и постыдной связи Эвридики со своим зятем – государственным преступником.
Огласить во всеуслышание скандальные и порочащие подробности отношений царицы и Алорита, значит, бросить тень на род Аргеадов и несмываемое пятно позора. Оставить всё, как есть невозможно, ибо Птолемей не только разделял ложе с царицей, но и домогался самого царства Македонского.
На удивление Архелая, что решился-таки заговорить с монархом на столь деликатную тему, Александр отреагировал на его слова с завидным спокойствием и пониманием.
– Мать мою содержать под постоянным надзором. Определить к ней в услужение самых надёжных и проверенных служанок. Обо всех её встречах, замыслах и посланиях сообщать мне постоянно! Вполне возможно, что Алорит попытается встретиться с ней или вступить в переписку. Всякого, ко задумает матери моей оказывать помощь в тёмных делишках и злоумышлениях, предам лютой смерти вне зависимости от рода и звания!
Уже въезжая в главные ворота Пеллы, царь с клятвенно-свирепым выражением лица торжественно произнёс во всеуслышание:
– Никогда этот город – краса и гордость моих предков – Аргеадов не распахнёт ворота перед паршивой собакой Алоритом! А тиран ферский, что вонзил мне кинжал в спину, подобно ночному вору в подворотне, ещё примет от меня достойное возмездие!
Тирада эта вызвала бурю восторга среди телохранителей Александра и рядом находившихся македонских воинов. Один лишь Архелай с тягостной обреченностью покачал своей головой, что начинала повсеместно покрываться сединой снежного оттенка. Горячий монарх так и не отказался от опасной идеи скорой мести своим главным обидчикам…
II
Заключив мать под строгий домашний арест, Александр слишком самонадеянно и опрометчиво решил, что Эвридика оказалась под надёжным и постоянным надзором, лишившись своего прежнего царственного положения и влияния.
Очень быстро опальная вдовствующая опальная царица установила тайную и постоянную связь со своим любовником. Посредником этого крамольного общения стал Аполлофан – младший офицер из числа личной стражи царя. Александр всецело доверял Аполлофану, назначив его ответственным за содержание матери под строгим надзором.
Почему Аполлофан пошёл на предательство своего монарха и перешёл на сторону Эвридики? Это случилось, главным образом, по двум причинам. Во-первых, Аполлофан был родом из Линкестиды, а потому, будучи образцовым офицером царской гвардии, в душе своей постоянно пестовал и лелеял мечту отмщения Аргеадам за порабощение своей родины.
Второй и главной причиной измены стали деньги и щедрые посулы, раздаваемые Эвридикой и Алоритом. Заточенная под стражу царица не скупилась на оплату посреднических услуг Аполлофана, охотно обещая ему в самом ближайшем будущем должность главного стратега македонской армии.
Будучи ответственным за содержание царицы под арестом, Аполлофан мог без каких-либо препятствий и подозрений общаться наедине с Эвридикой. Он также мог без опаски передавать арестантке послания от Птолемея Алорита.
– Этот порошок необходимо подмешать в еду моей дочери, – такими словами начала очередную тайную встречу царица, украдкой вложив в ладонь Аполлофана небольшой, но довольно увесистый мешочек.
– Ты хочешь отравить собственное дитя!? – оторопело прошептал Аполлофан, пристально и испытующе заглядывая в глаза своей собеседнице.
– Да, именно этого я и хочу! – прошипела Эвридика, совершено спокойно выдерживая колючий и буравящий взор своего надзирателя. – Своим нынешним унизительным положением во многом я обязана Эвриное! Эта поганка сначала натравила на меня мужа, а потом и Александра! Так, пусть она скорее умрёт, за всё то зло, что причинила мне!
– Смерть Эвринои должна выглядеть естественно, иначе излишне горячий и скорый на расправу Александр захочет непременно докопаться до истинных причин. В таком случае нам очень сильно не поздоровится, – покачал головой Аполлофан, вернув обратно мешочек с отравой царице.
– Этот яд не имеет вкуса и запаха, – презрительно возмутилась дерзким шёпотом Эвридика. – Достаточно одной щепотки и моя презренная доченька никогда не проснётся! Твои опасения и страхи напрасны!
– Я говорю не о страхе, – усмехнулся Аполлофан, намекающее и многозначительно подмигнув, – а о трудностях осуществления твоего плана. Как тебе известно, всякое трудное дело, связанное с немалыми рисками, требует достойной оплаты.
– Ах, вот ты о чём! – от возмущения царица едва не перешла на крик. Она злобно швырнула гвардейцу-надзирателю кошелёк с монетами, а следом во второй раз вручила мешочек с ядом. – Это последнее серебро, что было у меня. Твоя ненасытная алчность и жадность разорили меня в конец!
– Я ежедневно рискую своей головой, выполняя для тебя поручения и передавая тебе послания от беглеца Птолемея, – доходчиво объяснил свою меркантильную позицию Аполлофан, старательно пряча мешочек с отравой и кошелёк с серебром. – Всякий смертельный риск должен достойно оплачиваться, моя царица!
– Я же обещала тебе, помимо платы серебром, что назначу тебя главным полководцем всех войск в Македонии! – возмутилась Эвридика почти в полный голос.
– Обещания имеют свойства забываться или не исполняться по различным причинам, – с назидательно и с важным видом изрёк Аполлофан. – Ощущая тяжесть серебра в своём кармане, я знаю за что рискую. А вот обещания будут слабым утешением, когда меня за связь с тобой и Птолемеем приговорят к побитию камнями или поднимут на копья! На этот раз я исполню твою просьбу, царица, но чем ты будешь расплачиваться в следующий раз? Учти, что обещания, клятвы и всякого рода щедрые увещевания меня мало интересуют, даже если они сулят мне в будущем неслыханные богатства!
– Чем же я могу расплатиться с тобой, алчный скопидом!? – Эвридика не сдержала своих эмоций, перейдя с раздражённого шёпота на крик. – Я сижу в этой тесной, холодной и сырой комнате с единственным крошечным окном, что прорублено под самым потолком! Я сплю на соломенном матрасе, и даже посуду мне не оставляют! Вот если бы я могла выйти отсюда ненадолго…
– Об этом не может быть и речи! – категорично отрезал Аполлофан.
– Тогда чем мне платить тебе, проклятый мытарь!?
– Остатками своей былой красоты, ненасытной похотью, лаской и податливостью, – без какого-либо притворства или намёка на шутку прямолинейно заявил главный тюремщик.
Эвридика от ярости, возмущения и неслыханной дерзости зарычала точь-в-точь как пантера. Она хотела броситься на Аполлофана с кулаками. Сдержать свой порыв ей удалось лишь в самый последний момент.
– Понимаешь ли ты, червь презренный, с кем ты говоришь и что мне предлагаешь!
– Я говорю с заключенной в темницу преступницей, опозорившей память покойного царя Аминты постыдным прелюбодеянием с собственным зятем! – Аполлофан тоже перешёл на рычащий тембр. – Царь Александр пока пощадил тебя лишь потому, что ты его родная мать. Я легко и безопасно для себя могу сделать так, что царственный сын твой передумает и прикажет казнить тебя самой лютой и позорной смертью!
– А я могу рассказать Александру о том, как ты служишь мне и выполняешь поручения Алорита – самого главного и опасного преступника царства Македонского! – Эвридика с прежней яростью пантеры не только защищалась, но и пыталась атаковать.
– Тебе не поверят, я об этом сумею позаботиться, – Аполлофан зловеще оскалил свои хищные кривые зубы, очень похожие на клыки. – А вздумаешь играть со мной в обман или донести на меня, то сначала лишишься своего языка, а потом и жизни. У меня есть много надёжных людей, которые с большим удовольствием и знанием ремесла вырвут тебе язык раскаленными клещами, а потом придушат тебя кишками дикого яка!
– Не будем ссориться по пустякам, – Перепуганная Эвридика мгновенно превратилась из пантеры в домашнюю кошку. Царица воочию убедилась в том, что её собеседник говорит чистую правду без каких-либо преувеличений. – Обещаю, что до следующего раза я найду способ и возможность расплатиться с тобой за оказанные услуги…
– Вот и договорились, – торжествующе хохотнул Аполлофан. – Поскольку ты – не колдунья и не умеешь из воздуха извлекать серебряные монеты, то всё равно будешь расплачиваться своим телом. Тебе ещё повезло, что оно сохранило остатки привлекательности и способностью привлекать внимание мужчин. Я пришлю к тебе пару служанок, чтобы они помогли привести себя в порядок. Я также прикажу, чтобы тебе принесли бочонок с водой для мытья. Прости, царица, но выглядишь ты и скверно, как свинарка, да и пахнешь точно также!
– Я найду деньги! – злобно буркнула Эвридика. В голосе её сквозили слёзы отчаяния, безысходности и горькой обиды.
– До скорой встречи, моя царица, – хохоча покинул темницу Аполлофан, игриво бросив напоследок уничижительную фразу: – До скорой, очень близкой и страстной встречи Дикая Эвридика!
Надзиратель вышел, надёжно затворив за собой дверь, а вдовствующая царица со стоном отчаяния и проклятиями рухнула на свой соломенный матрас, кишащий насекомыми-паразитами.
III
Казалось бы, что из всех участников недавно завершившейся войны, самым довольным и получившим наибольшие дивиденды являлся ферский тиран. Однако Александр пребывал в состоянии глубочайшего разочарования и неудовлетворения своих алчных амбиций.
Дело в том, что на долгожданную военную помощь Беотийского союза тиран мог рассчитывать только после того, как строго оговоренное число фессалийских всадников, а также караванов с зерном, вином и продовольствием прибудет в Фивы. Кроме того, в столицу союза Александру надлежало выслать двадцать знатных заложников.
Лишь в случае исполнения тираном всех своих обязательств в полном объёме беотийцы отправляли в Феры свои войска. Только после получения поставок от Александра союз Беотийский в дальнейшем оставался непоколебимыми гарантом соблюдения мирных отношений между Ферами и Македонией.
– А ты думал, что Пелопид сразу же предоставит тебе своё победоносное воинство? – нарочито укорял тирана Главр. Лишь ему – незаменимому и самому влиятельному советнику трёх поколений ферских тиранов дозволялось говорить без опаски всю правду, даже самую горькую, в лицо Александру. – Фиванцы не только знатные воины, но и превосходные торговцы, а потому никогда наперёд не дадут в долг ломаного медяка, даже под баснословные проценты!
Александру захотелось придушить своего придворного мудреца, но в речах пожилого Главра, как всегда, главенствовали здравый смысл и прописные истины большой политики.
– Что же теперь делать!? – риторически прорычал тиран. – Отдав пронырливым беотийцам часть своей конницы, пусть самой слабой и плохо экипированной, я теперь не могу взять причитающиеся мне по закону македонские земли! Хуже того, я даже Алевадов не имею возможности атаковать!
– Пока беотийцы не пришлют свои войска ни каких боевых действий ни с кем вести не будем, – уже не поучал, а настойчиво диктовал свои условия Главр. – Получим фиванскую пехоту и мастеров осадных работ подчиним своей воле столько городов и владений Алевадов, сколько сил и удачи достанет. А Алориту хватит тратить наши деньги на свои пирушки и увеселения! Довольно долго он гостит в Ферах, пора бы и пользу приносить!
– Да, какая от него польза!? У Птолемея нет ничего – ни денег, ни войска, ни авторитета среди земляков! – презрительно скривил лицо Александр.
– Вот видишь, каких союзничков ты заводишь себе в ущерб! – Главр окончательно вошёл в раж учителя-наставника. – Пусть Алорит без задержки отправляется тайком в Пиерию и переманивает на свою сторону местную знать и подготавливает её к переходу на твою сторону.
– Это ещё зачем? – нахмурился Александр.
– Птолемей хоть и отдал тебе всю Пиерию, но прав он на неё не имеет никаких, даже обладая статусом царского зятя, – продолжал вразумлять неразумного тирана Главр. – Македонский царь умрёт, но без боя не отдаст ни пригоршни своей земли! Знать Пиерии, хоть и мечтает избавиться от власти Аргеадов, но это не означает, что пиерийские архонты распахнут тебе свои объятия! Ты должен сделать всё возможное, чтобы избежать большой войны!
На следующий же день Феры покинул Алорит. К величайшему его разочарованию тиран Александр приказал Птолемею инкогнито пробираться в южные провинции Македонии. Там Алориту предстояло щедрыми посулами привлечь на сторону свою как можно больше сторонников союза с ферским тираном.
Птолемею совсем не нравилась затея Александра, но перечить тирану он благоразумно не стал, опасаясь взрывного гнева тирана, падкого на изощренные расправы. Алорит решил отсидеться в безопасном месте, выждав дальнейшего развития ситуации. Вести переговоры с архонтами Пиерии и представителями её знатных родов Птолемей намеревался лишь в случае военных и политических успехов ферского тирана.
Когда из Беотии в Феры явились отряды тяжёлых пехотинцев и специалисты по изготовлению осадной техники, македонский царь уже надёжным щитом прикрыл свои южные рубежи. Всё, что смог в сложившейся ситуации предпринять ферский тиран, так это отнять у Алевадов несколько поселений и небольших городков, удаленных от Лариссы.
Вмешательство во внутренние распри царской македонской семьи с целью лёгкой наживы принесло неудачи не только Александру Ферскому. Полководческое фиаско постигло и Ификрата.
Грабительские рейды восточных македонских провинций вышли боком для афинского стратега. Наёмники быстро, легко и с минимальным риском заполучившие трофеи и приличную добычу, наотрез отказались от фортификационных работ, фактически саботировав осадные работы вокруг Амфиполя.
В отчаянии Ификрат сал разрабатывать план внезапного генерального приступа города, надеясь на свою отвагу и фактор неожиданности. Однако афинские наймиты и тут проявили свой норов. Они категорически отказались участвовать в штурме, нагло потребовав от своего стратега совершить ещё парочку набегов на восточное македонское порубежье.
Поскольку штурм и эффективная осада стали невозможными, а измором взять Амфиполь не представлялось вероятным, обескураженный Ификрат на исходе осени покинул берега Стримона. По возвращению в Афины прославленный стратег подвергся всеобщим нападкам и порицанию.
На первом же народном собрании Ификрата лишили почётной должности стратега. Лишь прежние полководческие заслуги спасли предводителя амфипольской осады от уплаты солидного денежного штрафа и унизительной процедуры остракизма – лишения гражданских прав с последующим пожизненным изгнанием из пределов родного полиса.
Часть вторая. Фиванский заложник.
В Фивах Филипп стал греком. С врожденным ему умом, он совершено отбросил от себя недоступность знатного человека, чтобы приобрести всё, чему только можно было научиться у греков.
Э. Курциус
Глава I. Знакомство с Элладой.
I
От окрестностей Лариссы беотийское войско прямиком двинулось к верховьям реки Энипей29. За два дневных перехода отряд Пелопида достиг Фарсала – самого крупного города южной части Фессалии. От Фарсала фиванский полководец повёл своих людей и македонских заложников к берегам залива Малиакос.
Всю дорогу Филипп находился в непосредственной близости от Пелопида. Этим фиванский военачальник подчёркивал, что македонский царевич является не заложником, а почётным гостем. Пелопид постоянно ловил на себе потаенные взгляды македонского царевича, бросаемые украдкой.
Во взглядах этих сквозило любопытство, прикованное к доспехам военачальника, его оружию, фессалийскому породистому жеребцу. В то же время само поведение Филиппа, его поза и осанка, жесты и выражение глаз говорили о глубочайшей затаенной обиде и внутреннем чувстве оскорбленного достоинства.
На исходе второй недели путешествия воинство Пелопида достигло границ Фокиды30, от её владений до Фив оставалось около шести дней пути. Близ города Элатея дабы переменить враждебный настрой македонского царевича Пелопид решился на откровенный разговор с ним.
Юный царевич нравился фиванскому стратегу. Пелопиду импонировал внутренний стержень Филиппа, его понятия о чести, мужестве, долге, справедливости. Своими повадками и мировоззрением юноша напоминал Пелопиду самого себя в период ранней молодости.
– Дозволь, Филипп, поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной и как воин с равным ему по доблести и благородству воином, – с такой заранее заготовленной беспроигрышной фразы начал разговор по душам фиванский полководец.
Македонский царевич, сидевший в одиночестве у пылающего костра, соблюдая общепринятые законы гостеприимства и воинского этикета, поприветствовал Пелопида, предложив ему место у очага и разделить с ним скромную трапезу.
– Мы с тобой – мужи военные, а потому не станем ходить вокруг да около, как делают это политики и ораторы, – произнёс фиванец, угощаясь хлебной лепёшкой, протянутой ему македонским юношей. – Хочу спросить тебя прямо и получить на вопрос свой честный ответ. Чем-то я обидел тебя или, быть может, нанёс оскорбление?
– Мне нечем и не в чем упрекнуть тебя, благородный и досточтимый Пелопид, – тихо отозвался Филипп. – Ко мне и моим товарищам относятся почтительно и с надлежащим уважением…
– И всё же в облике твоём и во взглядах читаю я большую обиду, – настаивал на своём фиванец.
– Хорошо, – голос Филиппа неожиданно обрёл твёрдость и звонкость, – я отвечу честно на честно заданный вопрос. Я с малых лет безмерно уважал эллинов, считая их носителями высокой культуры, глубочайших знаний и воинской славы! Я более всего любил рассказы о героях Эллады, богах греческих и военачальниках! Я – македонец истинный самыми великими героями почитал спартанского царя Леонида, своего предка – Геракла, греческих стратегов Мильтиада и Фемистокла31, Алкивиада и Лисандра32! Я никогда прежде не встречал беотийцев и жителей Фив, но безмерно уважал и восхищался твоим земляком Эпаминондом, что сокрушил непобедимых спартанцев! И вот, когда моя родная Македония, истекая кровью, вступила в решающую схватку со своими врагами, Беотия твоими руками нанесла подлый удар брату моему в спину! Почему!? Зачем и за что!? Никогда прежде Македония и Беотия не воевали между собой! Зачем заступаться за подлого и никчёмного тирана Фер – душегуба и убийцу собственных родственников!?
– Я целиком и полностью согласен с тобой Филипп, – искренне отозвался Эпаминонд. – Но, прежде чем ты сделаешь своё окончательное суждение об отношении ко мне и всем прочим беотийцам, ответь ещё на один – последний вопрос. Что самое главное для воина, состоящего на службе у царя или архонта?
– Воин простой или старший офицер должен безропотно и мужественно выполнять приказы своего царя, вождя или главного стратега! – без раздумий воскликнул Филипп. – Настоящий воин должен быть готов в любой момент пожертвовать собой ради спасения своего царя, ради общей победы в бою, ради спасения товарища и родины!
Взгляд Пелопида, его выражение лица и застывшая фигура – всё наглядно выказывало искреннее и всеобъемлющее чувство глубочайшего восхищения словами македонского царевича.
– Никогда прежде не доводилось мне слышать от столь юного, но уже настоящего воина, таких прекрасных, простых и пронизывающих сердце слов! – неожиданно расчувствовался фиванец. Впрочем, Пелопид быстро опомнился и взял под контроль свои зашкаливающие эмоции. Уже ровным и спокойным голосом он продолжил: – Я – хоть и являюсь одним из трёх главных стратегов Беотийского союза, но по сути своей – я тоже воин. Я обязан повиноваться приказам своих архонтов и старейшин – беотархов, даже если в корне не согласен с их политической позицией и взглядами. Лично я был против того, чтобы идти на помощь Александру Ферскому, но беотархи решили иначе. Если бы не я, то всё равно другой стратег пришёл бы вместо меня…
– Я вижу, что ты говоришь искренне, а слова твои не таят подвоха или оправданий, – после паузы и глубокого раздумья произнёс Филипп. – Ты, прав, мудрый и досточтимый Пелопид, у меня нет причин и оснований таить на тебя и воинов твоих обиду, а тем более копить в душе неприязнь или ненависть. Я не держу больше зла на тебя отныне…
– Ну, а раз так, то позволь мне предложить тебе свой дом для проживания, – улыбаясь произнёс Пелопид. – Ведь, кто знает, сколько тебе придётся времени пробыть в Фивах.
– О, благодарю тебя, но я не могу требовать для себя условий отличных от тех, в которых окажутся мои земляки, – учтиво склонил подбородок Филипп. – Я буду жить ровно так, как все прочие заложники.
– О! Слова эти вновь указывают в тебе зрелого мужа и благороднейшего из воинов! – ещё раз восхитился собеседником фиванец. – Хорошо, с жильём мы определимся по прибытию в Фивы, а пока я готов ответить на все твои вопросы. Не удивляйся, по дороге сюда я много раз перехватывал любопытствующие взгляды твои, обращенные на местные пейзажи.
– И вновь признаю твою правоту и наблюдательность, – ответил похвалой на похвалу Филипп. – У меня и вправду накопилось множество вопросов, меня так и распирает от желания как можно больше узнать о греках и Греции! Ведь я впервые оказался в самом сердце Эллады!
II
Весь последний отрезок пути от Херонеи – главного северного форпоста Беотийского союза до самых предместий Фив македонский царевич и Пелопид провели за увлекательными беседами. Филипп весьма успешно практиковался в разговорном греческом языке, а заодно узнавал множество информации, касающейся истории, географии и религии тех мест, по которым продвигался фиванский отряд.
– Беотия – одна из самых древних обитаемых областей Эллады, – с гордостью сообщил Пелопид, как только его войско вступило на родную землю. – Первые поселения и города возникли на беотийской земле спустя шестьдесят лет после завершения Троянской войны33. Почва здешних мест позволяет снимать самые богатые урожаи во всей Греции, в горных породах есть залежи меди и магния, а выход сразу к двум морям – Ионическому и Эгейскому позволяет вести выгодную торговлю практически со всеми полисами Эллады.
– А почему у беотийцев нет царя? – вопросы, касающиеся монаршей власти и её законности, всегда интересовали Филиппа более всего.
– Цари в Беотии были очень давно – в те легендарные времена, когда Олимпийские боги ещё спускались на землю, помогая людям. Ещё менее столетия назад во всех полисах Беотии, в том числе и в Фивах, власть принадлежала избранной и родовитой элите – аристократии, – пояснил Пелопид. – Однако во время войн против Персии беотийская аристократия запятнала свою честь постыдным заискиванием и раболепием перед иноземными варварами-захватчиками. После окончательной победы над персидскими царями граждане беотийские отстранили аристократов от власти, передав её в руки беотархов – высших государственных управителей и распорядителей. От каждого города, входящего в Беотийский союз, ежегодно избирается один или два беотарха. Я уже дважды избирался на эту почётную должность!
– Я слышал, что Беотийский союз нынче воюет против Спарты и весьма успешно! – с воодушевлением воскликнул Филипп. – А в детстве мне рассказывали, что нет в Греции государства сильнее Спарты, и даже персидский владыка не рискует лишний раз посылать против спартанцев свои многотысячные орды и флот!
– Во многом справедлива молва о воинской доблести, великом мужестве, неистовой отваге и героизме лакедемонян – так часто греки называют спартанцев, – кивнул фиванский полководец. – Спарта – родина великих воинов, внёсших свой весомый вклад в победу над персами. Однако у воинской доблести Лакедемона есть и обратная, весьма неприглядная сторона, как у монеты, что с одной стороны блестит полированным серебром, а с другой – покрыта ржавчиной.
– Какая такая неприглядная сторона? – изумился Филипп.
– Истинные спартанцы живут исключительно войной, – печально усмехнулся фиванский стратег. – Выращиванием пшеницы и ячменя, оливковых деревьев и виноградников, возделыванием полей и садов, выпасом скота и лошадей, рыбной ловлей – всем этим в Спарте занимаются илоты – крестьяне, находящиеся на положении рабов, не имеющие никаких прав и свобод. Спарта окружена с трёх сторон горами, богатыми медью и железом, но лакедемоняне практически не добывают эти металлы. Спарта имеет выход к морю, но лакедемоняне не ведут торговлю. Даже ремесло в Спарте развито крайне слабо, ибо истинный спартанец должен целиком и полностью посвящать себя только воинскому искусству. Прочее искусство в Спарте порицаемо и презираемо.
– Но отчего спартанцы поступают так неразумно!?
– Издревле Спарта и избранные сыны её – спартиаты живут только войной, грабежами и захватами! – тяжело вздохнул Пелопид. – Зачем что-то производить, когда можно захватить всё готовое в качестве военных трофеев и добычи!? Зачем спартанцу махать мотыгой, добывая медь, а затем другому – плавить эту медь и ковать, если можно отнять уже готовое изделие!? Да, спартанцы проявили себя героями, сражаясь против персов, но гораздо чаще лакедемоняне нападают на своих соседей, а воюют куда дольше и свирепее против соотечественников – греков. Сначала спартанцы подчинили своей железной воле почти все полисы Пелопоннеса, а затем вступили в затяжные войны с Коринфом и Афинами. Вот уже десять лет как Спарта пытается на правах гегемона Эллады подчинить себе Беотию.
– Расскажи мне о войне против спартанцев, которую ты и Эпаминонд ведёте столь успешно и победоносно! – излишне эмоционально попросил македонский царевич.
– С удовольствием, но в другой раз, – заулыбался Пелопид, – это долгая история, друг мой, а мы уже завтра к обеду достигнем Фив! Я познакомлю тебя с Эпаминондом, и ты узнаешь всё из уст самого творца победы при Левктрах! А пока ускорим ход, мне хочется как можно скорее оказаться в родном городе! Слава богине Афине и богу Аполлону!
– Почему ты воздаешь хвалу именно этим богам? – поинтересовался Филипп.
– Именно Афина – богиня военной мудрости и стратегии, а также Аполлон – бог солнечного света и главный покровитель искусства оберегают мои родные Фивы, даруя им процветание и благоденствие! – с торжественным почтением и надлежащим пиететом ответил Пелопид, прибавив: – Кстати, твой предок – Геракл в юности своей очень много сделал для Фив!
– А я и не знал об этом… – сокрушёно признался македонский царевич.
– Геракл освободил Фивы от унизительной и обременительной выплаты дани царям Орхомена, – сообщил Пелопид. – Теперь Орхомен всего лишь небольшой городок, полностью подвластный Фивам. Женой Геракла была Мегара – дочь фиванского царя Креонта.
– Ты расскажешь мне подробно о моём славном предке? – почти с мольбой обратился Филипп, с большим огорчением добавив: – Мой отец и братья ничего, к величайшему стыду, не знают о деяниях Геракла. А более мне спросить не у кого…
– Я обязательно тебе поведаю о Геракле и всех его подвигах, – по-отечески пообещал Пелопид. – Завтра нас – тебя и твоих земляков ждёт торжественный пир по случаю завершения удачного похода, а также по случаю заключения мирного договора между Беотийским союзом и Македонией! Лучшего повода осушить чашу превосходного фиванского вина не сыскать! Ну, а пока я познакомлю тебя с Феспиями – городом, в котором начался путь великой и незабвенной славы твоего легендарного предка!
III
Город Феспий являлся западным форпостом Фиванского полиса. И хотя между Феспиями и Фивами расстояние по прямой составляло всего восемьдесят стадий34, Пелопид остановил свой отряд на ночлег именно в этом городке.
Беотийским воинам надлежало как следует отдохнуть и привести свой внешний вид в порядок, чтобы завтра при полном параде пройти торжественным маршем по главным улицам Фив. Привести себя в порядок требовалось и македонским юношам. Негоже грекам-иноземцам видеть отважных и знатных сынов Македонии в удрученном состоянии, осунувшимися, запыленными и потускневшими.
Видя, что македонский царевич крайне заинтересован местными достопримечательностями, Пелопид организовал для своего гостя вечернюю прогулку по Феспиям. Филипп не только охотно принял предложение осмотреть городские кварталы и улицы, но с самым заинтересованным видом обозревал все архитектурные и инженерные сооружения, что встречались ему на пути.
Планировка и застройка Феспии была типичной для греческого небольшого городка. Однако Филипп впервые получил возможность подробно рассмотреть изнутри классический полис, основанный эллинами, что мнили себя представителями самым высокоразвитыми и цивилизованным народом Ойкумены.
Жилые и административные постройки надёжно защищали каменные стены, увенчанные сторожевыми башнями. Македонский царевич сразу с досадой отметил, что даже небольшой по размерам и числу жителей город защищён снаружи куда более основательно и надёжно нежели главные города его родины – Пелла и Эги.
Филипп дал себе слово непременно досконально изучить принципы возведения и строительства греческих крепостных стен, городских ворот и сторожевых башен. По возвращению в Македонию царевич намеревался с разрешения старшего брата заняться укреплением, реконструкцией и возведением новых крепостных стен в главных городах и приграничных крепостях.
Как и в любом другом городе, главными достопримечательностями Феспии являлись центральная площадь – агора, театр, а также храмы и святилища, посвященные наиболее значимым и почитаемым богам.
В числе самых главных и авторитетных феспийских богов числились верховные божества греческого пантеона – Зевс, Афина, а также Дионис – бог всей земной растительности, виноделия, пробуждения природных сил и экстаза.
Зевс, как и положено самому влиятельному и могущественному из олимпийских богов, изображался зрелым мужем исполинского телосложения, с идеально развитой атлетической фигурой, густой бородой и косматыми волосами.
Тело верховного бога покрывала эгида – специальная накидка, изготовленная из священных тонкорунных козьих шкур, обладавших магическими защитными свойствами. Ни одно даже самое острое и мощное оружие не могло пробить эгиду.
В одной руке Зевс сжимал державный скипетр – символ его владычества над людьми, а в другой – внушительных размеров трезубец, символизировавший молнию и небесный огонь. На правом плече бога сидел орёл, зорко вглядываясь в даль.
Не менее величественно выглядело изваяние Афины. Эта легендарная и очень почитаемая дева-воительница с идеально правильными и несколько суровыми чертами лица была облачена в длиннополый хитон.
На голове богини красовался роскошный шлем с высоким гребнем из конского волоса, искусно выполненный мастерами-оружейниками из Коринфа. Своей властной рукой Афина сжимала длинное копьё. У ног богини клубком свернулась внушительных размеров змея, а на плече приютилась сова.
– Афина – самая почитаемая богиня Эллады, – донёсся за спиной почётного македонского заложника голос Пелопида. – Она не только является верховной покровительницей справедливой и священной войны, военной мудрости и стратегии. Греки чтут Афину как богиню благородных ремёсел, высокого искусства и наук. Афиняне поклоняются этой богине как самой главной своей заступнице, покровительнице их города и государства.
Филипп так и не понял, почему эллины в число двенадцати наиболее влиятельных богов-олимпийцев включили Диониса. Этот бог виноделия, пусть и приходился сыном Зевсу, но (по глубокому убеждению македонского царевича) был слишком молод и несерьёзен, чтобы занимать вершину пантеона богов Эллады.
Изваяние Диониса не понравилось Филиппу. Юный полуголый повеса, женоподобное тело которого было слегка прикрыто небрежно накинутой на плечо козьей шкурой, а в длинные волосы его вплетены виноградная лоза и побеги плюша. Разве таковым должно быть обличие всесильного бога-олимпийца!? Даже посох Диониса оказался всего лишь стволом виноградного дерева.
– Не суди о людях, а тем более о богах, по их внешнему виду после первых минут беглого знакомства, – дал осторожный совет Пелопид македонскому гостю, миролюбиво прибавив: – Дионис не только подарил людям тайны и священные секреты виноделия, но научил пользоваться всеми земными удовольствиями и радостями! Дионис подарил людям театр.
Филипп не знал значения этого незнакомого для него слова, но не сомневался, что это не имеет никакого отношения к воинскому ремеслу и занятиям достойным настоящего мужчины и воина.
– Я обязательно покажу тебе Дионисии – священные массовые празднества, посвященные завершению сбора урожая! – пообещал Пелопид, видя прежнее недоверие македонского юноши и его упрямое неприятие очевидных вещей. – Я познакомлю тебя с миром театра и праздниками, которые эллины очень любят и отмечают с невиданным размахом! Ну, а Дионис, несмотря на его вечную молодость и внешний мягкий облик, с честью участвовал в эпических битвах, которые вели олимпийские боги против гигантов – великанов-чудовищ! Эти злобные и дикие исполины от головы до пояса имели тело атлантов, а вместо ног у них были змеиные и драконьи хвосты. Коме того, Дионис – единственный из богов, который совершил победоносный поход от самого подножья Олимпа до Индии!
Последние слова фиванского полководца о военных подвигах Диониса несколько изменили крайне неблагоприятное мнение о нём Филиппа, в котором юношеский максимализм в котором часто приобретал гипертрофированные объёмы, а также импульсивные суждения и поступки.
Филиппа весьма удивило и позабавило известие о том, что феспийцы наравне с авторитетными владыками Олимпа почитают куда менее известных и значимых богов. В числе их на первом месте был Эрот35 – вечно юный бог, совсем ещё мальчик, что меткими стрелами своими пробуждает в людях любовь, страсть и плотские влечения.
Статуя, посвященная Эроту, по размерам своим была чуть меньше изваяния Зевса-Громовержца – главного олимпийского бога. Для Филиппа показалось неуместным такое соседство – могущественного и всесильного Зевса с кучерявым мальчиком, который занимался пустяками – поселял в людских сердцах любовное смятение, а зачастую и похоть.
– Зевса феспийцы именуют Сотером, что означает «Спаситель», – охотно раздавал пояснения своему юному спутнику Пелопид, взяв на себя роль добровольного гида. – Много веков назад беспощадный дракон ежегодно опустошал Феспии. Чтобы откупиться от жестокого чудовища, каждый год феспийцы приносили ему в жертву самых прекрасных юношей и девушек. Однажды Зевс сжалился над феспийцами, подарив им особенный медный панцирь, к каждой пластинке которого был прикреплён загнутый кверху острейший крючок. Один из феспийских юношей облачился в этот доспех. Дракон съел его и разодрал крючьями своё нутро. И отважный юноша, и дракон – оба погибли. Так Феспии были избавлены от монстра, а Зевс стал самым почитаемым богом.
– Относительно старшинства Зевса мне всё ясно, – нахмурил брови Филипп. – Но зачем же рядом с владыкой Олимпа водружать статую крылатого мальчика, в руках которого цветок и лира! Он даже лук со стрелами использует не для того, чтобы поражать врагов, а чтобы юноши страдали от любви и непотребных желаний! Удел мужчины – путь истинного воина, а не праздного воздыхателя, предпочитающего стихи и слезы тренировкам и поединкам!
Пелопид от всей души рассмеялся, миролюбиво и по-приятельски хлопнув царевича по плечу.
– Феспийцы не столь суровы, воинственны и строги в своих суждениях, как македонцы! Я, как и ты, ценю в мужчинах, прежде всего, силу, воинский дух, отвагу, смелость и честь. Но феспийцы воспитаны иначе. С древнейших времён одним из самых главных празднеств для них являются Эротидии – пышные гуляния и таинства, посвященные возвышенной божественной и человеческой любви!
– Для македонцев самый главный праздник – это честная победа над врагом в очном поединке или в войне против опасного врага! – горделиво вскинул подбородок Филипп.
Пряча улыбку в густой окладистой бороде, Пелопид провёл своего высокого гостя мимо статуй, воздвигнутых в честь других горячо почитаемых феспийцами богов. Помимо Зевса и Эрота, высокими покровителями Феспии считались Тихе36 – богиня всевидящей судьбы и удачи, Плутос – покровитель богатства и материального процветания, а также Гигея – богиня здоровья и Ника – богиня победы.
Тихе предстала перед взором придирчивого македонского гостя в образе крылатой девы, ноги которой покоились на шаре, символизировавшем шаткость равновесия удачи и невезения. Голову богини удачи венчала диадема, а в руках её находился увесистый и неиссякаемый рог изобилия, дарующий по воле богов наиболее достойным людям материальные блага.
Филиппу не понравилась статуя Гигеи, изображавшая скромную деву, закутанную в плотный хитон, что кормила из чаши с длиной ручкой змею. Для греков аспиды символизировали мудрость и двоякость медицинского воздействия, ибо яд в малых дозах обладает лечебными свойствами, а в больших – убивает. Филипп же с малых лет питал к змеям и рептилиям вообще категорическое отвращение и абсолютную неприязнь.
Чувство жалости в македонском придирчивом критике греческого пантеона вызвало изваяние Ники. Победа в войне над врагом личным или супостатом, посягающем на твою страну – важнейшее событие в жизни любого воина и целого народа.
А недальновидные эллины даровали покровительство над Победой ещё одной крылатой деве, более походившей не воительницу, а на модницу-соблазнительницу. В одной руке она держала золотой венец, а в другой – меч.
Зато весьма положительные эмоции у Филиппа вызвал облик Плутоса. Бог, отвечавший за распределение богатства, выглядел хитроватым и пронырливым старцем с солидным брюшком.
Но более всего македонскому юноше понравился внушительный мешок с золотом, который покоился за спиной Плутоса. Филиппу глянулись также несколько тугих поясных кошельков зажиточного бога, набитых серебряной монетой.
– Победы и удачи на полях сражений, тугой кошелёк, набитый звонкой серебряной монетой, а также отменное здоровье никогда не повредят и не будут лишними, – такой вердикт вынес Филипп, чем вызвал очередную добродушную усмешку фиванского полководца.
IV
Следующей достопримечательностью Феспий, с которой Пелопид познакомил македонского царевича, стал храм посвящённый Гераклу. Фиванский военачальник ожидал, что святилище, посвященное родоначальнику правящей македонской правящей династии Аргеадов, вызовет исключительно положительные эмоции у Филиппа.
Однако младший сын Аминты выразил своё неудовольствие тем, что его славному предку выстроили слишком скромное и недозволительно малое по своим размерам здание, которое никак не соответствовало статусу святилища, а тем более храму.
– Феспии – это довольно малый и не слишком богатый полис, – вступился за союзников фиванский полководец. – На строительство большого храма требуются солидные суммы серебра и золота, а местные торгаши и аристократы скупы и жадны до крайности. Феспии ещё более века тому назад очень сильно пострадали во время нашествия персов. За то, что феспийцы оказали военную помощь Афинам и Спарте, царь Ксеркс разрушил город почти до самого основания. Потребовалось много времени на то, чтобы восстановить прежний облик Феспий. В недавней войне Беотийского союза против Спарты феспийские архонты опрометчиво приняли сторону лакедемонян37. Этот неразумный союз обернулся для Феспий новыми разрушениями, которые, увы, причинили не персы, а беотийцы и мои земляки фиванцы… Теперь властители Феспий одумались и вступили в Беотийский союз.
– Примут ли феспийцы пожертвования от иноземцев, в частности от македонцев? – с самым серьёзным видом поинтересовался Филипп.
– Ты хочешь внести свою серебряную лепту в улучшение святилища Геракла? – уважительно удивился Пелопид.
– Да! – гордо вскинул подбородок царевич, – если у феспийцев сейчас нет денег на возведение более достойного храма, посвященного моему славному предку, то я, как только вернусь домой, соберу нужную сумму!
– Я от имени Беотийского союза заключил мирный договор с Македонией, – принялся серьёзно рассуждать фиванский военачальник, пряча очередную снисходительную улыбку в густой бороде. – Беотия и твоя родина – теперь союзники и друзья. У феспийцев нет причин на то, чтобы не принять твои пожертвования. Но помни, мой друг, храмов и святилищ, посвященных Гераклу, в городах и полисах Эллады великое множество! Если ты начнёшь жертвовать на каждый храм собственные или государственные деньги, то македонская казна и твоё личное состояние очень быстро истощатся!
– Честь, слава и великая память славного рода Аргеадов – превыше всего! – разгорячёно, но с искреннем патриотизмом воскликнул Филипп. – А великий Геракл – это честь, слава и главная гордость моей семьи!
Пелопиду пришлись по душе и эти слова юного македонца – дерзкого, амбиционного, наивно считавшего, что на свете ему по плечу, но столь преданного родине, семье и понятиям чести, заложенными в нём с младенчества. Фиванский стратег видел, что в Филиппе заложен большой потенциал, который при правильном воспитании превратит ещё неоперившегося птенца в грозного орла.
Пелопид уже намеревался отвести Филиппа на ночлег, но царевич вовлёк фиванца в диалог, тема которого оказалась весьма комичной и вместе с тем щекотливой. Македонца возмутило то обстоятельство, что статуя Геракла, расположенная близ святилища, имела неприлично и непропорционально малые пропорции гениталий.
– Мой славный предок совершил десятки величайших подвигов, что не под силу не только прочим героям Эллады, но и даже некоторым богам! – возмущение Филиппа граничило с яростью. – А наглый скульптор наделил Геракла мужским достоинством как у ребёнка! У нас – в Македонии за такое издевательство и святотатство этого лепилу ожидала бы самая суровая кара! Ему бы переломали все пальцы, а потом забили бы до смерти камнями!
– О, мой суровый друг! Прошу тебя от имени Беотийского союза великодушно простить неизвестного художника, что без намеренного умысла задел твои чувства! – воскликнул Пелопид, едва-едва сдерживая себя, чтобы не расхохотаться. – Скульптор не коим образом не хотел оскорбить великого Геракла, а также его память! Наоборот, именно небольшой по размерам фаллос, по представлениям всех без исключения греков, является символом большой мужественности, отваги и героизма!
– Как это!? – Филипп опешил от услышанного и подозрительно присмотрелся к лицу собеседника. Уж не вздумал ли фиванец пошутить над ним!?
– У эллинов слишком большое мужское достоинство считается признаком малого ума, трусости и пассивной роли в соитии двух мужчин, – смущёно почесал затылок Пелопид.
Видя, что македонский юнец и теперь ещё не до конца ему поверил, фиванец указал рукой на статуи, что украшали агору:
– Посмотри на прочие изваяния верховных и младших богов, героев Эллады, великих полководцев, философов, политиков, олимпийских чемпионов и воинов! Ни у кого из них нет чрезмерно развитых и выделяющихся мужских признаков. Один лишь Приап – бог плодородия непременно изображается с непомерно большим фаллосом вечно готовым к соитию. Однако из-за этой неприглядной особенности родители Приапа – Дионис и богиня любви Афродита отказались от него.
– Обычаи и традиции эллинов для меня ещё совсем незнакомы, – несколько смягчил свою позицию Филипп.
Он воочию после тщательного визуального сравнения убедился в том, что вторичные половые признаки прочих мужских статуй не только не превышали интимных параметров изваяния Геракла, но и в подавляющем большинстве своём уступали им.
– Но всё-таки в отношении богов, полубогов и героев скульпторам надлежит проявлять куда большее уважение и почтение!
– В Фивах, где тебе предстоит провести некоторое время, у тебя будет возможность лично познакомиться с художниками и скульпторами, – продолжая тайком ухмыляться и улыбаться, сказал Пелопид. – Тебе выпадет возможность лично высказать свои пожелания, советы и критические замечания!
Фиванский полководец поскорее повёл своего спутника на ночлег, чтобы случайно не шокировать и, тем более, не разозлить чем-либо Филиппа непривычными и диковинными для него особенностями греческого провинциального бытия.
V
Пелопид и Филипп направились в гости к врачевателю Эпиклу – близкому другу фиванского военачальника. Кампанию им составил Лакрат – один из младших стратегов и ближайших помощников Пелопида.
Дом Эпикла был полон гостей, поскольку хозяин пышно отмечал рождение дочери. Вообще, каждому состоятельному и уважающему себя греку в обязательном порядке надлежало обзавестись сыном-наследником. Дочерям эллины радовались гораздо меньше.
Женщины Эллады не обладали никакими гражданскими правами, их главным уделом было воспроизведение на свет здорового потомства, воспитание детей до определенного возраста и забота о домашнем хозяйстве.
Для дочери, вошедшей в пору невесты, требовалось приданое, порой весьма солидное. При распределении пахотных земель, сельскохозяйственных угодий и прочих общественных наделов между семьями или полноправными гражданами в расчёт шли только представители мужского пола.
Эпикл, будучи одним из самых зажиточных граждан Феспий, любил при каждом удобном случае затеять шумную и затяжную пирушку. Кроме того, он очень любил свою жену, а своего первого ребёнка, пусть и дочку, врачеватель ждал долгих два года.
Жилище Эпикла, как и все прочие жилые здания Феспий, строились из глиняных кирпичей, которые дополнительно не подвергались обжигу. Греческие дома строились по восточному типу – задней стеной к улице и фасадом во двор. В те времена эллины ещё не имели понятия об окнах, вместо них под крышей прорубались узкие отверстия, выполнявшие роль форточек.
Греческий дом делился на две половины – мужскую и женскую, разделенную огороженным двориком. Посреди него размещались хозяйственные постройки – пекарни, винные погреба, кухни, чуланы, бани, кладовые.
В мужских помещениях находился главный алтарь Зевса, домашний очаг, тут же принимали пищу. Женская половина предназначалась для домашней работы. Спальни находились на втором этаже под черепичной крышей.
Пройдёт ещё столетие, прежде чем города Эллады обзаведутся канализацией. А пока пищевые и бытовые отходы, нечистоты и всевозможный мусор просто выбрасывались или выливались на не мощённые улицы. Нередко по извилистым лабиринтам фиванских улиц в изобилии бродили домашние животные и скот.
Полнейшая антисанитария, процветавшая в городе и за её пределами, чрезвычайно засушливое лето, постоянные перебои с водой, близкое расположение болот – всё это становилось частыми причинами вспышек массовых заболеваний и возникновений эпидемий в городах Беотийского союза.
Всё, что увидел Филипп в доме Эпикла, в представлении македонского царевича никак не соответствовало его привычным представлениям о пирах и застолье вообще. Внешний облик гостей, их поведение, разговоры, манера есть и пить, праздничное меню – всё это и многое другое изумило Филиппа, вызвав в нём смесь разочарования, неприятия и снисходительной жалости к пирующим.
Жители Феспий, как и прочие беотийцы, уже давно отказались от столов, последовав примеру спартанцев, которые ели полулёжа. При этом беотийцы и фиванцы по примеру афинян усовершенствовали «процесс лёжки» – едоки кушали на специальных ложах, расставленных вокруг общего стола.
Для удобства сотрапезники подкладывали под спину и голову специальные подушки. Некоторые аристократы делали ложа столь высокими, что взбираться на них приходилось по приставной скамеечке. Привилегия лежания во время еды распространялась только на мужчин, женщины и дети ели за отдельным столом.
Для наиболее почётных и важных гостей специально сдвинули воедино по два, а то и сразу три ложа. На них (в зависимости от комплекции) могли разместиться от трёх до девяти человек.
Еду на специальных столиках разносили рабы из числа домашней прислуги. Ложек, вилок и прочих столовых приборов, кроме ножей, в те времена не существовало. Едоки оперировали исключительно руками, бросая кости и объедки прямо на пол.
Меню, по мнению македонского царевича, оставляло желать лучшего. Стол изобиловал речной и морской рыбой, зеленью, овощами, фруктами и корнеплодами, молочными продуктами. Радостью для грека-гурмана считалось присутствие среди блюд сыра из козьего молока, маслин, оливок, плодов фигового дерева и хлеба.
Поскольку Эпикл относился к числу местных состоятельных горожан, он сегодня раскошелился на разнообразные мясные блюда. К удивлению Филиппа греки запивали пищу только вином, разбавленным в различных пропорциях пресной водой. Некоторые из гостей этот напиток подслащали дополнительно мёдом.
– Дорогие гости и уважаемые соотечественники! – уже в который раз изрядно захмелевший хозяин дома произносил тост, неуклюже размахивая внушительной чашей, наполненной дорогим вином, привезенным из Коринфа. – Недавно боги послали мне первенца – очаровательную дочь! Я дал ей имя Мнесарета38, дабы судьба её и жизнь сложились как можно счастливее и удачливее!
Раскачиваясь от избытка чувств и изрядного объёма выпитого алкоголя, врачеватель обошёл почётных гостей, чтобы лично с каждым соприкоснуться краями чаш. Осушив свою посуду, Эпикл едва не упал, с трудом сохраняя равновесие.
Окончательно опьянев, он на радостях и под воздействием элитных винных паров начал обниматься и целовать всех, кто оказался поблизости с ним. В числе одаренных поцелуями оказался и Полидокл – старший из рабов Эпикла, что прислуживали гостям.
– Допустимо ли, чтобы свободный и знатный муж обнимался с прислугой и рабами на виду у почётных гостей и уважаемой публики!? – из уст Филиппа вырвалось громкое недоумение.
– В Греции отношение к рабам иное, чем у других народов и государств, – отозвался Эпаминонд. – Раб хоть и считается по греческим законам вещью, полностью принадлежащей своему хозяину, но жизнь невольников Эллады не соль горька и невыносима, как у прочих варварских народов. Если раб предан своему хозяину и его семье, соблюдает все законы, правила и нормы поведения полиса, то он может вполне заслужить себе свободу. В Афинах, Коринфе и Фивах немалое число бывших рабов после освобождения вошли в число богатейших жителей, а некоторые занимали достаточно высокие государственные должности. Не суди строго Эпикла, он слишком долго мечтал стать отцом. К сожалению, лекари весьма слабы по части употребления вина. Полидокл уже много лет верой и правдой служит Эпиклу, а потому практически стал членом его семьи.
– У этого раба странный оттенок кожи подобный плодам оливкового дерева. Откуда он родом? – поинтересовался Филипп.
– Если не ошибаюсь, то с острова Крит. Его ещё юношей в плен захватили местные пираты и продали невольничьем рынке Фив, – вмешался в разговор Леократ. – Эпикл сжалился над ним и купил, обучив лекарскому ремеслу и ведению хозяйства. Уже не раз Эпикл обещал Полидоклу дать свободу, возможно теперь на радостях он сдержит своё обещание.
VI
Вскоре, покинув шумный и душный зал переполненный подвыпившими и голосистыми гостями, Пелопид и Филипп перебрались на прохладную террасу. С неё открывался превосходный вид на гору Геликон – одну из самых высоких и священных вершин Беотии.
– Я обещал рассказать тебе о твоём славном предке, – заговорил с воодушевлением Пелопид, вальяжно развалившись с чашей вина на ложе, сплетённым из самых гибких и лёгких ивовых прутьёв. – Свой рассказ я начну с горы Геликон, что доступна нашему взору в лучах заходящего солнца.
– Какое отношение имеет эта гора к Гераклу? – поднял вверх брови Филипп.
– От собеседника требуются две вещи – ясно, коротко и по существу излагать свои мысли, а также умении терпеливо, не перебивая, слушать других, – назидательно, но мягко укорил фиванец македонского юношу, который не по своей вине не имел никакого понятия о этикете и правилах хорошего тона. – Мне хотелось, чтобы ты хорошо узнал не только о Геракле, но и о истории самой Эллады, её богах, героях, полководцах, обычаях, праздниках, традициях и простых людях. Вполне возможно, что однажды греческие государства, Македония, Фракия и прочие балканские народы объединят свои усилия в борьбе против главного врага своего – Персии. Тогда дружба и сплоченность будут необходимы для победы. Не зная о своих соседях ничего и не понимая их жизненных устоев, крайне трудно добиться единения.
– Прошу прощение за свою поспешность и излишнее любопытство, – густо покраснел Филипп, осознав правоту слов своего опытного наставника. – Впредь обещаю не перебивать тебя, благородный и досточтимый Пелопид!
– Итак, гора Геликон стала священным и любимым пристанищем богов задолго до падения Трои, – под воздействием коринфского вина фиванский военачальник стал благодушным и крайне словоохотливым. Подобно профессиональному сказителю, он занял наиболее удобное положение, после чего приступил к неспешному, но весьма выразительному и эмоциональному повествованию. – На склонах этой горы обитают музы – богини, покровительствующие искусству и благородным наукам. Статуи всех девятерых муз, что являются любимыми дочерьми Зевса, находятся в храме, что феспийцы воздвигли близ вершины Геликона. Даже сам Посейдон – верховный бог морей частенько покидает свою водную обитель, чтобы провести день-другой на этих склонах, покрытых священными рощами и лугами. Среди камней и ущелий Геликона бьют родники, обладающие волшебной силой. Они вдохновляют поэтов, музыкантов и актёров. В один из этих родников по долгу смотрел на своё отражение Нарцисс.
– Чем знаменит это воин? – не удержался и задал вопрос Филипп.
– Это – не воин, – усмехнулся Пелопид, – так звали несчастного юношу, которого погубили собственная непомерная гордыня и страсть к самолюбованию. Когда-то Нарцисс слыл самым красивым юношей в Элладе, многие девушки, женщины и даже мужчины были влюблены в него, напрасно добиваясь взаимности. Нарцисс отвергал всех своих поклонниц и поклонников. Он даже гонной нимфе Эхо отказал во взаимности, и та от отчаяния и душевных страданий стала бестелесной. После того, как из-за неразделенной любви к Нарциссу несколько юношей и дев совершили самоубийство, боги решили покарать хладнокровного и неприступного гордеца.
– Чем своим обликом искушать несмышлёных сверстников, лучше бы этот Нарцисс обучался воинскому ремеслу! – с явным презрением проворчал македонский царевич, позабыв о своём недавнем обещании не перебивать собеседников.
Пелопид вновь миролюбиво улыбнулся и продолжил рассказ:
– Немезида – богиня справедливого возмездия и воздаяния завлекла Нарцисса к одному из магических родников, что бьют на склонах Геликона. Юноша, увидав своё отражение в источнике тотчас страстно и всецело влюбился в свой облик, многократно приукрашенный волшебной влагой. Эта любовь Нарцисса к собственному отражению и погубила юношу. Он не мог оторваться от созерцания своего облика, просидев много дней и ночей у источника. Нарцисс мог только пить холодную воду, отлучаться для поисков еды и крова он не хотел, ибо не мог обойтись без самолюбования ни на миг. В конце концов, несчастный умер от голода, душевных страданий и прочих лишений. У того волшебного родника, рядом с которым Нарцисс встретил свою погибель, вскоре вырос цветок отличавшийся от всех прочих растений. В память об этой грустной и поучительной истории цветок этот необычный нарекли нарциссом.
– Греки, бесспорно, одни из самых талантливых и выдающихся людей, но многие поступки их выглядят просто нелепо, а порой и непонятно! – воскликнул Филипп. Он также перебрал в этот вечер с количеством выпитого вина, от чего утратил контроль над своими мыслями и словами, неосторожно высказываемыми вслух. – Зачем хранить память о самовлюбленном гордеце, который не принёс родине своей и народу никакой пользы!? К чему называть цветок именем нерадивого юнца, что не сразил в бою ни одного врага и не совершил ни одного деяния достойного мужчины!? Я бы умер со стыда, а родные совершено справедливо отреклись бы от меня, если бы именем моим назвали цветок, пусть и даже особенный!
– Поучительные истории существуют для того, чтобы люди не совершали чужих роковых ошибок и необдуманных действий, – покачал головой фиванец, осознав весь титанический объём мероприятий и времени, которое придётся затратить на привитие македонскому царевичу греческого менталитета, обычаев, религии и самых поверхностных основ бытия. – Твой предок Геракл тоже изрядно пострадал за свою жизнь из-за вспыльчивости своей, излишней самоуверенности, заносчивости и нежелания слушать умные советы.
– А что полезного он совершил для Феспий? – любопытство так и бурлило в Филиппе, – Вряд ли бы феспийцы воздвигли Гераклу святилище просто так!
– Это верно, – утвердительно кивнул головой Пелопид, – эллины никогда ничего не делаю просто так. Когда Гераклу было всего восемнадцать лет, он избавил Феспии от нападений свирепого Киферонского льва, чьё логово находилось на вершине Геликона. Лев этот отличался не только свирепостью и кровожадностью, но и прожорливостью. Он сожрал несколько сотен отборных коров, принадлежавших местному царю Амфитриону. Геракл вызвался изловить и убить матёрого хищника, на которого безуспешно охотились самые опытные и отважные воины…
– Вот это поступок достойный настоящего героя и мужчины – бросить вызов льву, несмотря на свою молодость и неопытность! – хлопнул в ладоши Филипп, раздуваясь от гордости за своего легендарного предка!
– Не всё так легко и гладко вышло, как надеялись Геракл и Амфитрион, – заулыбался Пелопид, уже смирившийся с воинственным менталитетом, а также отсутствием манер и такта у своего юного собеседника. – Пятьдесят дней потребовалось Гераклу, чтобы выследить и убить льва. Всё это время в качестве жеста доброй воли гостеприимного хозяина феспийский царь каждую ночь присылал к Гераклу одну из своих дочерей…
– И сколько же у Амфитриона их было?
– Пятьдесят!
– Ого! – присвистнул македонский царевич, – И ни одного сына?!
– Ни одного! – весело подтвердил фиванский полководец. – За жадность и скупость в отношении священных жертвоприношений боги наказали феспийского царя тем, что его жёны никак не могли зачать сына. Отчаявшись, Амфитрион решил передать свою царскую диадему не сыну, а внуку. Геракл – сын самого Зевса как нельзя лучше подходил на роль зятя. Дабы зачатие прошло благополучно, хитрый Амфитрион посылал всех своих дочерей, которые были похожи друг на друга, как две капли утреней росы.
– И Геракл не заметил подвоха?
– Нет, он думал, что каждую ночь на его ложе приходит одна и та же дева. Лишь когда последняя из дочерей феспийского царя отказалась отдаться Гераклу, твой предок понял, что его провели.
– Чем всё закончилось?
– Геракл стал отцом пятидесяти одного сына! – ещё больше развеселился Пелопид.
Филипп нахмурил брови, мысленно производя в уме арифметические подсчёты:
– Как же так вышло, ведь сорок девять дочерей разделили с ним ложе?
– Самая старшая и самая младшая дочери Амфитриона родили двойню – мальчиков-близнецов! Выходит, мой юный друг, тут – в Феспиях и вообще в Беотии у тебя, возможно, найдутся родственники! – расхохотался Пелопид. – А та дочь феспийского царя, что отказала твоему предку в близости, в отместку за строптивость стала первой жрицей-девственницей святилища Геракла.
– Вот это справедливо! – одобрительно закивал Филипп.
– Могу обрадовать тебя ещё больше, – таинственно подмигнул Пелопид, – кое-кто из феспийцев утверждает, что Геракл овладел всеми дочерями Амфитриона сразу же в одну ночь!
– Вполне возможно, что именно так и было! – с важным и всезнающим видом воскликнул македонский юноша. – Герой великий – он во всём герой, в том числе на ложе страсти!
– В Феспиях твой предок не только стал многодетным отцом, – продолжал улыбаться Пелопид. – Убив огромного льва, Геракл на память об этой победе содрал с хищника его толстую шкуру, сделав её своим доспехом. Голова убитого льва – чрезвычайно крепкая и прочная служила Гераклу шлемом, который не мог разрубить ни один топор или меч. Ну, на сегодня, пожалуй, вполне достаточно вина и поучительных историй. Нам нужно выспаться как следует, ведь завтра к полудню мы уже будем в Фивах Семивратных!
– Почему Фивы ты называешь Семивратными? – задал свой последний в эту ночь вопрос Филипп.
– На просторах Ойкумены есть три города, что носят название Фивы. Самые древние Фивы находятся в Египетском царстве. Хвастливые египтяне утверждают, что этот город венчают целых сто ворот! Это неправда, ворот в египетских Фивах не более десятка. Вторые Фивы Беотийские – это мой родной город, в который ведут семь искусно выполненных мастерами-архитекторами ворот. Есть ещё третьи Фивы – маленький городок, расположенный на берегу Пагасейского залива39. Чтобы различать греческие и египетские Фивы между собой, мой родной город именуют Фивы Семивратные.
Глава II. Неизвестные грани греческих устоев и бытия.
I
Только к вечеру нестерпимая жара пошла на спад. Беспощадно палящее солнце утратило свою прежнюю силу и медленно направилось к линии горизонта, периодически попадая в скопления облаков. С окрестных гор, покрытых кустарниками, и зелёных рощ, расположенных в низинах, образованных петлями рек, робко повеяло вечерней прохладой.
Жар и зной сменились приятной теплотой. На закате Фивы Семивратные неожиданно ожили полноценной и бурлящей жизнью, присущей могущественному полису – самому большому по площади и количеству жителей во всей Беотии.
Фиванцы устремились к спасительным прохладным водам главных городских рек – Дирки и Исмена. Их русла впадали в искусственный бассейн, сооруженный в центре города. Этот бассейн назывался источником Ареса, наречённого в честь жестокого бога войны.
Столпотворения также возникли у прохладного источника, носившего имя легендарного царя Эдипа. Те, кто желал окатиться самой холодной водой, направились к водопроводу, собиравшем воду из окрестных высокогорных Киферонских источников.
Охладившись, фиванцы разбрелись по улицам своего города, посвящая себя привычному вечернему досугу. Наибольшее оживление наблюдалось в самом центре города – на главной площади и близ театра, где полных ходом шла подготовка к представлению.
Молодёжь разбрелась по беседкам, расположенным в тенистой прохладе городских фруктовых садов и цветников. Жрецы и прочие служители культа поспешили в храмы, готовиться к предстоящим важным религиозным празднествам. Главными святилищами Фив считались алтарь Афины и храм Аполлона Исменийского.
Афина у всех без исключения греков почиталась особенно. Она входила в сонм двенадцати величайших богов Олимпа. Эта богиня являлась покровительницей справедливой войны, знаний, искусств, ремёсел, наук, воинского мастерства и стратегии.
Ей также приписывали существенный вклад в изобретение и дальнейшее развитие духовых музыкальных инструментов, кораблестроения, ткачества, сельскохозяйственных инструментов. Именно Афина дала древнейшим грекам первые и важнейшие понятия о государстве.
Она же учредила ареопаг – высший судебный орган и дала эллинам первый свод законов. Афина почиталась, прежде всего, покровительницей государств и городов. По этой причине в каждом греческом полисе и даже в самом захудалом городишке обязательно возводилась статуя и алтарь, посвященной богине.
Греки по характеру своему были слишком честолюбивы, надменны и хвастливы. Каждый полис считал себя самым древним, прославленным, могущественным, влиятельным, богатым и сильным. Даже конкретных богов эллины пытались «приписать» своему городу или близлежащей географической области.
Именно поэтому главные и второстепенные боги Олимпа носили двойные наименования и имели несколько десятков эпитетов. Так, Афине принадлежали пять десятков дополнительных имён и эпитетов. В Фивах её именовали Афина Онкайя. По тем же причинам фиванцы называли Аполлона Исменийским, указывая на то, что данный бог имел отношение к главной местной реке.
Аполлон греками почитался богом солнечного света, предводителем муз и покровителем искусств. Он также помогал врачевателям и прорицателям, а кроме того, оказывал всесильную помощь эллинам, основывавшим свои заморские колонии. Особое покровительство Аполлон оказывал музыкантам, поэтам и лирикам.
Пожалуй, единственным, кто не участвовал в вечерней суете, воцарившейся на улицах Фив, был македонский юноша Филипп. Он, стоя на террасе, сосредоточено и молчаливо смотрел на древний беотийский город, на три последних года ставший его временным прибежищем. За это время Филипп основательно изучил Фивы и его окрестности, потеряв к ним первоначальный интерес.
Однако было в городе одно строение, которое всегда приковывало к себе внимание юноши-чужеземца. Взгляд юноши вновь и вновь охватывал и скользил по акрополю Кадмея – монументальной древней цитадели, названой в честь своего царя-основателя. Именно с возведения Кадмеи и началась история Фив много столетий назад.
Основание города приписывали легендарному царю Кадму. Он же, согласно местным верованиям и преданиям, дал фиванцам и прочим беотийцам государственное устройство и законы. Царь Кадм помог обрести эллинам свою письменность. Он же научил греков добывать медь. В благодарность фиванцы нарекли свою цитадель и самую древнюю часть города в честь Кадма.
Филиппу нравилась Кадмея своей монументальностью, холодной мощью, внешней неприступностью, многовековым величием и суровой красотой. На его родине – в горной и суровой Македонии подобных строений не было. Ах, как хотелось бы, чтобы точно такие же цитадели возвышались во всех македонских городах!
II
– Благородный Филипп верен себе, как всегда! – послышался за спиной голос хозяина дома. – На восходе и закате ты обозреваешь Фивы, уподобляясь при этом мудрецу, сочиняющему самую важную часть своего философского трактата!
Филипп обернулся. Перед ним стояли два знатных фиванца, облаченных в дорогие одеяния. Первым был хозяин дома – зрелый муж статного телосложения – именитый стратег Паммен, а второй – златокудрый юноша Агейптос. Эта пара не разнимала своих страстных объятий, не оставляя сомнений относительно того, какие именно между ними существовали близкие взаимоотношения.
За несколько месяцев своего пребывания в Фивах македонец достаточно хорошо познал нравы, обычаи, моральные ценности и устои эллинского общества, в том числе и самой знатной аристократической верхушки. Многие причуды и диковины греков Филиппа перестали изумлять, смешить или отталкивать. Однако к открытым любовным связям двух мужчин или зрелого мужчины и юноши македонец никак привыкнуть не мог.
Такие вещи на его родине не только не приветствовались, но и сурово наказывались в рамках строгих традиций предков. Македонские мужчины могли быть лучшими друзьями, соратниками воинами или охотниками. Они могли быть собутыльниками, ворами или даже бездельниками, но никак не любовниками.
Эллины же на эти взаимоотношения смотрели совершено иначе. Женщина греками воспринималась как существо несравненно низкое нежели мужчина. Главной обязанностью женщины было воспроизведение детей, их вскармливание и первоначальный уход за ними. На плечи женщины также ложились все заботы о ведении домашнего хозяйства.
Женщины не посещали спортивных состязаний, им редко доводилось бывать в театрах и на религиозных празднествах. Женщины не получали разностороннего образования, не разбирались в поэзии, философии, точных науках. Женщин не допускали к управлению полисом и вопросам, связанных с войной, политикой и экономикой.
Одним словом, греческие женщины не могли выполнять роль товарища, собеседника, гражданина, представителя благородных профессий, героя-защитника. Вот почему эллины, проводя большую часть времени среди исключительно настоящих и благородных мужей, находили в их лице не только близких по духу друзей, но и партнёров для плотских утех.
– Мы собираемся в театр, – радостно сообщил Агейптос. – Не желаешь ли присоединиться к нам? Сегодня разыгрывают трагедию Софокла «Царь Эдип», я так её люблю!
– Благодарю за приглашение, – склонил голову Филипп, – но я сегодня хочу посмотреть вечернюю тренировку «Священного отряда».
– Воинские доблести тебе более интересны, нежели трагическая история царя Эдипа, так много сделавшего для величия и процветания Фив? – непонимающе воскликнул златокудрый юнец.
– Я – македонец! – гордо вскинул подбородок Филипп. – А для любого жителя Македонии – воинская наука превыше всего! Кроме того, я уже видел театральное представление про Эдипа во время недавнего празднества урожая. Благородный и всеми почитаемый главный стратег фиванский Эпаминонд лично пригласил меня на сегодняшние занятия. Я не могу нарушить данные ему обещания.
– Хорошо, Филипп, – благодушно потеребил свою окладистую бороду Паммен, – проведи сегодняшний вечер в кампании лучших и знатных мужей фиванских! За всё то время, что ты находишься в Фивах, я, гостьи этого дома и учителя детей моих многому научили тебя. Ты довольно сносно выучил литературный язык и письменность эллинов, познакомился с поэзией, географией, философией, военными и инженерными науками. Ты познал обычаи наши, пристрастия, досуг, религию и образ жизни нашей. Однако в душе ты так и остался истинным воином. Вижу в тебе задатки будущего большого предводителя македонского народа. Но чтобы им стать в полной мере потребуется от тебя много усердия и прилежания. Тяжкая и смутная пора нынче на твоей родине, Филипп. И, пожалуй, ты прав, что в данный момент предпочитаешь песок учебной арены походу в театр! Ступай на тренировку и передай мои наилучшие слова уважения и почтения благородному Эпаминонду!
III
Паммен и Агейптос удалились в сторону театра, а Филипп продолжил обозревать закат, ожидая, когда жара спадёт окончательно. Македонскому царевичу неожиданно вспомнилось, как он впервые оказался в доме Паммена.
Радушный и гостеприимный Пелопид настаивал на том, чтобы Филипп остановился в его просторном доме, но юноша не пожелал для себя льготных условий и повышенной комфортности проживания.
В качестве компромисса Филипп согласился поселиться в доме Паммена, который по своим размерам и богатому убранству уступал жилищам Эпаминонда и Пелопида. С первых же шагов по своему новому временному пристанищу македонский гость окунулся в череду бесконечного удивления, изумления и недоумения.
Жизнь каждого греческого полиса, в том числе и Фив Семивратных, начинался с восходом солнца. Первый раз фиванцы, как и прочие греки, завтракали сразу после пробуждения, употребляя несколько кусков хлеба и разбавленное водой вино. Второй завтрак происходил ближе к полудню.
По объёму еды и количеству блюд он больше соответствовал обильному обеду. Обедали греки ближе к вечеру, когда жара и зной начинали спадать. Беотийцы, как и прочие эллины, редко трапезничали в одиночестве, предпочитая превращать обедни в длительные и затяжные посиделки.
Наскоро перекусив, каждый гражданин – мужчина, достигший восемнадцати лет, в обязательном порядке приступал к исполнению своих профессиональных занятий и обязанностей. Ему надлежало принимать участие во всех общественных и религиозных мероприятиях.
В перерывах между делами греки обедали, устраивали игры и спортивные состязания, упражнялись на специальных гимнастических площадках. Вечером мужчины сбирались на совместные ужины, чтобы обсудить дела дня прошедшего. Ремесло считалось у эллинов уделом простолюдинов и людей, «озабоченных добыванием хлеба насущного».
Истинные и уважающие себя греки, прежде всего, стремились посвятить себя общественно-политической жизни своего полиса. Мужчины большую часть своего времени предпочитали проводить на Агоре – центральной рыночной площади Фив. Агора имелась в каждом греческом полисе.
Среди торговых рядов Агоры и в прилегающих к ней зданиях граждане фиванские занимались политическими дискуссиями и дебатами, одновременно участвуя в делах торговых, слушая речи ораторов или мудрствования, прогуливавшихся мимо философов.
Свой досуг фиванцы, как и прочие греки, проводили за трапезами. Нередко они перерастали в пышные пиры и попойки, где употреблялось креплёное и неразбавленное вино. Ежедневно беотийские мужчины посещали общественные бани и купальни, приглашая на совместные омовения местных жриц любви.
Культ красоты и гармонично развитого тела был одной из основ культуры Эллады. Греки почитали себя самыми красивыми и совершенными людьми тогдашней Ойкумены, о чём постоянно и громогласно заявляли повсюду. Мужчины ежедневно тренировались, формируя мускулатуру, занимаясь бегом, тяжёлой атлетикой, борьбой, кулачными боями, метанием копья или диска.
Огромное внимание греки уделяли своей одежде и причёске. И мужчины, и женщины несколько раз в неделю посещали парикмахерские, где уже в те времена применялись завивки, парики, наращивание волос, парфюмерия и косметика.
В отличие от простых македонцев, которые для одежды использовали шкуры животных и грубые ткани, греки, проживавшие в сухом и жарком климате, предпочитали облачаться в лёгкие просторные одеяния.
И мужчины, и женщины носили хитоны – короткие туники, закрепляющиеся на плечах застёжками и завязками. Облачались они и в гиматии – плащи в виде прямоугольного отреза шерсти, драпирующегося в свободной манере. К одному из плеч он прикреплялся при помощи застёжки.
Женская туника – пеплос изготовлялась из шерсти или льна, а к телу прилаживалась при помощи фибул или швов. Греки предпочитали ходить босиком. Лишь отправляясь в дальнюю дорогу, они надевали войлочную или соломенную шляпу с широкими полями и деревянные сандалии с кожаными ремешками.
IV
Однако более всего Филиппа поразили не обычаи или традиции, не нравы или обывательские устои греков, а их межличностные отношения. Македонский гость буквально был шокирован тем, что хозяин дома – Паммен этот зрелый и прославленный знатный муж фиванский не имел семьи, открыто сожительствуя с юношей, годившимся ему в сыновья.
Вскоре Филипп узнал ещё одну изумившую его подробность. Его лучший друг – Пелопид также был абсолютно равнодушен к женщинам. У него, достигшего пятидесятилетнего рубежа, не было ни жены, ни детей. Более того, с юных лет Пелопида и Эпаминонда связывала не только крепкая дружба, но и продолжительные интимные отношения.
Выяснилось, что и у Эпаминонда нет и никогда не было семьи. Свои самые глубокие и нежные чувства прославленный военачальник питал к представителям мужского пола. Много лет он имел любовную связь с Пелопидом, а затем разделял ложе с более юными фиванскими воинами.
После того, как в одной из битв со спартанцами погиб один из последних возлюбленных Эпаминонда, полководец длительное время пребывал в одиночестве и в подавленном состоянии духа. Ещё сильнее поразило Филиппа известие о том, что многие фиванские юноши и молодые воины всеми способами старались добиться взаимности от Эпаминонда.
Вообще близкие и недвусмысленные отношения между мужчинами Фив были заметны повсюду, поскольку однополые пары практически не скрывали свою привязанность друг к другу. Непроизвольное порицание и негодование вызвало у Филиппа наличие и процветание в греческих городах весьма востребованной профессии – мужской проституции.
Паммен довольно быстро заметил, что его македонского гостя шокируют общепринятые в греческом обществе любовные связи, царившие среди зрелых мужчин и совсем ещё юных граждан. Чтобы смягчить неприязненное отношение Филиппа к подобным однополым отношениям, являвшимися практически нормой в тогдашнем греческом обществе, Паммен решился на серьёзный разговор.
– Я вижу, что тебя, Филипп, крайне удивляют и часто возмущают частные особенности и подробности настоящей мужской дружбы, – осторожного заговорил Паммен, стараясь подбирать нужные слова для освещения столь деликатной темы: – Но в моих отношениях с Агейптосом нет ничего пошлого или постыдного!
– На моей родине за совращение юноши более старшим мужчиной непременно последует суровое наказание, – нахмурился македонский царевич. – Соблазнителя-развратника, скорее всего, побили бы камнями!
– Но в нашем союзе нет разврата или похоти, нет принуждения! – взволновано воскликнул Паммен, взмахнув руками. – Мы обрели друг друга по взаимному согласию и глубочайшей симпатии, которая зародилась между родственными сердцами!
– А родственники Агейптоса как относятся к вашему союзу? – подозрительно, но уже менее враждебно осведомился Филипп.
– С полным понимаем и радушием, – искренне и с оттенком тайной гордости заявил фиванский военачальник. – Хвастовство и самолюбование не красят истинного эллина, но я – вхожу в число десяти наиболее уважаемых и почитаемых граждан Фив. По этой причине моего расположения добиваются многие. Пойми, мой юный друг, меня и Агейптоса объединяет отнюдь не стремление к удовлетворению похоти. Прежде всего, наш союз спаян духовной связью.
– Это как? – в очередной раз усомнился Филипп.
– Во многих полисах Эллады издревле практикуется наставничество, – фиванский военачальник терпеливо и подробно принялся издали подводить своего недоверчивого собеседника к главной сути разговора. – В Македонии юноша вступает во взрослую жизнь убив своего первого вперяя на охоте и сразив врага в бою, а в Греции отрок становится на путь зрелого мужа по достижении двенадцати лет. В столь молодом возрасте юноше просто необходим наставник и учитель, который подготовил бы его ко вступлению в полноценную взрослую жизнь. Именно такой опытный наставник и должен со временем превратить несмышлёного отрока в полноценного гражданина.
– А нельзя воспитать из неоперившегося юнца полноценного воина и гражданина, не разделяя с ним ложе? – у Филиппа был очень большой запас внутреннего неприятия и отрицания гомосексуальных связей.
– Наставник, которого называют эрастисом, то есть любящим, никогда против воли своего воспитанника – эроменоса не вступит с ним с телесную близость, – горячо заверил Паммен. – Эроменос означает возлюбленный, но любовь необязательно бывает плотской. Это может быть и более высокая любовь, как отца к сыну, например. Наставник и его подопечный разделяют ложе исключительно по взаимному согласию, скрепляя таким образом свой духовный союз. Тех гнусных развратников, что совращают юношей ради насыщения похоти, наказывают самым строжайшим образом, вплоть до лишения гражданства и вечного изгнания из отечества!
– А как же мужчины, занимающиеся проституцией!? – с плохо скрываемым возмущением воскликнул Филипп. – Если достигший совершеннолетия юнец не стал воином или в крайнем случае ремесленником – это сурово порицается македонским обществом. На худой конец, лучше сделаться пастухом или землепашцем, чем продавать своё тело похотливым развратникам. Мужчину-проститутку, вне всякого сомнения, надо гнать прочь из родного отечества, а лучше забить его камнями или палками!
– В Греции каждый зарабатывает как может и как умеет, лишь бы заработок этот не был связан с нарушением законов, – ответил Паммен. – Мужчина, занимающийся проституцией, порицаем и многими презираем в нашем обществе. Такому человеку никогда не откроют двери в приличном доме, его никогда не признают полноправным гражданином и не привлекут ни к каким общественным делам.
– У нас – в Македонии молодежь воспитывают отцы, старшие братья, старейшины, а затем опытные воины и командиры, – горделиво заявил Филипп. – И без наставников, и без учителей, и без эрастисов македонцы вырастают надёжными товарищами, верными помощниками царя и отважными воинами!
– Не в обиду будет сказано, но пока воины македонские по степени выучки своей и достижениям на полях сражений значительно уступают фиванцам, – осторожно заметил Паммен. – Ещё заметнее превосходство над македонскими бойцами воинов Спарты, а ведь к каждому истинному спартанцу в обязательном порядке ещё с отроческой поры прикрепляется наставник.
– Вот тут ты совершено прав, благородный Паммен, – неохотно, но открыто и искренне признался македонский царевич. – Мои земляки сильно отстают в своей боевой выучке от эллинов. Уже убедился я окончательно, что и войско македонское намного слабее греческих армий, и способы ведения войны наши куда менее эффективные, чем у фессалийцев и беотийцев. Но ведь не зря же жребий судьбы привёл меня в Фивы! Мне выпала уникальная возможность обучиться воинскому искусству и ремеслу у тебя, Пелопида и самого Эпаминонда! А что касается обычаев и нравов, то не мне – заложнику из дальней державы, которую некоторые эллины считают варварской, судить моральный облик людей, у которых нашёл я достойное пристанище, почётное обхождение и столь радушный приём.
Глава III. Азы воинского ремесла и полководческой науки.
I
Слова Филиппа, касающиеся его большого желания обучаться у Пелопида и Эпаминонда, не были пустой бравадой или сиюминутным порывом юношеского максимализма. В уме царевича уже давно созревал план превращения македонской армии в сильную военную организацию равную по своей мощи фиванскому, афинскому или спартанскому войску.
И начал реализацию своей масштабной реформы Филипп с самого себя. Любая армия зиждется на простых воинах. Вот и решил македонец прежде всего лично обучиться самому тем приёмам и манипуляциям, которыми владели все без исключения рядовые беотийские воины.
Желание обучаться наравне с фиванскими юношами-призывниками фехтованию мечом, метанию копья и кинжала, защите щитом, верховой езде и стрельбе из лука вызвали у Паммена и Пелопида бурное восхищение и уважительное одобрение.
На первой же совместной тренировке с фиванскими воинами Филиппа ждало неожиданное открытие. Копьё фиванское оказалось на локоть40 длиннее всех прочих греческих копий, да и македонских тоже. Чтобы не ошибиться в своих промерах, Филипп тщательно измерил десяток боевых и учебных копий.
По строение своему фиванское копьё ничем не отличалось от прочих копий. На прочное, гибкое и довольно лёгкое ясеневое древко плотно нанизывалось железное или бронзовое остриё. Для более надёжной фиксации острия использовалось специальное скрепляющее кольцо.
На самом конце древка имелся специальный металлический наконечник, с помощью которого копьё надёжно вонзалось при необходимости в землю. Обычное греческое копьё весило не менее двух килограммов, а длина его превышала два с половиной метра. Длина фиванского копья, соответственно, составляла более трёх метров.
Македонский царевич тотчас хотел поделиться своим открытием и спросить Паммена, отчего так вышло. Однако внутренний голос подсказал Филиппу, что не стоит огласке придавать обнаруженный факт, поскольку честного ответа на свой вопрос услышать не придётся.
Довольно быстро Филипп и сам догадался, почему фиванцы и беотийцы увеличили длину древка. Внимательно наблюдая, и по возможности участвуя в тренировочных боях, македонский заложник сам ответил на возникшие у него закономерные вопросы.
Более длинное древко копья давало возможность первым нанести разящий удар по противнику, до того как тот в свою очередь достанет до тебя своим ответным выпадом. Фиванская фаланга, ощетинившаяся такими более длинными копьями способна сдерживать врага на безопасной для своих воинов дистанции, нанося противнику урон, оставаясь в относительной безопасности.
Удлиненное фиванское копьё весит больше, чем прочие греческие аналоги. На большую дистанцию фиванское копьё не метнёшь, зато при броске на короткой дистанции его убойная сила будет гораздо сильнее и разрушительнее.
Полностью пройдя курс «молодого фиванского бойца», Филипп выпросил уже у самого Эпаминонда разрешение присутствовать, а по возможности и участвовать в тренировках и занятиях «Священного отряда» – самого элитного подразделения Беотийского союза.
С момента появления первых профессиональных армий в полисах Древней Греции элитой эллинских войск считалась царская гвардия. В неё набирали наиболее прославленных, физически крепких, отважных бойцов-профессионалов, имевших богатый боевой опыт, а также внушительный «список славных ратных деяний и подвигов».
Уже много веков Фивы и Беотия не признавали над собой царской власти. Однако гвардейские традиции в беотийском войске сохранилась. Самое прославленное и элитное подразделение не только Фив, но и всей Беотии именовалось «Священным отрядом». Его численный состав равнялся трём сотням отборных всадников.
Воины отряда носили полный комплект бронзовых лат, мускульных кирас, наплечников, поножей, наручей и налокотников. Каждый боец в бою надевал специальный шлём из почерненной бронзы, увенчанный особым конским плюмажем, а также носил отличительный плащ.
Каждый воин «Священного отряда» превосходно владел мечом, копьём, кинжалом, щитом, а кроме того, неплохо стрелял из лука и метал дротики. От каждого беотийца, принятого в отряд, требовалось не только мастерски сражаться в пешем строю, но и умело действовать в конном строе.
На счету «Священного отряда» были славные и эпические победы над профессиональными армиями и подразделениями самых могущественных полисов и государств Эллады. Бойцы отряда внесли решающий вклад в победы над войсками Афин, Коринфа и даже легендарной Спарты, чья тогдашняя военная организация считалась эталоном всесокрушающей мощи и непобедимости.
Всё в выучке, организации, подготовке, экипировке «Священного отряда» было по душе Филиппу. Однако македонца смущали, а порой брезгливо вводили в недоумение и тайное порицание принципы его комплектования и обряд посвящения новобранцев.
Дело в том, что «Священный отряд» состоял из ста пятидесяти пар возлюбленных знатных фиванских мужей. А приносили новобранцы клятву верности отряду и соратникам на могиле Иолая – самого известного из всех многочисленных возлюбленных Геракла.
Первоначально эти особенности буквально шокировали Филиппа. Однако Паммен, сам длительное время состоявший в «Священном отряде», постарался наиболее доходчиво объяснить, почему всё сложилось именно таким образом.
– С незапамятных времён греки выходили на бой общинами. Однако дальние родичи, земляки-горожане и соплеменники никогда не станут сражаться столь отчаянно и неистово, как любящие друг друга мужи. У общинников полиса слишком разные заботы и чаяния даже на поле брани перед лицом общего врага. Мужи отряда ради спасения своего возлюбленного пожертвуют жизнью своей. Они никогда не выкажут трусости или недостойного поведения на глазах своего побратима, с которым делят ложе. Движимые любовью друг к другу, состязанием в мужестве и стойкости, подобно героям времён легендарной Трои, воины «Священного отряда» приложат все усилия к победе или достойной погибели!
Эти пламенные слова Паммена несколько обескураженный тогда Филипп запомнил хорошо. В конце концов, какая разница, в каких отношениях состоят бойцы отряда, и кто из них с кем делит своё ложе. Самое главное, что на поле боя эти фиванцы неистовы, монолитны и неустрашимо следуют путём личной славы и всеобщей победы беотийского войска.
Бойцы «Священного отряда» тренировались дважды в сутки вне зависимости от климатических особенностей, семейного положения, состояния здоровья, религиозных празднеств. Только две причины считались уважительными для пропуска занятий – смерть и тяжёлое ранение.
II
На первой вечерней тренировке, к участию в которой допустили македонского царевича, лично присутствовал сам Эпаминонд. Он носил титул архистратига – главнокомандующего объединенными силами всей Беотии. Кроме того, Эпаминонд являлся беотархом – высшим государственным должностным лицом полиса, избираемым сроком на год путём народного голосования.
Много раз Филипп ловил себя на мысли, что внешний облик Пелопида никак не вяжется с его ореолом непобедимого и легендарного полководца. Фиванец был невысок ростом, хоть и очень крепок в плечах. Он не имел атлетической фигуры, присущей олимпийским атлетам, увенчанных горами рельефных и утончёно очерченных мускулов.
Лицо Эпаминонда излучавшее добродушие, высокий интеллект и печальный оттенок военного жизненного опыта, более всего подошло бы философу или сочинителю. В больших карих глазах полководца, в его взгляде, лишенном каких-либо пороков и скрытых жестоких наклонностей, отражалась задумчивость и склонность к глубокому анализу происходящей действительности.
И Пелопид, и Эпаминонд слыли живыми легендами не только Фив и Беотии, но и всей Эллады. Более полувека сильнейшим государством Греции по праву считалась могучая Спарта. Власть её была настолько велика, а политическое влияние распространялось столь далеко, что в акрополе Кадмея на постоянной основе находился спартанский гарнизон.
Эпаминонд и Пелопид с верными соратниками не только изгнали спартанских воинов из акрополя и Фив, они подняли народ на борьбу с продажными олигархами. Спартанское наместничество было ликвидировано, а олигархический режим низложен. Фивы стали управляться по прогрессивным демократическим принципам.
Спартанцы не пожелали мириться с таким положением дел. Между Лакедемоном (именно так фиванцы называли чаще всего Спартанское государство) и Беотией вспыхнула многолетняя война.
Ровно десять лет назад во встречной битве близ города Тегира спешенный «Священный отряд», возглавляемый Пелопидом, при поддержке нескольких десятков всадников одержал победу над спартанцами, имевшими пятикратное преимущество.
Лакедемоняне были разбиты и обращены в бегство, а главные спартанские командиры погибли. Эта победа принесла всенародную славу Пелопиду и очень обозлила спартанцев. Прошло ещё четыре года и противоборствующие стороны сошлись в решающей и самой масштабной битве близ беотийского городка Левктры.
Объединенное войско Беотии возглавлял Эпаминонд. Он нашёл отличное средство для нейтрализации спартанской непобедимости. Фиванский стратег изменил привычное построение традиционной греческой фаланги – классического боевого построения эллинов.
Эпаминонд многократно усилил один из своих флангов, нанеся им решающий удар по наименее защищенному и стойкому участку спартанского строя. На острие решающего и сокрушительного удара находился «Священный отряд», вновь возглавляемый Пелопидом.
Войско Спарты было разбито, на поле боя среди тысячи павших оказались самые знатные мужи Лакедемона, в том числе и царь Клеомброт. Трёхвековой ореол непобедимости навсегда был утрачен спартанской армией.
Эпаминонд и Пелопид после совместного триумфа у Левктр стали национальными героями. Но намного раньше их боевая дружба переросла в длительную интимную связь, вызывавшую понимание и одобрение высших правящих фиванских кругов и местной аристократии.
А война тем временем продолжалась. Потерпевшая тяжелейшее поражение Спарта в отчаянии обратилась за помощью к своим давним и непримиримым врагам – Коринфу, Афинам и даже к персидскому царю. Ни Персия, ни прочие полисы Эллады не желали усиления Беотии и надвигающейся гегемонии Фив.
Именно по этой причине Эпаминонд на каждом собрании беотархов неизменно возвращался к настойчивому требованию не только не уменьшать объём средств, выделяемых на военные нужды, но и увеличить размер пошлин, взимаемых с фиванских граждан для выплаты жалования фиванским воинам и наёмникам.
– Зачем тратить лишнее серебро на уже выигранную войну!? – недоуменно пожимали плечами земляки и соратники полководца. – Не лучше ли употребить эти деньги на празднества, которые граждане Беотии заслужили сполна!?
– Спарта проиграла лишь битву, но не войну, – сокрушёно увещевал Эпаминонд своих недальновидных соплеменников, желавших променять поскорее тяготы войны на длительное хмельное веселье. – Пока хотя бы один лакедемонянин способен держать в руках своих оружие, Спарта не признает своего поражения!
Фиванцы в ответ беззаботно махали руками, намекая на то, что прославленный полководец плохо разбирается в большой политике. Однако очень мрачные прогнозы Эпаминонда сбылись.
Правящие круги Спарты, не имея возможности собственными силами на равных противостоять Беотийскому союзу, пошли на отчаянный, но сильный политический ход. Цари и старейшины Лакедемона отправили своих послов к самому могущественному из восточных правителей – персидскому владыке Артахшассе II.
В переводе с древнеперсидского языка имя Артахшасса переводилось как «властелин праведного царства». Для греков имя персидского монарха оказалось слишком трудным в плане произношения, поэтому они называли его на свой лад – Артаксеркс.
Те же самые эллины прозвали персидского царя Мнемоном – то есть «памятливым», отдавая дань феноменальной памяти Артаксеркса и его незаурядным интеллектуальным способностям.
Спартанцы возлагали большие надежды на союз с Артаксерксом Мнемоном, планируя получить от него если не военную помощь, то хотя бы солидные финансовые пожертвования и боевые корабли.
Владыка персидский в силу своего преклонного возраста не пожелал открыто ввязываться в затяжную войну против самых влиятельных полисов Эллады из-за амбиций Спарты. Артаксеркс предложил выступить посредником при заключении мира между враждующими греческими государствами.
Разумеется, эллины – истинные патриоты, излишне вольнолюбивые и высокомерные, все, как один, категорически отказались от какого-либо вмешательства персов в важнейшие политические вопросы отечества.
Артаксеркс, ожидавший подобного развития событий, ограничился тем, что оказал спартанцам «спонсорскую помощь». На персидское серебро правители Спарты наняли к себе на службу наёмников из удаленных уголков Греции и даже с далёкого острова Сицилия, на котором проживали потомки спартанских переселенцев-колонистов.
Конечно, наёмники не могли заменить вымуштрованных и отлично подготовленных спартанских гоплитов, но теперь Лакедемон мог полноценно продолжать войну, угрожая вторжением в Беотию.
– Что же нам теперь делать? – разводили руками и пожимали плечами растерянные фиванцы, по привычке обращаясь в трудную минуту за советом к Эпаминонду.
– Теперь наш черёд обратиться к Артаксерксу, – сурово заявил согражданам полководец. Увидев недоумение, изумление и даже озлобление на лицах соотечественников, Эпаминонд пояснил свою позицию: – Мы можем ещё десяток лет вести войну, окончательно разорив родные Фивы, а за одно и всю Беотию. К чему нам победа, если лучшие сыны беотийские полягут на полях сражений, а отчизна наша запустеет и обнищает? Мы направим своих послов к Артаксерксу, но не для получения унизительного подаяния. Пусть царь персидский дарует нам полномочия заключить окончательный и всеобщий мир, а гарантами его условий должны непременно стать Фивы!
Беотархам и простым гражданам фиванским идея пришлась по душе, но предложение Эпаминонда сулило огромные трудности и риск посольству, которому предстояло преодолеть огромное расстояние из центральной части Эллады до легендарного Вавилона.
– Кто же возглавит наше посольство? – понуро чесали затылки фиванские архонты и старейшины.
– Я, – тихо, спокойно и отчётливо произнёс Пелопид, ранивший до этого полное молчание. Теперь изумленные взоры беотийских властителей переместились на него. Пелопид поднялся со своего места, чтобы подтвердить свои слова. – Я готов завтра же отправиться к Артаксерксу, если уважаемые беотархи наделяя меня соответствующими полномочиями. Я не сомневаюсь, что благородный Эпаминонд сам превосходно справился бы с дипломатической миссией, но ему нельзя покидать пределы Беотии, ибо спартанская угроза слишком велика и реальна!
К счастью для фиванских беотархов и архонтов послов в далёкую Персию не пришлось назначать привычным методом жребия. Сопровождать отважного Пелопида добровольно согласились сразу два десятка местных патриотов, которых не пугали предстоящие многочисленные трудности и опасности дальнего путешествия.
III
Филиппу было жаль надолго расставаться с Пелопидом. Из всех фиванцев именно этот военачальник больше всего внушал македонскому царевичу наибольшее доверие, уважение и авторитет.
С Памменом у Филиппа также сложились хорошие и доверительные отношения. Однако Паммена более всего интересовали пирушки, театры, ежевечерние сборища болтунов-аристократов, всевозможные развлечения и увеселения, а не воинское ремесло.
К тому же фиванец, в доме которого проживал Филипп, практически никогда не расставался со своим «нежным птенчиком» Агейптосом, всюду появляясь с ним вместе. Неоднократно Филиппу приходилось с негодованием и плохо скрываемым отвращением поспешно покидать свои покои, чтобы не слышать эхо шумных постыдных игрищ Паммена и Агейптоса.
Однажды Филипп набрался смелости и попросил у самого Эпаминонда разрешение на регулярное посещение тренировок «Священного отряда». К величайшей радости царевича фиванский полководец охотно и одобрительно согласился, поддержав инициативу настойчивого чужеземного юноши.
Согласно своему царственному статусу Филиппа в будущем ожидала служба в царской иле, а после неё – командные должности в элитных частях. Однако царевич с упорством, которое часто граничило с упрямством, и лёгкой степенью одержимости решил, что сначала ему необходимо лично самому хотя бы поверхностно ознакомиться с самыми основными воинскими специальностями и родами войск.
Своё обучение Филипп начал в рядах лёгких пехотинцев. С давних времён во всех полисах Эллады легковооруженного воина называли «пельтастом». Это название произошло от слова «пельта» – лёгкого плетёного щита, которым обязательно защищался каждый пехотинец.
Такой щит изготовлялся из дерева, его обтягивали несколькими слоями сырой кожи. После полной просушки она намертво стягивала детали, предельно повышая его прочность. Если «пельту» пробивал вражеский меч или копьё, то оружие противника почти всегда застревало в щите.
Лёгкая пехота имела на вооружении луки, пращи, дротики, копья, облегчённые щиты, а вот доспехи могли позволить себе только командиры «пельтастии». Отдельными отрядами лёгкой пехоты являлись застрельщики – метатели дротиков, стрелки из лука и пращники.
Пращники метали камни или куски свинца весом от 30 до 70 грамм на расстояние до 300 метров или более. Лучники поражали цель на дистанции до 150 метров. Метатели дротиков могли поразить противника со ста шагов. Число лучников в греческих армиях было очень мало по сравнению с количеством пращников и метателей дротиков.
До последнего времени эллины пренебрежительно относились к пельтастам, считая их третьесортным родом войск. Однако благодаря новациям афинского стратега Ификрата (того самого, что неудачно осаждал Амфиполь) лёгкая пехота получила своё второе рождение.
Афинский полководец на полях сражений доказал, что хорошо обученная и экипированная лёгкая пехота при поддержке фалангистов и конницы способна наносить неприятелю существенный урон. Бывали случаи, когда успешные и напористые действия пельтастов заранее предрешали победный исход сражения.
Филипп довольно быстро обучился основным приёмам владения копьём и способам защиты при помощи «пельты». А вот чтобы овладеть первичными навыками метания камней из пращи, прицельной стрельбы из лука и метания дротика македонскому царевичу потребовалось несколько месяцев ежедневных многочасовых тренировок.
А вот проходить начальный курс обучения всадника Филиппу не пришлось. Юноша владел искусством верховой езды и конного боя практически на одном уровне с лучшими фиванскими конниками.
Дело в том, что кавалерия, как самостоятельный род войск, в Древней Греции так и не получила должного развития. Во-первых, достать хорошую боевую лошадь в исконных землях Эллады было весьма непросто, при этом для покупки её требовалась внушительная денежная сумма.
Во-вторых, содержание коня и в мирное, и в военное время также стоило немалых средств. В-третьих, те граждане, что могли позволить себе купить и содержать лошадь, чаще всего предпочитали сражаться в составе элитной пехоты. Конница обычно использовалась в ходе боевых действий греками в качестве разведки, а на поле боя для охраны флангов главного боевого построения – фаланги.
Классическая греческая фаланга – это монолитный и, соответственно, малоподвижный строй, в котором тяжеловооружённые воины – гоплиты сражались плечом к плечу. Именно о стальную мощь греческой фаланги разбились все многочисленные попытки персов подчинить своей воле полисы Эллады.