Филологические сюжеты
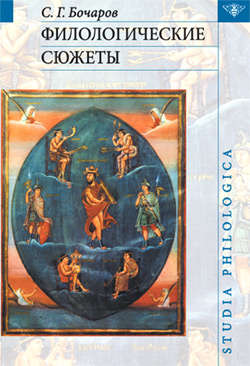
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
С. Г. Бочаров. Филологические сюжеты
От автора
Пушкин
«Заклинатель и властелин многообразных стихий»
«Форма плана»
«Всё же мне вас жаль немножко…» Заметки на полях двух стихотворений Пушкина
О смысле «Гробовщика»
Бездна пространства
Случай или сказка?
Отступление. «Le Rouge et le Noir»
Отступление. «Вий»
Сюжеты русской литературы
«Красавица мира» Женская красота у Гоголя
Вокруг «Носа»
Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной истории
Пустынный сеятель и великий инквизитор
«О бессмысленная вечность!» От «Недоноска» к «Идиоту»
Тютчев: Россия, Европа и Революция
Заметки к теме «Леонтьев и Фет»
Чехов и философия
Петербургское
Петербургский пейзаж: камень, вода, человек
Петербургское безумие
Из двадцатого века
Архитектурное в книге Пруста
«Европейская ночь» как русская метафора: Ходасевич, Муратов, Вейдле
Об одном стихотворении Ходасевича
А мы, Леонтьева и Тютчева… Об одном стихотворении Георгия Иванова
На Аптекарский остров… По поводу «Первой книги автора» Андрея Битова
«Карамзин» Петрушевской
О филологах нашего времени
Бахтин—филолог: книга о Достоевском
Вспоминая Лидию Яковлевну
Идея обратного перевода (А. В. Михайлов. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 1999)
«Мировые ритмы» и наше пушкиноведение По прочтении двух книг Юрия Николаевича Чумакова[923]
Синяя птица Александра Чудакова
Космос В. Н. Топорова
Генетическая память литературы Феномен «литературного припоминания»
Отклики
Как читать прозу (Антон Шварц. В лаборатории чтеца. 2–е изд. М.: Искусство, 1968)[1019]
Добавление 2006 г
Биография и культура[1023]
Вместо биографии – летопись[1024]
Путь Толстого[1028]
Пражско—русско—советский сюжет двадцатого века в трёх разговорах 1920–1945 – 1957–1968 – 1998
Русской музы близнецы[1031]
Юз Алешковский как собственный текст[1032]
Трагедия русской души[1034]
Узкий путь (С. И. Фудель. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. М.: Русский путь, 2001)[1037]
Лирика ума, или Пятое измерение после четвёртой прозы (Андрей Битов. Пятое измерение. На границе времени и пространства. М.: Независимая газета, 2002)[1040]
Март 53–го
На чей глаз и кто в силах?[1041]
«Записки из подполья»: «музыкальный момент» P. S. к статье Александра Суконика[1048]
Первые публикации
Указатель имён
Отрывок из книги
Это слово о Пушкине Аполлона Григорьева было сказано ровно 140 лет назад (в 1859 г.),[2] и мне оно кажется лучшим, что было о Пушкине сказано за полтора столетия.
В эти полтора столетия соперничали и сменяли друг друга два взгляда на Пушкина и два стиля суждений о нём – то, что названо пушкинским мифом, и научное пушкиноведение. Пушкиноведение стало на ноги поздно, уже в нашем веке, а до этого царило вольное размышление над Пушкиным с неизбежной склонностью к сотворению мифа. Начиная с Гоголя, при живом ещё Пушкине: «…явление чрезвычайное… единственное явление русского духа».[3] Формула Аполлона Григорьева, возникшая на пути от Гоголя к Достоевскому, – открыто мифологическая: она наделяет поэта магической властью творца миропорядка, демиурга, культурного героя и возводит Пушкина к древнему архетипу абсолютного поэта – Орфею.
.....
«Онегин» именно построен в «зоне контакта с незавершённой современностью» и поэтому построен как отождествлённый мир романа и жизни. Этот смешанный мир демонстрирует отказ от эпической дистанции, о чём говорит М. Бахтин. В творческой эволюции Пушкина это отказ от дистанции, которая содержалась в самом материале романтических южных поэм. Тема «Кавказского пленника» была целиком современной, но материал отодвигал её на дистанцию. В предисловии к первой главе «Евгения Онегина» автор предвидел, что «станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника». Современный этот характер в романе дан «без дистанции», создававшейся обстановкой Кавказа или цыганского табора.
Однако в этом изображении «без дистанции» заключена особая трудность искусства и его новое противоречие и проблема. Можно даже сказать, что с отказом от выраженной наглядно в самом материале дистанции и возникает проблема дистанции как осознанная задача искусства. Если современный характер – «антипоэтический», то дистанция, создававшаяся материалом Кавказа, делала его «поэтическим». В этом своём качестве герой становился равен поэтическому сознанию автора, речи его не изображались, но прямо произносились поэтом, объективность предмета сливалась с субъектом автора, или, что то же, объективная позиция автора была равна субъективной позиции героя поэмы. Обсуждая «Цыганов», Рылеев и Вяземский хотели большей дистанции для Алеко в его цыганской профессии, недовольные тем, что он ходит по сёлам с медведем: занятие Алеко само по себе должно было быть поэтическим. Такого рода дистанция от случайного, частного опыта, «прозы» сближала, до совпадения, тождества, всё частное и отдельное непосредственно с общим и целым. Специально поэтическая дистанция оборачивалась очень слабым её различением во внутреннем однородном пространстве поэмы.
.....