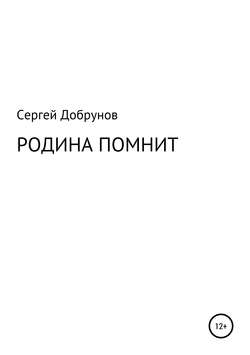Читать книгу Родина помнит - Сергей Дмитриевич Добрунов - Страница 1
Оглавление1.Предисловие
Россия – огромная страна. Необъятная. Самая большая страна в мире. Много районов, городов и деревень в неё уменьшается. В России более ста пятидесяти тысяч сел, более двух с половиной тысяч городов. И они образуют республики, края, области, районы. Каждое село, посёлок, город, район, область имеют своё точное положение на карте Великой Державы.
Миллеровский район вальяжно развалился в верховьях Дона, властно занимая обширную территорию на карте Ростовской области. Есть в этом районе маленькая слобода Криворожье, которая стала источником для создания этой повести. Если ехать от Миллерова на восток, по местами покрытой неплохим асфальтом, а местами по очень плохой дороге, то через километров тридцать появиться указательная табличка о том, что жители сельского поселения Криворожье чтут память Героев Советского Союза Овчинникова В.С. и Маркуца П.А.
Поселение всё-таки какое-то нехорошее слово, будто кто-то сильный и важный взял и поселил здесь людей и в любой момент может взять и переселить их опять куда захочет и насколько захочет. Это слово напоминает тюрьму и принуждение. А слово слобода происходит от слова Свобода. О т него веет вольностью казацкой, независимостью. Так с чем связаны имена Маркуцы и Овчинникова? Со свободой или лишением её?
Я расскажу историю жизни, подвига и смерти этих достойных сынов Родины. А Вы уж решайте, за что они отдали свои жизни за Свободу или за «поселение» своих потомков.
Само Криворожье – уютная слобода, известная ещё задолго до царя Петра, приютилось в низине речки Калитвы у подножия Мазуркиной горы. Уютная летом, укрытая в пышной зелени деревьев, и спрятанная зимой от стужи за могучей спиной Мазуркиной горы, стоит слобода более трехсот лет и проживает со всей Россией все «дни торжеств и бед народных». Есть в Криворожье небольшой парк, где установлены два бюста Героям Советского Союза – майору Овчинникову и старшему лейтенанту Маркуца! Широкая песчаная аллея ведет от входа к постаментам. Стройные крашеные деревья, словно солдатский караул, охраняют Героев. Сочная трава, как зелёный ковёр, устилает парк. У постаментов всегда лежат цветы. А невдалеке от сельского клуба – небольшое кладбище, времени Второй Мировой Войны. Такие кладбища появились в лихие годы той битвы во всех сёлах, слободах и деревнях России от западных границ до самой Волги. Среди ухоженных могил есть одна, в которой лежит майор Овчинников. А вот Маркуца нашёл свой приют после жизни на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге. Там его могила. Маркуца, сын земли Миллеровской, спит вечным сном в Питере, а Овчинников, питерский рабочий, обрёл покой в земле Криворожья. Вот так.
Кто же они, эти люди? Мужчины. Солдаты. Герои. Дети земли Русской. Они сложили голову за свободу, Свободу России. Родина помнит их.
Он сражался за Родину!
Предисловие
В начале января 1943 года, в самые лютые крещенские морозы началось наступление на Южном Фронте: Вешенская, Кашары, Миллерово. Немцы превратили эти посёлки в настоящие крепости. Жестокие бои продолжались и днём и ночью. Оборона немцев, глубоко эшелонированная, всё-таки начала трещать под натиском Красной Армии. Сначала артподготовка, огонь из десятков орудий взрывал почву под ногами фашистов, затем в атаку шли танки и пехота. Так развивалась операция «Сатурн» по разгрому Сталинградской группировки врага.
113 Гвардейский пехотный полк был в составе войск сражавшихся на Среднем Дону. Полком командовал во время этой операции майор Овчинников Владимир Сергеевич, офицер, который начал войну с первого дня на Финской границе, отступал, а теперь вот гнал гадов назад к границе нашей Родины. Отважный и смелый был человек майор Овчинников. В полку его прозвали «Волк» за злобу в бою, за смелость, за бесстрашие. Под деревней Арбузовка завязался тяжелый и неравный бой. Под командой у майора было 25 солдат, а немцев противостояло человек 800, танки, колона машин, орудия, пулемёты, много пулемётов. Но славная получилась схватка. Так может побеждать только Русский Солдат. Двадцать пять пехотинцев убили 500 немцев, триста взяли в плен и всю технику в придачу. Как такое могло быть? Могло ! Потому что Ярость Благородная, вела солдат в бой, потому что месть за зверства клокотала в горле у каждого, потому что « За Родину, за Сталина!» звучало как «колокол на башне Вечевой» и вело в бой, потому что они сражались за жен, за дочерей, за Родину!
Глава 1 Боль.
10 января 1943 года полк подошел к Миллерово со стороны станицы Вешенской, к хутору Ворошиловский, что был на окраине города. Мороз стоял крепкий, лютый был, крещенский. Ночь провели в открытом поле, на мёрзлой земле, при мерцании Крещенского неба. Спали все крепко, вечером в расположение полка привезли горячий ужин, каша с горячим чаем согрели тела и души солдат. Перед сном положено перемотать и просушить портянки. Святое дело – погреть утомлённые ратным трудом стопы у костра, подсушить родимые портянки и намотать их по новой, аккуратно, без складок, в натяг, обуть сапоги, чтоб, в случай чего, вскочить и начать бой. А ноги-то ухожены, в порядке! Затем по последней перед сном затяжке, и, увернувшись в шинель засунув руки в рукава, обняв автомат и завязав уши шапки под подбородком, улечься в детскую позу, прижав колени к груди и спать… Ни мороза ни войны нет во сне. Только Благодать Божия! А утром… утром в бой.
Ворошиловский оказался прикрыт множеством дзотов, откуда «гад» поливал пехоту свинцовым дождём. Дзот – мудрое сооружение Войны по изощрённому уничтожению людей. Артиллерией его уничтожить очень трудно, танк, если раздавит-провалится, гранатой –не всегда пробьешь стену. Тут только пехота справится: подползти близко и расстрелять прямо в амбразуру или вкинуть туда гранату. Много солдат полегло сражаясь в дзотами. Вот и полк Овчинникова только по-пластунски подбирался к городу, к своему Советскому городу на пузе по мёрзлой земле. Фашисты подло вели войну, без чести, без совести. Сам майор одевшись в белый маскировочный комбинезон, полз и полз меж мёрзлых комьев непаханой два года земли, в левом рукаве фуфайки аккуратно уложены три ножа без ручек острием наружу, в душе– ярость, в сердце – отвага, обходил, обползал дзот слева и обполз таки живой. Удар ноги в дверь и сразу вовнутрь, бросок Бертольда-Шварца из левого рукава трех ножей одновременно правой. Яркий свет из двери ослепил привыкших к мраку дзота «гадов» и три сразу вскрикнули и умерли, следом удар ногой в пах того, что был прямо, с разворота правой рукой по шее того, что был справа , упор на правую стопу и удар левой по колену того, что был сзади. Ещё трое взвыли от боли, пошел в ход штык-нож, что спрятан за поясом… И через15 секунд – 10 трупов. Больше времени не дано, если не убьешь всех за 15 секунд, на 16 убьют тебя. Это майор знал как «Отче наш». На 16 секунде заговорил вражеский пулемёт, метая смерть в сторону «гадов». А десять вражеских душ полетели в ад, их дохлые тела остались промерзать во мраке дзота. И пулемёт все говорил и говорил на русском языке отправляя в ад фашистскую нечисть. Полк весь поняв, что это Волк – Овчинников управился с упырями осмелел и через час все десять дзотов были уничтожены. Ворошиловка опять стала Ворошиловской. Словами современных военных зачистка деревни была выполнена на отлично!
Январские дни коротки и к трем часам дня из хмурого сегодня неба начали опускаться сумерки. В «зачищенных» фашистских окопах, что словно рубцы от ножа распороли Донскую землю, бойцы 113 полка отдыхали, ели сухой паёк, курили, поминали погибших. Иногда добивали немцев, что пытались то ли вырваться из города, то ли совершали бессмысленные попытки потеснить Красную Армию, но уже вяло, потому как оборона уже «треснула, лопнула» повсюду, Миллерово ещё не было сдано, ещё не возвращено в число Советских городов, однако взято в крепкое кольцо окружения и освобождение города было делом нескольких дней. Ком.полка и два автоматчика пошли вглубь длинного и извитого окопа с целью оценить положения полка. Из землянки, справа в окоп, из вечернего мрака, словно как чёрт из преисподней, вдруг выскочил молодой немец, то ли пьяный то ли контуженный, но перепуганный точно. Он уже поворачивал свой «Шмайсер» в сторону русских, но пуля из ТТ майора оказалась быстрее и влупила немцу в правое плечо, вторая легла в грудь чуть ниже. Он упал. « Не убил, – понял Волк, – Ведь пацан совсем,– и добивать не стал, – До конца окопа далеко ещё и что там не известно, нужно патроны поберечь». Переступили через обмякшее тело и пошли дальше. Через несколько шагов Овчинников обернулся и уже направлял свой ТТ на лежащего, но на него смотрел ствол «Шмайсера» и дикие глаза фашиста. Ряд плевков изрыгнул «Шмайсер», майор даже увидел выхлоп дыма из ствола и ощутил удар в грудь справа сбоку. Вдруг стало темно. ППШ автоматчика, тоже получившего пулю в левую ногу, подавил огонь «Шмайсера» и жизнь фашиста, в котлету изрубив лицо гада. Обернувшись, солдат увидел лежащего на земле окопа майора с изорванной шинелью на правом боку и спине, из дыр пульсом билась кровь. Второй солдат смотрел в темнеющее небо застывшими глазами, в шее и на лбу были две дырочки из которых кровь не текла. На звук выстрелов подоспели наши, стрелявший сидел на дне окопа и ремнем перетягивал раненное бедро
– Майор жив, ещё жив, видишь кровь пульсирует из груди, а солдат – мёртв. Вон тот гад, – он указал на изрубленную пулями голову фашиста, из ствола «Эрма-Шмайсера» ещё струился дымок.
Командира подняли за шинель и понесли по окопу назад, к нашим позициям. Голова майора без шапки с коротко стриженным под полубокс, почти лысым затылком и аккуратным чубом безвольно свисала ниже воротника, кончик чуба цеплялся за мёрзлую землю, из ран в груди капала кровь тут же примерзая к земле. Она и сейчас там, в земле Ворошиловки – кровь майора Овчинникова… Навстречу уже бежал на полусогнутых санитар. Командира положили перед ним на землю.
– Живой, – ответил он на вопросительные взгляды солдат, освещая майора фонариком, видишь кровь пульсирует из ран и зрачки узкие, Живой командир, живой. И выживет, ведь это Волк, Волчара , они живучие.
Он проворно и умело разрезал шинель острым ножом, освободил раны. Две дырочки зияли справа на груди и одна под правой лопаткой. Теперь было видно, что кровь не только вытекает из раны, но и пузырится от выходящего при дыхании воздуха.
– Медсанчасть ещё в Кашарах, не доставим, туда километров тридцать, нужно к кому-нибудь в дом, в тепло, – санитар уже перевязал раненного, наложил плотные повязки на дырочки. Закончив свою работу он выглянул из окопа: вокруг только силуэты разрушенных хат. Город вдали, погруженный тоже в темноту. На землю уже опустилась ранняя январская ночь. Тяжелые облака прижимались всё ниже к земле, мороз ослаб, в мрачном воздухе закружились снежинки. Природа жила своей размеренной жизнью. Войны для неё не существовало.
– Вон, видишь дым из трубы, смотри, – санитар обратился к немолодому, небритому солдату, одетому в телогрейку и ватные штаны и тоже всматривающемуся в темноту из окопа, – вот туда и понесём, запомни направление, чтобы не сбиться с пути если пурга начнётся. Командир есть командир! У нас десять человек убитых, а нечисти – всё поле усеяно, промёрзнут гады быстро, чтоб не смердеть потом.
Майор сначала лежал неподвижно, из уголка рта только пузырьками выделялась кровь как пена, теперь и заметно стало, что еле дышит всё же. Вскоре подошли ещё два бойца и, уложив майора на плащ-палатку, все отправились в путь. Ещё издали в темноте навалившейся ночи проблескивал огонёк то ли свечи, то ли керосиновой лампы в окне дома, единственного уцелевшего во все Ворошиловке. Санинструктор, подойдя к дому, заглянул в окно и постучал. В ответ – тишина.
– Мы свои, бойцы РККА, раненого принесли, – приложив ладони трубкой ко рту, громко произнёс он и отошел в сторону быстро – вдруг там немцы внутри.
В доме послышался шорох, промёрзшими петлями заскрипела входная дверь и открылась. На пороге стояла пожилая женщина, закутанная в старый платок и одетая в белевшую в темноте рубаху.
– Боже, наконец-то, спасители, неужели прогнали извергов, – она тряслась вся и от плача, и от радости. Голос её срывался на рыдания.
– Мать, подожди радоваться, впусти скорее в дом. Командир ранен.
– Да, да давайте, несите его сюда, смотрите потолок низкий, не стукнитесь лбом, она суетливо отступила назад, стараясь осветить коридор своей свечей. Открыла дверь в хату. На всех сразу пахнуло теплом, теплом, которое они не чувствовали уже давно. Хата была из двух комнат, разделённых стеной, в которую была встроена печь и дымоход. Пахло гарью, правда гарью пахло всё кругом: многие хаты были уже сожжены и некоторые дымились ещё. В первой комнате было что-то вроде кухни, прихожей и спальни сразу, справа у маленького окошка стояла старая железная кровать.
– Несите сразу в ту хату, – хозяйка шла сзади за солдатами, подняв свечу почти до потолка.
Вторая хата – комната была чуть больше. Здесь тоже стояла железная кровать и всё.
– Здесь немцы спали, жрали, срали, гадили в общем, – хозяйка указала на кровать, – офицер спал, а там, – она кивнула в сторону первой комнаты, – спал его слуга. А я жила в погребе. Сегодня сбежали, гады.
Солдаты уже уложили Овчинникова на кровать, где прошлой ночью спал ещё фашист.
– Дай ему чуть-чуть воды, может глотнет, – сказал санинструктор и хозяйка выбежала ах в сени и вернулась с солдатской кружкой. Санинструктор поднёс её к губам майора, смочил их. Тот задвигал губами и глотнул и опять замер.
За окном завивал ветер протяжно и голосисто, навивая тоску, а в хате было тепло и уютно. Солдаты поснимали сапоги и расстелив телогрейки положились на полу поближе к печке. Хозяйка с санинструктором суетились вокруг раненного. Дрова потрескивали в печи, и лучи красного огонька прорывались сквозь щелку между печными плитами и весело плясали на потолке. Ночь пришла в природу.
Володя был во мраке, в темноте, вернее не был нигде или ничего не было для него, ни времени, ни остального мира. Но когда вода коснулась его губ, то среди этого ничего вдруг вспыхнула боль ярким красным цветом в груди. Боль. Разве можно описать её словами? Колит, сосет, режет, печет, сверлит… Все эти слова никак не отображают того, что вдруг ворвалось в мозг майора. Словно тысячи свёрел на полных оборотах из самого мощного станка врезались вдруг в грудь и стали рвать на мелкие кусочки живое тело. Огонь сотен мартенов пылал внутри и ещё кто-то железными клещами сжимал сердце, давил так, что оно вот – вот должно было лопнуть от напряга. И темнота сменилась ярким желтым огнём в глазах. Вокруг везде был этот огонь, он жег, палил, слепил и манил одновременно. Туда вдаль, внутрь, вглубь, в стороны, манил покинуть это тело с изорванной грудью и лететь, спешить, стремиться… Но боль держала майора в своем теле, это её железная рука с острыми твёрдыми пальцами рылась внутри груди, рвала и резала всё на мелкие кусочки по живому. И не было спасения от этой боли. Она не только не унималась, а становилась, ярче, краснее, залезала в живот в голову, высверливала ноги. И то, что осталось от сознания Волка металось внутри тела, ища выход и спасение от Боли. Но были заперты « кованые двери нераскаянной души» майора. И где-то там среди желтого огня боли вдруг заметил он ангела, что метался в поисках выхода и бился крыльями об эти кованые двери, словно хотел их разрушить. И вот открылся выход, раскрылись створки и Володя сам кинулся к нему и полетел к свету неземному, ранее им никогда не виданному, который светил где-то вдали и мнил и звал и притягивал. И чем дольше летела душа Овчинникова к этому свету, тем меньше становилась Боль, тем легче было ему и вскоре наступила Благодать…!
– Отошел, – сказала хозяйка и перекрестилась, – Царствие небесное.
Санинструктор, что ни на минуту не отходил от майора, тоже перекрестился, хотя в Бога не верил.
– Отче наш, иже еси на небеси,– зашептала хозяйка. У неё потрескались губы и красные от переживания глаза, завалившиеся вглубь, с огромными черными кругами вокруг, выражали нестерпимую скорбь. Наблюдая как мучается и борется за жизнь майор, она и сама измучилась от этой борьбы, бессильная помочь ему… Вокруг была ночь, темная, непроглядная, весь свет этого мира сейчас освещал путь душе погибшего в Благодать мира Иного!.
А душа его неслась тем временем в прошлое, туда в деревню Скрипино, Чухломского уезда Костромской губернии, в 1914 год, в 3 октября, когда в семье крестьянина она родилась на свет. Родился Владимир Овчинников, Волк, тот майор Красной Армии, который станет Героем Советского Союза, посмертно, потому как погибнет смертью храбрых 10 января 1943 года.
Глава 2 Васильки для Василисы
Лето шестнадцатого года выдалось урожайным в Костромской губернии. Теплые, даже жаркие дни установились уже в начале мая. Обильные дожди и теплое солнце поднимали хлеба на глазах у всех изо дня в день, колосья быстро набирали силу, покачиваясь на прочных стеблях. И сенокос выдался тоже знатным. Травы устилали луга толстым густым ковром, переплетались стеблями и побегами, создавая плотное покрывало на земле. Первые покосы начались уже в июле. С зари до заката по лугам по всей округе слышался звон косы режущей пышную траву. Ряды косарей клином врезались в луга, оставляя за собой на загорелой их шевелюре, гладко выстриженное, словно солдатская голова, поле. А война шагала по Европе, кусала мать-Россию своими железными зубами и бритые солдатские головы были в большой цене и бесплатные одновременно. Призыв только усиливался во всех губерниях страны.
Сергей Овчинников, крестьянин, крестьянский сын и отец будущих крестьян со своей ненаглядной и любимой женой с рассветом выдвинулись к своим покосам. Василиса несла младшего двухлетнего сынишку на руках и узелок с едой, а Серёга – косы. Точила и бидончик с водой. Заря только окрасила небосвод в свой любимый цвет, золотистым заревом поднимаясь в дали. Молодая семья уже шагала по улице от своего глинобитно-деревянного дома с земляными полами. Старший сын остался дома управляться с хозяйством. Идти было не далеко, но и не близко, версты три, и пересаживая спящего сына с руки на руку, Василиса едва поспевала за мужем. За околицей дорога уходила на юг, а косари пошли тропинкой на Восток, отклоняясь от равнины в холмистую местность, туда, где и ждал их выделенный покос. Сначала Василиса всё говорила и говорила молча идущему мужу о планах на будущую жизнь, но через время тоже умолкла, выдохлась от быстрой ходьбы и ноши. Зарево рассвета разгоралось ярче и сильнее, отнимая у ночи спящую ещё землю и освещая землю лучами ещё невидимого солнца. И как только оранжевый шар показал свой краешек из-за земли, косари добрались уже на место. В низине, откуда на пригорок поднимался их луг, росли кусты терновника и ещё ночная прохлада лёгкой дымкой утреннего тумана окутывала ветви кустарника. Здесь устроили маленький лагерь: постелили Сергееву куртку и уложили на неё спать сынишку, прикрыв его большим платком, что сняла с плеч Василиса, под куст упрятали узелок с салом, хлебом, редиской и луком, туда же Сергей пристроил и бидончик с водой. И пошли сквозь луг заходить сверху, чтобы при косьбе спускаться вниз. И начали. Стали с правого края и пошли, сначала Серёга с размаху смело резанул траву. «Вжик» ответила коса, раз, два, три и, отойдя от края метров на пять и не поворачивая головы, сказал жене:
– Давай, начинай тоже. С Богом!
«Вжик», – скрипнула вторая коса и, быстро подстроивщись друг под друга, оба в ногу, ступая правой – «Вжик» и приставляя левую – «Вжик» , муж с женой шаг за шагом врезались в поле, брея землю за собой почти наголо. Василиса всё посматривала в сторону «лагеря», нет ли шевеления под кустом, не встал ли малыш? Но там всё было спокойно и коса Василисы раз за разом врезалась в траву, поспевая в такт движениям и дыханиям мужа. А на его спине уже прорисовывалось мокрое пятно постепенно расползающееся по вылинявшей рубахе. Не останавливаясь оба двигались медленно вниз, к «лагерю». А солнце уже выбралось на небо, из огромного шара превратилось в огненный мяч и плыло себе, прогревая и накаляя всё внизу. Косы «вжикали» в унисон, косари шагали в ногу, оставляя за собой ровную полосу скошенной травы на лысой голове земли. Но вот Василиса сбилась с ритма: в «лагере» появилось шевеление и хорошо виден был малыш в короткой рубахе, вставший на свои непослушные ещё ножки и помогавший держать равновесие ручками, размахивая ими. Он стал прохаживаться вдоль кустарника. Не плакал. И Василиса, оценив ситуацию, опять врезалась косой в траву, вторя звукам ведущей косы мужа.
А мальчик обследовал окружающий его мир, сначала потрогал терновник и, видимо уколовший, повернул и зашагал к высокой траве. Остановился удивленный красоте летних цветов и глубоко вздохнул, любуясь творением Бога широко открытыми глазами. Его привлёк голубой цвет васильков и он, по примеру виденному у взрослых, стал срывать васильки, нагнувшись к корням, и показал маме свою розовую попку. Выпрямился, сорвав цветок, и упал на эту попку и заплакал. Плача слышно не было из далека, но материнское сердце услышало его, и уже было Василиса дернулась в сторону бежать, но остановилась. Далеко. Пока добежишь, ребёнок сам разберётся что да как. А малыш поплакал, поплакал и, не выпуская цветы, повернулся набок, лег на живот прямо на землю, встал на коленки, поднялся на ножки и, держа на вытянутой руке три василька, подошел к своей лежанке и чуть погодя уже крепко спал, прижимая к груди васильки. Какой там страх быть одному, какая там боль от падения? Ведь этот малыш – будущий Герой Советского Союза!
И когда полудённое солнце накалило воздух и землю, напекло головы косарей и высушило из них всю воду, наступил час обеда и отдыха. Папа и мама пришли к «лагерю». Малыш сидел в тени терновника и улыбаясь протягивал маме три василька.
– Ня, – сорвалось с его молчаливых ещё губ, – Мама.
– Вот пострел, ещё и не говорит-то толком, а заметил как ты дарил мне цветы… Осталось венок сплести.
Мама подняла на руки своего кавалера, поцеловала в щеку, прижалась к груди мужа.
– Устал?
– А ты?
– Да так немного, давай есть.
Сергей уже жадно пил из бидончика уже тёплую воду.
Поели. Сергей улегся в тени терновника, а Василиса достала налитую молоком грудь и стала кормить малыша. Он жадно сосал, покусывая грудь своими мелкими зубками.
– Грызётся, чертёныш, – она оторвала грудь и опять дала ему повернув её немного набок.
– Хорошо, что у тебя молока много, а то чем бы кормили?
– Вот, чертёнок! Больно же сынок! – Она повела плечом, пытаясь освободить грудь, но малыш продолжал сосать, даже глаза закрыл.
Сергей повернулся набок, взял лежавшие рядом три василька, умело сплёл венок. Надел его на голову жене:
– Надо было и сына Василёк назвать. Василёк для Василисы, а так тоже хорошо: васильки для Василисы. Молодец сынок, – он поцеловал жену в щеку, потом в голую грудь и малыша в розовый лобик. Лег и уснул.
Глава 3. Первая Мировая война
А назавтра Сергея забрали на фронт. Он ушел из дома утром на сборный пункт в Чухлому. Ни писем, ни одной весточки. Исчез человек. Исчез человек из мира живых, словно и не было его. Бесследно. Где он сложил голову, где его могила? Никто не знает. Но он остался в сердце его Василисы, в своем продолжении в сыновьях Анатолии и Владимире, в памяти односельчан. Остался в книге жизни у самого господа Бога как православный христианин. Сколько их таких воинов в книге памяти и самой матушки России? Много! Безимянных. У них у всех одно теперь имя – солдаты Отечества! И вечная им память!
Глава 4. Собака – лучший друг.
Во дворе дома Овчинниковых на цепи сидел пёс – Акбар, огромная и злая собака. Для чужих. А для Вовки он был самым верным и преданным другом, самым надёжным и ласковым. Акбар сидел на этой цепи всю свою собачью жизнь. Как только Акбар подрос из щенка в крупного пса и стал проявлять свой злобный нрав, Сергей привязал его на цепь, привязал проволокой – редкой в те далёкие времена, от ошейника из толстой кожи к цепи. Из-за больших размеров и хриплого голоса, от которого содрогалась окрестность, его никогда не отвязывали. Да это и было очень трудно, даже невозможно. Вовка пытался несколько раз освободить друга и взять его с собой в лес или на рыбалку, но никак не мог справиться с твёрдой проволокой. А дружба у них была ещё твёрже этой проволоки. Когда Вовке было три годика, однажды, обидевшись на весь мир из-за кусочка белой булки, которую мама всегда заставляла, есть с черным хлебом, малыш ушел грустить во двор и забрался в большую будку к Акбару, да и уснул там под тёплым боком огромного пса. Чуть погодя Василиса пошла искать сына и сбилась, бегая по округе. Ребёнок пропал. Уже отчаявшаяся и убитая горем, к вечеру вернулась она домой, уже соседские мужики решили идти прочёсывать лес в поисках сына погибшего Сергея, как из будки выбрался сначала Акбар и стал трусить шерстью и греметь цепью, что и разбудило ребёнка, и он выполз из будки тоже. Мама с радостью заплакала и сказала:
– Что ж ты как волчонок возле пса и жить будешь?
Вовка, – Вовк, – Волк, – Волчонок. Так и прицепилась кличка к Вовке Овчинникову. И уже тогда, в будке у друга Акбара, через кожу впитал мальчик собачью злость к врагам рода человеческого. И в боях за Ворошиловку, когда он один с ножом ворвался во вражеский дзот и побил, убил, уничтожил, заколол ножом десять фашистов, именно эта собачья злость проросла в душе майора Овчинникова силой и храбростью русского солдата и косила, крушила врага.
А тогда, в детстве, мальчик «Волк» садился рядом с огромным псом, садился прямо на землю и обнимал собаку как человека, за плечи, и пёс прижимался головой к груди мальчика и лизал его своим огромным, шершавым языком. Акбар сидел на цепи, оглашая округу хриплым лаем, при приближении к дому чужих, и ласково гремел цепью при виде своих. Ел то же, что и поросята – сухое или запаренное зерно. И всегда ждал, когда подойдёт к нему Волк. И как только мальчик обращал на него внимание, тот из страшного зверя вмиг превращался в нежную собаку, извивался всем телом, хлестал воздух крепким хвостом как плетью, становился на задние лапы, натягивая свою цепь и зацеловывал, облизывал, вылизывал мальчика, глаза его светились нежностью и любовью. Обнимал его огромными лапами за плечи и прижимался лбом к груди. Любил, любил, любил так, как могут любить только собаки – открыто и ярко и был предан так, как могут быть преданы только собаки. Собачья Любовь! Собаки влюбляются не в лицо и фигуру человека, они влюбляются в человеческую душу, во все тонкости натуры хозяина. У Волка была именно такая натура – тонкая, романтическая, и он любил Акбара взаимно за такую же натуру собачьей души. Именно эта утонченность и романтичность души Овчинникова и породит Великую Любовь к женщине летом 42 года, оставит в её жизни короткий и яркий след и, как спичка в ночи, вспыхнет и создаст новую человеческую жизнь.
И вот ранним утром в мае 1924 года Василиса вышла провожать корову в стадо и увидела Акбара, он лежал вдали от будки полностью натянув цепь, лежал на боку, неестественно запрокинув голову. Василиса подошла ближе. И поняла. Пёс был мёртв. Большой широко открытый глаз смотрел в вечность. Умер самый лучший из людей, пёс Акбар. Василиса тронула его ногой. Каменное тело не поддалось, не пошевелилось.
– Сдох, – прошептала она и, крестясь, пошла к дому, будить сына. Она вспомнила, как принёс Акбара, ещё щенка, домой её Серёжа, снежной зимой четырнадцатого года, вскоре после рождения Володи. Зиму щенок жил в доме с людьми и его часто находили спящим в обнимку с ребёнком в его колыбельке. Уже тогда щенок Акбар ревниво оберегал ребёнка, кусая всех чужих, кто приближался к малышу. И рос, рос быстро, как тесто, поднимаясь и ввысь и вширь. А по весне вышел из дома во двор и не вошел назад больше. А к осени Сергей привязал его к цепи. С тех пор Акбар был таким же атрибутом двора, как и дом, и сараи и люди. И вот на десятом году жизни его не стало. Василиса остановилась у порога дома и заплакала. Жалко ей стало и собаку, что была членом её семьи, вспомнила и Серёжу своего, что «бродит» где-то по чужим краям убитый на той ужасной войне. Вся их короткая и счастливая жизнь пронеслась вдруг у неё в голове, отразилась в глазах и вылилась струйками на щеках.
– Вова, сынок, вставай, вставай!
Мальчик потянулся под залатанным одеялом. Перевернулся на другой бок и опять задышал глубоко и медленно.
– Сынок, вставай. Акбар… – она хотела сказать «сдох», но такое слово никак не могло быть сказано о члене семьи, – Акбар умер, – прошептала она с трудом почти на ухо мальчику. Волк вмиг открыл глаза, сбросил залатанное одеяло на пол, вскочил и в одних трусах побежал во двор. Акбар также и лежал на боку, натянув цепь. Волк стал на колени, опустил голову свою, словно в поклоне, на плечо друга, зарылся в шерсть лицом и горько заплакал, так что в рыдании вздрагивала грудь и Акбар «смотрел» своим большим глазом в светлеющее небо и тоже «плакал»…
Вот и пришлось открутить проволоку, которую привязывал ещё отец, идти за щипцами к соседу-кузнецу. Медленно и аккуратно, словно боясь сделать больно собаке, мальчик виток за витком снимал проволоку и с ошейника и с цепи пока, наконец, не освободил Акбара из пожизненного плена. Затем взвалил тело в кузовок тачки, из пасти свисал теперь синий огромный язык, которым пёс так нежно вылизывал и выцеловывал лицо мальчика при жизни, и покатил тачку в лес.
Верхушки сосен недовольно ворчали, не желая выбираться из-под теплого одеяла ночи в прохладу утра. А Вовка копал могилу. Лоб его покрылся испариной и тёплые капельки пота, смешивались с солёными слезинкам и капали на сырую землю. Волк решил выкопать могилу поглубже, чтобы зверье всякое не смогло выкопать и съесть Акбара. А тот лежал в кузовке свесив лапы и спал словно и казалось, что вот сейчас он проснётся и помчится радостный и весёлый по лесу, которого он и не видел ни разу при жизни. Окончив траурную работу, Вовка воткнул еловую ветку в холмик, перекрестился и покатил тачку из лесу по направлению к деревне.
Солнце уже показало свою оранжевую голову и заглядывало в каждый дом, разыскивая новый день. Лицо мальчика было испачкано слезами и грязью, мокрое и липкое, грудь вздрагивала от рыданий, лопата гремела в кузовке, когда он вкатил тачку в деревню. Навстречу ему из крайней хаты у околицы вышел Лёнька Бережной, деревенский активист, комсомолец. Заметив Вовку, он остановился, поджидая приближение траурного кортежа.
– Ты откуда в такую рань, пацан, – спросил он, разглядывая Вовкино лицо.
– Акбар умер. Я с похорон, – ответил мальчик, снова всхлипывая.
– Видно достойный был пёс, раз ты плачешь. Иной раз с похорон человека идут без слезинки. А тут собака! – Ленька подошел к Волку и, задрав подол своей рубахи, утёр лицо мальчику, потрепал по волосам, – первая большая потеря. Это начало мужской жизни, пацан.
Глава 5. Пионерский отряд имени Чапаева.
И Лёнька, гладя на Овчинникова, понимал, что этот пацан и есть будущее России, в нём просматривались именно волчьи черты: смелость, агрессивность, лидерство.
– А знаешь, в райкоме комсомола приняли решение о создании в Ступине пионерского отряда. У нас таких как ты ребят восемь человек живёт. Как раз можно создавать пионерский отряд. Ты знаешь что-нибудь о пионерах?
Вовка удивлённо взглянул на Лёньку:
– Нет, не знаю.
– Пионер – первопроходец, первооткрыватель, помощник комсомольцев и коммунистов, защитник слабых и бедных. Пионер носит красный галстук и готовится стать солдатом революции…
Вовка ещё с большим удивлением посмотрел на Лёньку. Он давно уже мечтал стать солдатом и, как отец, воевать с врагами. В мозгу его вмиг появились картины сражений, и он в красном галстуке…
Наверное, сейчас со смертью Акбара, и кончилось детство Вовки, и началась взрослая жизнь Волка. Десятилетний мальчик, ощутив тяжесть первой утраты, стал по взрослому относиться к миру, людям, выбору друзей. Активист Лёнька и был тем парнем, который вместе с социализмом твёрдо шагал по стране, утверждая новое, светлое, прогрессивное. И маленький Волк понял, что ему по пути с Лёнькой. А сам Лёнька давно уже знал, что пацан Овчинников, сын погибшего солдата, по прозвищу Волк, и есть тот парень, который и нужен революции с его дерзостью, даже красивой злостью, упорством и собачей преданностью. Такой будет олицетворять мир Социализма в будущем.
– А когда будет создан пионерский отряд? – с интересом спросил Вовка.
– Да вот считай, что мы его уже и создали. Ты и есть первый пионер в Ступино. Сейчас откати тачку домой, оденься во что есть, обеги всех остальных ребят в деревне, кроме Петьки Воронова, он уже слишком взрослый для пионеров, и собирайтесь все в Совете, будем вступать в пионеры, – и Лёнька весело зашагал по улице дальше, размахивая руками, словно шел строевым шагом, в ногу со временем, с наступающей новой жизнью.
Дома Вовку ждала мама:
– Жалко Акбара, сынок, очень жалко. Он же был Наш, сначала наш ребёнок, потом как ты – наш сын. Член семьи. Давай сходим в церковь, за Отца помолимся, свечку поставим и за Акбара Бога попросим.
– Конечно, давай, – веселее уже отозвался Вовка.
Он любил церковь, любил молитвы, искренне любил Бога. Всё старался заглянуть за иконостас. Что там?
– «Там, наверное Бог и живёт»,– думал мальчик, когда через крашенную дверь иконостаса выходил отец Григорий с кадилом в руке и, словно, приветствуя его, как посланника Бога, женский хор начинал петь молитвы. Звуки церковных песен уносили всякий раз Вовку на небо, к отцу, туда, откуда он наблюдает за ним, своим сыном, вместе с Иисусом Христом, сыном Божьим. Вовка поднимал голову к церковному куполу, где нарисован был Лик Христа и всматривался ему в глаза, ожидая от него слов. И мальчику казалось, что Христос шевелит пальцами на поднятой руке, приветствуя его. Радость всегда наполняла Вовкину душу в церкви. Он-то знал, что слова молитвы: « Да будет воля твоя…» относились именно к нему, именно по воле Божьей он есть, будет и станет жить на Свете!
– Завтра воскресенье, завтра и пойдём к утренней службе, – мама налила Вовке молока в глиняную кружку и отрезала ломоть хлеба.
– Ма, а я в пионеры пойду, Лёнька звал. Знаешь кто такие пионеры?
– Да не слышала вродь, – ответила удивлённая Василиса, – Кто такие?
– Пионер значит первопроходец, первооткрыватель, защитник, помощник.
– Ну, ты-то у нас и помощник и защитник, так пионер, что ль?
– Да ещё нет. Вот когда примут в пионеры, повяжут красный галстук, тогда и буду.
– А галстук зачем?
– А чтоб свои узнавали, наверное, – Вовка дожевал хлеб, залпом допил молоко и с белыми губами вскочил из-за стола, – А штаны-то где?
– А зачем, тепло ведь?
– Надо мама, и штаны и рубаху, галстук, что на голую грудь одевать?
– А, – удивлённо сказала Василиса и открыла крышку сундука, стала вынимать Вовкину одежду, – И что прямь сейчас вступать будешь?
– Да, сейчас соберу всех ребят, и пойдём в сельсовет, там и вступать будем.
Одев штаны и косоворотку, но оставшись босиком, Вовка выбежал во двор и помчался было к калитке, но вдруг встал как вкопанный. Акбар не гавкал, не гремел цепью. У сарая лежал развязанный ошейник и распущенная проволока и на штакетнике ещё видны были куски собачей шерсти… С тяжелым сердцем, утирая глаза, вышел Волк за калитку и побрёл в сторону цента Скрипино, к сельсовету и к церкви Иоана Предтечи, что стояли на сельской площади друг против друга. Стояли, словно наблюдали друг за другом и выжидали чего-то, готовясь к драке…
И драка скоро началась. И в душах людей и между людьми.
Вступая в пионеры, когда на шею повязывали красный галстук, Волк четко представлял себя горнистом первого пионерского отряда, выходящим из алтаря церкви с горном в руках. И, как ангел, он поднимает свой горн и начинает трубить, возвещая всем о пришествии господа Иисуса Христа на помощь людям. И все ангелы, что нарисованы на стенах церкви, поднимут тоже свои трубы и воззовут к Богу. И он, Всесильный и Великий, сойдёт с купола церкви и поведёт всех людей за собой вдоль по деревенской улице в светлое и красивое будущее.
– Овчинников Владимир, к борьбе за дело Партии Большевиков, Будь Готов, – торжественно произнёс Лёнька.
– Всегда Готов, – ответил радостно Вовка и отдал салют.
Все остальные ребята приняли присягу и вступили в пионеры. Вышли из здания сельсовета, и пошли строем вдоль по улице. Только впереди всех шел Лёнька! Иисус Христос остался на церковном куполе и сожалением наблюдал за происходящим.
Через несколько дней Лёнька привёз из райцентра горн со знаменем и барабан с палочками. Волка выбрали горнистом, вернее он сам себя выбрал, потому, как сразу завладел горном и сумел первым протрубить более менее внятный звук. Он уже знал, что нужно не просто дуть в мундштук, а особым образом изогнуть губы и вибрировать и ими и языком. Барабанщиком выбрали Петьку Власова, мальчика на год старше Волка. И вот после небольшой репетиции, весь вновь созданный отряд, отправился на первый марш. Волк и Петька впереди, за ними ещё три пары мальчиков и девочек, замыкал шествие сегодня Лёнька, теперь пионервожатый. Волк сразу от сельсовета повел свой отряд через площадь к церкви Иоана Предтечи. Туда к алтарю, к Иисусу, к ангелам влекло его. Горн звучал ровно и громко, без сбоев и ошибок. Петька отбивал палочками по барабану в такт звукам горна.
« Мечты сбываются!» – подумал Волк, подводя свой отряд к паперти. Он уже почти ступил на первую ступень, как перед ним вырос Лёнька и скомандовал:
– Правое плечо вперёд шагом марш,– и все повернули вправо, а церковная дверь осталась сбоку. Пройдя два круга по площади, первый пионерский отряд опять вошел в здание сельсовета.
– А теперь давайте побеседуем о Боге, товарищи пионеры! – несколько строго сказал Лёнька, когда все ребята вошли в небольшую комнату по соседству с кабинетом Председателя, – Давайте принесём стулья из других комнат. Сколько не хватает? Маша посчитай, пожалуйста, сколько не хватает стульев, и ещё нужен один, к нам придёт Председатель Сельсовета Иван Макарович.
Маша, Маша Кулькова, удивлённо посмотрела на Лёньку, потом на других ребят, словно спрашивала их, сколько не хватает стульев, но никто не отвечал. Все только отводили глаза от Маши, стесняясь. Задумался и Волк, но быстро сосчитал, что их, пионеров, – восемь, Лёнька – девять, Иван Макарович – десять. Ровно столько, сколько пальцев у него на двух руках, а стульев в угу комнаты стоит три. Значит десять минус три, он прижал три пальца к ладони, быстро посчитав оставшиеся, крикнул:
– Семь, Лёнька, нам нужно семь стульев.
– Вот правильно, Вовка, семь. Значит, ты один из всех умеешь считать. Кто тебя научил?
– Отец Григорий, – гордо заявил Вовка.
– А Вы, что ж не научились у Григория, – обратившись к другим ребятам, спросил Лёнька. Дети испуганно и виновато пожимали плечами.
– Ладно, давайте за стульями, пойдём за мной, – и Лёнька вышел из комнаты.
Собравши нужное количество стульев по комнатам Сельсовета, ребята шумно рассаживались, спрашивая друг друга:
– А ты писать умеешь?
– А сколько будет два плюс один?
– А где ты научилась?
– Так, все уселись. Тихо, – Лёнька повысил голос, – кто не умеет писать считать, читать, поднимите руки.
Вверх поднялось семь рук. Подумав немного, Волк тоже поднял руку, решив, что он тоже толком-то читать и писать не умеет, так только считать на пальцах.
– Так ты же у Григория учился! – удивлённо спросил Лёнька.
– Да так только чуть-чуть, но ещё не научился.
– А почему?
– Так только два раза он меня и учил.
– А остальные почему не учились, – ласково спросил Лёнька, оглядывая ребят.
– Так ему деньги платить нужно, а денег-то и нет дома. Нет ни денег, ни хлеба, – смущенно ответил Петька, уставившись в барабан.
– Я бы тоже научилась считать и писать, может папка научит, а к Григорию денег тоже нет, – тихо произнесла Маша.
–И я, – И я, – стали смелее говорить пионеры.
Красные галстуки, повязанные на шеях ребят, вдруг вспыхнули и отразились в лицах. Общее желание учиться засияло в комнате. Новый коллектив породил коллективное сознание и коллективное желание, как следствие этого сознания, сразу возникло и пошло по жизни рядом с этими ребятами.
– Вот видите, Церковь в лице отца Григория требует денег на учёбу, а Советская Власть будет учить вас бесплатно. Я буду вашим учителем, – гордо заявил Лёнька.
Тут в комнату вошел Иван Макарович, высокий и худой мужчина лет сорока. На нём были истоптанные солдатские сапоги, пропотевшая, со следами соли на спине гимнастёрка и широкие вылинявшие галифе. Большие глаза горели огнём на его бледном и морщинистом лице. Но он весь был вихрь, энергия. В комнате сразу стало веселее и радостней. Постоянно поправляя спадавший на глаза непослушный чуб, Председатель сначала сел на поставленный для него стул, потом встал с него, опёрся большими жилистыми ладонями на спинку и, наконец, сказал:
– Поздравляю Вас, ребята, с вступлением в детскую партию, в партию пионеров. Теперь Вы есть сознательная организация, способная выполнит любую задачу, которую перед Вами поставит партия Большевиков. Я рад за Вас. О чем Вы тут толкуете? – обратился он к Лёньке.
– Да вот, готовимся к учебе, писать, считать, читать. Думаем провести дискуссию о Боге. Они весь отряд в первый свой марш направились прямо в церковь. А там, что делать? Уже год как убили отца Григория! Там никого нет.
– Ага, а дверь не заперта, можно посмотреть. Послушать Бога Иисуса Христа. Можно и за дверь в алтарь заглянуть. И мама сказала, что в воскресенье другой батюшка приедет и заутреню читать будет, – Волк вступился за любимого Бога, самого близкого и родного своего человека. Самого близкого, потому что был уверен, что отец его, Сергей, тоже там под куполом церкви, за спиной у Иисуса, живет за облаком и смотрит с высоты на сына, наблюдает, как он живёт в этом мире.
– А Вы знаете, что Бога нет. Нет. Вот и всё! – Иван Макарович опёрся на спинку стула сильнее, слегка наклонившись вперёд, – Нет.
Мёртвая тишина опустилась на комнату. Дети в удивлении пораскрывали рты и устремили вопрошающие взгляды на Председателя. Такого утверждения не приемлил никто.
– Кто его видел? Кто беседовал с ним. Кто ощущал на себе его промысел? – Иван Макарович протянул вперёд руку и обвел ею сидящих, – Вы все дети бедняков. Отцы многих из вас сложили головы на войне. Матери бедствуют, Одежды и еды нет. Война ещё сотрясает землю. Почему этот Бог допускает убийства, голод и нищету? Почему есть богатые и бедные на земле? Это такой промысел Божий?
Все дети вообще не понимали, как такое может быть, что Бога нет. Но все прекрасно знали, что такое голод, когда кушать нечего, все знали, что такое нищета, когда одеть нечего. И все знали, где их родственники, убитые на войне: они у Бога на небе. И, словно, читая мысли детей, Председатель продолжил:
– Значит, это Бог хочет, чтобы были богатые и бедные, чтобы был голод, нищета, разруха. А сильных смелых и крепких мужчин он забирает к себе на небо, как – будто им на Зеле дела нет. Или он плохой. Или его вообще нет. И только большевики хотят накормить, обуть и одеть детей, женщин и стариков. Только Советская Власть борется за счастье простых русских людей, помогает бедным. А главный священник русской земли, патриарх Тихон, предал анафеме нашу Власть.
Волк слушал, он знал от мамы, что где-то далеко, в самой Москве, живёт патриарх Тихон, что это он назначает всех священников. Знал и не мог понять, почему и за что их сейчас убивают. Не мог он понять, почему Бог – это плохо, а пионеры – хорошо. Почему и Бог, и пионеры с большевиками не могут жить дружно и вместе осуществлять свой промысел в жизни.
Иван Макарович явно был доволен своей речью, а дети в недоумении сидел, раскрыв рты. Умолкнув, наконец, он тяжело опустился на свой стул и сложил руки на коленях и посмотрел сквозь окно куда-то вдаль, на ту сторону площади, где стояла сельская церковь Иоана Предтечи, словно видел сквозь неё «Светлое Будущее» всего человечества. Волк повернулся в сторону этого взгляда, увидел церковь и понял, что ему никогда не выйти из дверей алтаря с горном и не протрубить вместе с ангелами…
– Я вырос в рабочей семье, в Питере, – помолчав, отдохнув и дав отдохнуть детям, продолжил Председатель, – с двенадцати лет начал работать, в партии большевиков с 907 года. Воевал в мировую войну, вот этот крест дал мне царь за бои с немцами под Питером, – он потрогал крест на груди, который, согнувшись под своей колодкой, колыхался над самым сердцем солдата. – А в революцию сразу перешел на сторону Красных и попал в отряд к Чапаеву. С ним воевал на Урале. До самого ранения, пока пуля – дура не пробила мою грудь навылет. Выжил. Теперь вот по заданию партии я у Вас в Скрипино создаю Советскую Власть и новую жизнь. И предлагаю назвать новый пионерский отряд именем героя – Чапаева Василия Ивановича!
Здесь, в далёкой от Урала, Костромской губернии имя Чапаева было известно хорошо. Народная молва о Героях на Руси издавле распространялась быстро. Защитник бедняков был всегда в почёте. Все дети, что собрались в этой комнате, знали о Чапае и поэтому, когда Лёнька встал, оправил косоворотку и гордо произнёс:
–Кто за то, чтобы назвать пионерский отряд деревни Скрипино именем Чапаева Василия Ивановича, прошу голосовать! – и поднял вверх руку. Следом руку поднял и Иван Макарович.
Волк, ещё никогда не голосовавший в своей жизни, понял, что поднять руку это и значит проголосовать, быстро поднял свою руку. Остальные дети, увидев, что сделал Волк, тоже проголосовали «За». Так в мае 24 года в деревне Скрипино Костромской Губернии появился пионерский отряд имени Чапаева.
А в воскресенье Вовка с мамой отправился в церковь к утренней службе. Но вместо священника у церкви собирающихся людей ожидал Иван Макарович. Утро выдалось солнечным, но прохладным и на зелёной, дано некрашеной, крыше церкви хорошо видны были пятна росы, переливающиеся в лучах поднимающегося солнца. Лапти, обмотки, да и штаны до колен, подолы юбок промокли у всех от утренней росы. Голоса из толпы то тут, то там нарушали утреннюю тишину. Иван Макарович стоял на паперти перед прикрытыми дверями церкви, слегка расставив ноги. Кожаная его куртка была расстёгнута и на груди поблёскивали кресты и ордена. Сложив руки за спиной, он молча наблюдал за людьми и чего-то ждал.
– Чего не пускаешь в церковь? – громко спросила старушка .
– Где священник? Тоже убили? – крикнул одноногий инвалид, что опирался на деревянный костыль.
– Отец Пантилеймон обещал быть сегодня, – послышалось из задних рядов
– Чего молчишь? Раз пришёл, то говори! – крепкий парень похлопал себя нагайкой по сапогу.
– Председатель! А что теперь Бога нет. Теперь ты будешь вместо Пантилеймона службу служить?
– Я служу другому Богу, – не выдержал словесного напора Иван Макарович, и вступил в спор.
– Я служу тому Богу, который защищает бедных. Я служу тому Богу, который Россию защищает от врагов, тому Богу, который дает будущее детям вашим. Мой Бог – это коммунизм и его вождь – Ленин. Меня сюда прислала партия. Из Москвы, из столицы, с похорон вождя. И там, когда его гроб опускали в могилу, я поклялся служить идеям Коммуны до последнего своего вздоха. Я не знаю, где отец Пантилеймон, я и пришел сюда, чтобы вступить с ним в спор, чтобы отвлечь всех Вас от ненужной Веры в Бога и призвать к вере Себе самому, к борьбе за Светлое Будущее, к вере в силу коллектива. Я призываю Вас в то будущее, где Вы и Ваши дети будут сытыми, грамотными, счастливыми. Я пришел агитировать Вас за коммуну! Один человек слаб, а сообща мы победим всех врагов и создадим Могучее Государство!
По толпе пошел разноголосый шум. Люди уже спорили друг с другом. И вдруг Василиса, Вовкина мама, отпустив руку прижавшегося к ней сына, быстро поднялась на паперть, став рядом с Председателем, и протянула к людям ладонь:
– Сельчане! Я вдова, мой муж ушёл на войну восемь лет назад и пропал, пропал, словно его и не было. Сыновья растут в нищете. В доме и крошки хлеба, порою нет. Обуви нет, одежды нет. Работы нет. Сеять мне некому, батрачить не на кого. Где ты, мой Серёжа? За что погиб? Зачем Богу и царю понадобилась твоя жизнь? Мне деваться некуда. В Коммуне я смогу делать, то, что умею: доить, косить, полоть, стирать. Смогу сыновей поднять на ноги. Я за Коммуну!
Она приблизилась к Ивану Макаровичу, встала чуть сзади, словно спряталась за его спину. Шум пошёл по толпе, многие люди: женщины, старики, дети стали подниматься на паперть и становиться за спиной председателя. Вся толпа переместилась к церковным дверям, пока не остался на площади лишь один толстый мельник. Маленький, с маленькими и хитрыми глазами, он недоверчиво осматривал толпу, переминаясь с ноги на ногу. Подняв вверх свою маленькую белую ладошку, он погрозил в сторону церкви маленьким пальчиком и прошептал себе под нос: « Голодранцы, голь перекатная, погодите, ужо!», повернулся и пошел прочь.
– А ты молодец, Василиса, смелая женщина, – прикоснувшись своими пальцами к кисти, стоящей рядом Василисы, произнёс тихо Иван Макарович.
Почувствовал прикосновение к себе мужчины впервые за восемь лет и, услышав слова одобрения тоже впервые за эти годы, она прижалась своим плечом к плечу Ивана и крепче сжала рук Вовки, стоящего с другой стороны. И заметив это движение Василисы, все люди стали плотнее прижиматься друг к другу и браться за руки…
А за спиной у них стояла Великая русская церковь, Церковь имени Первокрестителя и с железной крыши её, словно слёзы, капали на людей капли утренней росы и словно воды Иордана крестили людей в новую веру.
В это время с городской дороги в деревню входил отец Пантилеймон, чтобы провести утреннюю службу. Он не знал ещё, что в душах людей уже поселился новый Бог.
Глава 6. Становление
Прошло пять лет. В стране устанавливалась и крепла новая власть. Вместе с ней подрос и окреп Вовка. Он учился в сельской школе, уже хорошо писал, читал, считал. Носил с гордостью пионерский галстук, готовился к вступлению в комсомол. Семья Овчинниковых жила трудно. Зарождавшееся колхозное движение, коллективные хозяйства встречали сопротивление в народе. В коммуну шла беднота, а середняки и кулаки не хотели отдавать своё добро в общее пользование. Первые года на коллективных полях и сеять-то было особо нечего. Продолжалось раскулачивание. В школе и в пионерском отряде часто говорили о больших планах государства, об электрификации, о больших заводах, о мощной Армии. Всё это было где-то там, далеко, за пределами Скрипино. И Вовку влекли дальние страны, другая большая жизнь. Он всё чаще видел себя солдатом с ружьем или на летящем коне, туда вперёд в свою новую жизнь.
И река русской жизни после засухи переходного периода, подкреплялась сильными родниками коллективных течений, наполнялась стремлениями и чаяниями людей и, преодолевая пороги внутреннего сопротивления, постепенно поворачивала вспять и, набирая силы и мощь, всё быстрее и шире несла воды нового и прогрессивного вперёд, в Большое Светлое Будущее!
У Василисы завязались дружеские отношения с Иваном Макарычем. Он часто появлялся у них в доме, подружился с братьями, и Вовка стал замечать и понимать трогательные и нежные взгляды мамы и Макарыча друг на друга. Одинокий, беззаветно преданный служению партии и счастью людей, Иван Макарович помогал во всём и семье Василисы. Для Вовки и Толика он стал сначала другом, потом верным товарищем и, наконец, отцом. В доме не было фотографии Сергея, в сознании Вовки он был там, за спиной Бога, под куполом церкви, за облаком и был невидим. Но теперь он, Сергей, становился всё больше и больше похож на Ивана Макаровича и уже зримо наблюдал с высоты за мальчиком. Вовка усердно занимался учебой и Иван Макарович, как бы помогал ему, а на самом деле учился сам вместе с ним. Он часто рассказывал мальчикам о своем детстве, о городе Ленинграде, о работе столяром на мебельной фабрике, о войне, о битве с немцами под Питером, о Чапаеве. В воображении Вовки рассказы эти пробуждали красочные картины собственных успехов и побед и, прежде всего, он видел себя военным, бесстрашно бьющимся с лютыми врагами. Иван Макарович приучил ребят к ремеслу, обучил плотницкому делу. Здесь в Скрипино, на подворье у Василисы, он открыл маленькую столярную мастерскую. И, в условия НЭПа, начал изготовлять оконные рамы. Вовка теперь умело обращался с долотом и рубанком. А по воскресеньям они грузили свои окна на тачку и тащили её на рынок, в Чухлому. Доход получался неплохой. Василиса была довольна. У неё появилась семья: дети и мужчина!
В пятнадцать лет Вовка твёрдо решил ехать из деревни в город, и, непременно, в Ленинград. Иван Макарович написал письмо своему фронтовому товарищу, другу детства, который работал в Питере и имел свою столярную мастерскую, и попросил его присмотреть за Вовкой. Как только пришло ответное письмо, Вовка стал собираться в дорогу. И в мае 1929 года уехал из Скрипина навсегда.
Ленинград встретил его солнечным утром, ясным синим небом и свежим ветром перемен. Площадь у Московского вокзала бурлит словно муравейник: туда – сюда снуют носильщики с тележками с поклажей пассажиров. Бегут, спешат, друг на друга даже не смотрят, не здороваются, разнообразные авто гудят сигналами, как очертенные, автобусы с квадратными носами, хлопают дверьми и, рыча, разъезжаются в разные стороны, увозя в своей утробе людей, трамваи с громкими звонками тарахтят железными колёсами по железным рельсам. Вовка остановился, едва выйдя из вокзала, перекинул вещь-мешок на другое плечо, снял тюбетейку, отёр пот со лба. Было не жарко, даже прохладно, но голову и глаза жгли впечатления. Здесь, на площади Восстания, людей было больше, чем во всём Скрипине. Чуть вдали, за трамвайными путями, была круговая чугунная оградка у какого-то памятника, на которой сидели люди, словно на длинной скамейке. Вовка решил посидеть, подумать, осмотреться. Куда ему нужно идти, он уже понял, вон туда, влево, на проспект. Это и будет Невский. Он обошел трехвагонный трамвай сзади и уселся на железной лавке-заборе. Осмотрел само здание вокзала, повернулся назад: прямо на него, сидя на крупном коне, смотрел бородатый толстый царь.
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья,
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей, ярмо самодержавья.
Д. Бедный 1919
Прочел Вовка надпись под копытами коня, что-то недоброе колыхнулось у него груди и сразу лицо добродушного деревенского мальчика превратилось в напряженное лицо волка.
– «Здесь нужно быть осторожней и внимательней, если даже с царем так смело обходятся, – подумал он и пошел в сторону Невского проспекта.
Вот и она, сама Знаменская церковь. Именно о ней говорил ему Иван Макарович, когда объяснял дорогу от вокзала к мастерской своего товарища. После исчезновения отца Григория, в церкви Певокрестителя, в Скрипино, службу больше не служили: не было священника. Церковь несколько лет была заброшена, но не разорена. А как только колхоз, набрав силы, стал богатеть, в церкви устроили склад, ссыпали зерно прямо на вековой пол, наполняя святыню зерном. Больше о вере в Бога не принято было говорить. Но всё же, Вовка и его мама, продолжали верить. Однако с годами, подрастающий волк стал отходить от Веры, погружаясь в коммунизм и впитывая как губка, идеи единения пролетариев всех стран. Новый строй, новая жизнь создавала новые законы, полностью захватывая и увлекая за собой людей. Религия для волка становилась доброй сказкой из детства, а, Сам Иисус Христос, превратился в доброго богатыря, защитника людей в этой сказке. Но подойдя к Знаменской церкви, он остановился. На кованой решетке церковной ограды нелепо висели плакаты и лозунги последних лет, призывая дать ответ Чемберлену и посещать кинематограф на Литейном. А сама Церковь, как устыженная женщина пряталась за этим забором, словно смущенно отворачивалась от всех, закрыв главные ворота и калитку в ограде. «Вход со стороны улицы Восстания» было написано на деревянной табличке. Волк обошел вокруг часовенки на углу и повернул на эту улицу Восстания. И вошел. Вошел в храм своего детства. Запах ладана и горящих свечей, забытый за последние годы, тишина и умиротворение! Благодать! Он прошел в главный придел к алтарю. Слева, у Распятия, стояла пожилая женщина крестилась и тихо читала молитву, на Вовку даже не взглянула. У алтаря красивый оклад и двери, колоны. На куполе написана «Тайная вечеря»: Христос с учениками, вот и Иуда, склонился услужливо к Христу,… скоро он предаст его. А сам Христос смотрит ласково и доверчиво, он любит своих учеников. Волк заглянул за его спину. Где-то там должен быть его отец, убитый на войне Сергей, но его опять не видно. Он вспомнил надпись под копытами царского коня и посмотрел ещё раз на Иуду… Выйдя из храма, он опять отёр пот с лица, глубоко вдохнул. Ему жалко стало Бога. Когда-то он вошел в Иерусалим, принёс людям Веру и за неё и погиб. Волк приехал в Ленинград и должен победить. А город гудел, шумел. Тут никому не было дела до Иуды, Христа и обиженного царя. Тут была совсем другая религия. Время Господа осталось в прошлом, и Волк зашагал вперёд. Но Невский проспект оказался вовсе не Невским, а проспектом 25 Октября. Люди неслись куда-то почти бегом, не привыкший к спешке Волк терялся и продвигался вперёд не быстро. Нужно найти поворот на Литейный. А если он уже тоже не Литейный? Что тогда? Нужно спросить у прохожих, но это были не прохожие, а пробегающие. И Волк, оглядываясь, шел медленно, но чуть погодя уже стал набирать скорость, идти быстрее и, поравнявшись с почти бегущим мужчиной, спросил у него на ходу:
– До Литейного далеко?
– Туда, вон. Я провожу, иди за мной, пацан, – это и было истинное лицо Ленинграда. Внимание людей, уважение друг к другу и забота.
Волк понесся рядом и вскоре бегущий мужчина остановился и сказал:
– Вот сюда поворачивай, а тебе куда?
– На Воинова!
– На улицу Воинова? – ответ удивил попутчика. Он задумался на миг:
– А на Шпалерную. Это туда, – и он махнул рукой вдоль проспекта, – иди туда, там спросишь, вон там, ещё далеко и тебе любой покажет, за зданием сгоревшего суда, что по правой стороне, там она, твоя улица Воинова, – и он улыбнулся и, набирая скорость, помчался дальше по своим делам.
Довольный Вовка весело зашага по Литейному, с интересом разглядывая здания и людей. Вот появилось и выгоревшее здание с пустыми оконными проёмами и следами копоти на стенах.
– « Вот бы и окна новые вставить сюда, можно неплохо заработать. Большие окна и много», – подул он, проходя вдоль суда. И повернул направо. Здание обгоревшего суда соединялось со следующим подвесным коридором, по которому шел солдат с ружьем за спиной. Вовка остановился и проследил за солдатом, пока тот не скрылся в обгоревшем доме. А следующее здание ещё больше привлекло его внимание. Окна первого этажа были погружены в землю больше чем наполовину, маленькие какие-то, Вовка уже замечал подобное в некоторый домах на Литейном.
– «Почему так? Толи эти дома погрузились в землю от древности, то ли так специально строили, чтобы свет попадал в полуподвальные комнаты. Всё равно для таких окон нужно делать маленькие и красивые оконные рамы», – рассуждал он с плотницкой точки зрения, и, проходя мимо, пытался заглянуть вовнутрь. Но чуть дальше, где-то посередине здания у входной двери стоял часовой солдат, тоже с ружьем за спиной. Испуганный Вовка отпрянул в сторону. С другой стороны дверей на белом мраморной табличке была надпись: « Здесь, в доме предварительного заключения в 1895-1897г. царской охранкой в камере 193 содержался вождь мирового пролетариата Ленин». Вовка опять превратился в настороженного волка и посмотрел снова на часового. Тот был в красноармейской форме, в «будёновке», красная звезда горела на лбу. Волк живо представил себе Ленина с протянутой вперёд рукой в камере 193, здесь в этом страшном доме, обиженного царя и Иуду и подумал:
– «Даже если меня уговаривать будут делать окна для суда и этого дома, я обязательно откажусь».
Теперь ему нужно было отыскать Водопроводный переулок 54/2, где-то напротив Таврического дворца. Дворец он нашел быстро, но пришлось вернуться назад, чтобы повернуть в Водопроводый. Вот и дом 54/2, вот и акра, о которой говорил Иван Макарович. Сюда. Здесь его ждёт большая жизнь!
Войдя под арку, Вовка очутился в небольшом дворике с сараями напротив дома. В сторонке лежат аккуратно сложенные штабеля досок разной толщины.
– «Сороковка, тридцатка и двадцатка. Уложено правильно», – отметил про себя Вовка.
Справа от арки, над входной дверью, висит деревянная табличка, на которой синей краской написано «Столярная мастерская Миронова». Дверь двухстворчатая, рассохшаяся, давно не крашена и слегка перекошена, плотно не закрывается.
–«Сапожник без сапог, а у столяра дверь не закрывается. Так и должно быть», – отметил Вовка, но тут уже, настроившись на серьезный лад, опять стал волком и вошел в эту дверь. В нос сразу ударил знакомый запах сосновых опилок, однако он попал в чистое помещение с ковровой дорожкой на полу и цветком в горшке на подоконнике. Дорожка ведет к столу, за которым восседает Дама лет сорока с объемными формами, одетая в открытое платье без рукавов, на голове у неё надета модная женская шляпка с подвёрнутыми полями и цветком. Дама подняла глаза от стола и вопросительно взглянула на вошедшего мальчика. Смущенный волк опять стал Вовкой и робко подошел к столу, от волнения даже снял тюбетейку:
Здрасте! – пробормотал он, прижимаю тюбетейку к груди одной рукой и протягивая письмо Ивана Макаровича даме другой.
Увидев конверт, дама выхватила его из руки Вовки и спросила сурово:
– Ты что, курьер? Чем так напуган? От кого конверт?
На конверте было написано: « Миронову Ивану Поликарповичу .От Семёнова Ивана Макаровича. Лично».
– Интересно, интересно! Это кто такой Семёнов? Что-то я не знаю! Ты чей, мальчик? – спросила дама, уже пытаясь открыть конверт, но увидев слово «Лично» остановилась.
– Я к Ивану Поликарповичу из Скрипина, из деревни, из Костромской губернии.
– Это, что ещё такое? Какая такая деревня? У нас и так проблем полно! – и она бросила конверт на стол, – сядь туда, – и она указала на два стула у окна. Вовка послушно отошел от стола и сел на стул, всё ещё держа тюбетейку у груди.
– У нас срочный заказ, Иван Поликарпович занят работой, а тут какая-то деревня.
И дама поднялась и пошла к двери в противоположной стене, держа теперь письмо на вытянутой руке двумя пальцами, словно оно было испачкано в деревенскую грязь. Только она открыла дверь, оттуда донёсся звук пилы, запахло опилками и канифолью.
– Иван. Иван Поликарпыч! Идите же сюда, тут вам письмо.
Шорканье пилы утихло и, секунду спустя, в двери появился высокий и худой мужчина в столярном фартуке и нарукавниках. Лицо его было морщинистым и мокрым от пота, на лбу – очки, жесткие, густые волосы покрыты сединой. И очки, и лицо, и руки, и волосы обильно посыпаны мелкими опилками, которые появляются только после пилы. Чем-то он был похож на Ивана Макаровича. Вид у него был добрый! Иван Поликарпович обтёр ладони о фартук и взял письмо из рук Дамы. Разорвал конверт и взглянул на него, но тут же опустил письмо, надел очки на глаза опять погрузился в чтение. Перевернув листок, прочитал до конца и, закончив, взглянул поверх очков на Вовку. Тот всё также сидел на краешке стула, прижав к груди тюбетейку, и испуганно смотрел на хозяина мастерской, слегка раскрыв рот.
– Так вот ты какой! – Миронов поднял очки на лоб и подошел к Вовке, – дай я на тебя посмотрю, сын солдата, поднимись-ка!
Вовка встал, дал себя обнять за плечи, нелепо улыбнулся.
– Глазёнки быстрые, чего ты напрягся, как волчонок! Одни мышцы, красавец,– он потрепал Вовку по волосам, – похож на волчонка, ей богу, похож!
– А что, правда, режешь угол 45* на глаз без стусла?
– Да, умею, – ответил Вовка, превращаясь опять в волка, готового постоять за себя.
– А пойдём, покажешь, – Маринов указал на дверь в мастерскую.
– А пойдём, – с вызовом ответил Волк.
И они вошли в мастерскую. Здесь всё было по-настоящему: и стойкий запах пиленого дерева и скрип пил, и сложенные ровными столбиками струганные доски и бруски, и верстаки, их было три, и у каждого работал человек, пилил или строгал. В помещении было два окна, но над каждым верстаком горела электрическая лампочка, чтобы столяр лучше видел своё изделие. У верстака, к которому они подошли, трудился пилой пацан, лет 15, Вовкин ровесник, худенький, одетый в столярный фартук и фуражку, из-под которой выпадали кудри рыжих волос. Весь он был посыпан, словно сахарной пудрой, тончайшими опилками.
– Петька, Петя! – Миронов потрогал за плечо работающего мальчика. Тот повернулся, взглянул на подошедших.
– Вот, это Вовка, будет работать у нас. А ну дай-ка ему инструмент, посмотрим, на что он способен.
Петька протянул Вовке пилу.
– Это что такое? – спросил Миронов, указывая на пилу.
– Пила, лучковая пила, – Вовка повернул пилу полотном вверх, потрогал подушечкой большого пальца зубья венца, оценив остроту, затем тронул само полотно, словно струну гитары, оценив натяжение. И оценив всё ещё раз, взялся за стойку над рукояткой и взглянул на Петьку, а потом на Миронова, словно сказал без слов: «К работе готов!»
– Давай угол 45*, вот здесь распили этот брусок, – сказал Миронов и подал из-под верстака отрезок бруска сантиметров тридцать.
Вовка положил брусок на верстак плашмя, упёр один его конец в упору, стал к верстаку чуть боком, пилу положил на брусок, подпёр полотно большим пальцем, и, выбрав угол между бруском и полотном 45, начал пилить медленно и аккуратно. Полотно скрипнуло, брусок отозвался, на его теле появилась бороздка. Вовка остановился, оценил угол, и, согнувшись опять, продолжил пилить, плавно и энергично. Пила «мяукнула», когда полотно пошло вперёд, брусок «квакнул», когда полотно пошло назад. Мяу-ква, мяу-ква,… полминуты, не больше и брусок сороковка был распилен. Миронов взял оба обрезка, развернул один и приложил их друг к другу опиленными концами. Угол ровно 90.*
– Петька, дай угольник.
Полученный угол был ровно 90*, потом он проверил каждый срез на столярном транспортире – 45* градусов точно.
– Могёшь! Молодец! Видно Иванова школа. Будешь работать, для начала, на оконный рамах. Твоя задача резать бруски под углом 45*, конечно со стуслом. Это пока, на сегодня, а там посмотрим. А сейчас пойдем к Наташе, поешь и получишь рабочую одежду. Жить будешь в одной комнате с Петькой и Ильёй.
Он повернулся. В углу мастерской, у третьего верстака работал ещё один столяр, парень лет восемнадцати, повзрослей и покрепче, чем Вовка и Петька.
– Илья! Подойди сюда. Вот это Вовка, сын моего боевого друга, будет у нас работать. А жить будет с вами водной комнате.
Вот так прошел первый рабочий день Овчинникова в мастерской. Потом был второй, третий, десятый. Работали с восьми утра до пяти вечера, перерыв на обед с двенадцати дл часу, каждые два часа – пятнадцать минут отдыха, покурить или попить чаю. В обязанности Вовки входило в первое время только нарезать бруски нужного размера на стусле. Это один брусок отрезать просто, а когда идёт поток брусков, нужно отмерить все размеры, а их четыре-шесть-восемь вариантов, правильно уложить в стусло. И только потом пила споет с бруском «мяу-ква». И всё – таки брак был у каждого из столяров, да и самого Поликарпа, как звали подмастерья своего мастера. Под верстаком к вечеру у каждого собиралась кучка обрезков, обструганных, отшлифованных, с выбранными пазами, но безнадёжно испорченных. Весь этот брак выносился к вечеру во двор, в сарай, где хранился уголь и дрова на зиму для топки печки. Вовка уставал поначалу от монотонного труда и вынужденной позы у верстака, но быстро втянулся и трудился с удовольствием и качественно. Поликарп его хвалил, впрочем, он всегда всех хвалил. Был он среднего возраста, за сорок лет, с густой шевелюрой, вечно нечесаных и местами седых волос. Взгляд его глаз буравил мальчишек насквозь и вызывал трепет, но был он добр душой и детей любил, хотя своих у него ещё не было и жены не было тоже. Он часто говаривал: « Не женат, не нагулялся ещё». А «гулял» он в мастерской, у верстака до десятого пота целыми днями с утра до ночи. Семьей его и были сотрудники мастерской, подмастерья – детьми, а сочная дама в приемной, что принимала заказы и вела бухгалтерию – чем-то типа жены, во всяком случае, очень хотела ей стать. А сам Поликарп проявлял интерес ко всем женщинам: и к секретарю и к кухарке Катерине тоже пышной даме в расцвете лет, и ко всем клиенткам. Про службу в РККА и про гражданскую войну рассказывал всегда с удовольствием, был абсолютно уверен, что, то были лучшие годы в его жизни. Он являлся ярым сторонником Советской власти, коммунистом с 1917 года. А вот в НЭП говорил «влип» случайно, и каждый раз, как только дела шли плохо всегда собирался бросить «к чертовой бабушке эту лавочку» и уйти на мебельную фабрику. Жили все тут же в двух комнатах при мастерской: в одной трое пацанов, в другой сам Поликарп. Комната ребят выходила в мастерскую, а комната хозяина в приемную. По субботам ходили в баню, что была в трёх кварталах, ходили все вместе с мастером. Стиркой одежды и белья, готовкой занималась кухарка Катя, девчонка лет двадцати. А вот вечером, после бани, Поликарп любил выпить. Иногда к нему приходили друзья с других мастерских и с мебельных фабрик, иногда он сам пропадал куда-то, бывало, даже не ночевал дома. А подмастерья гуляли вечерами по городу, ходили в кинематограф… Вовка всё порывался в церковь, но ни Илья, ни Петька в Бога не верили. Они были истинные дети революции и в Бога не верили. Да и Поликарп сам сказал Вовке:
– Послушай, волчонок, вера в Бога – это, ни что иное как, стремление человека переложить ответственность за свои поступки на него, на Бога. Когда я попал в отряд Красной Армии, то понял, что не Бог, а я сам отвечаю за каждого убитого мною врага, за порядок, который устанавливаю на этой земле. Я и есть сам себе Бог, и Бог есть во мне, моя религия – это коммунизм, светлое будущее всего человечества!
Так и мастерская Миронова была скорее маленькой коммуной, коллективом, а не НЭПовским предприятием. Весь труд был поделён: Дама отвечала за договоры с клиентами, платила налоги, начисляла зарплату по нарядам, Катя ходила на рынок и в магазины, варила еду, стирала рабочую одежду, а мужчины работали в мастерской. И культивировались в этой коммуне коммунистические идеи и воспитывались коммунистические принципы.
Вскоре Вовка поступил на учет в пионерскую организацию.
Однажды, в дождливый летний день, попали в Эрмитаж. Парадность, богатство, красота вызывали у Вовки смущение. Привыкший к нищете деревенской жизни, он не мог воспринять богатство царей и, поэтому был рад тому, что их изгнали из жизни. И уже хотел уйти из музея, как попал в военную галерею двенадцатого года…
У дверей их встретила уже немолодая женщина в толстых очках и тёплом платке, накинутом на худые плечи.
– Проходите, проходите, молодые люди сюда в зал славы русского оружия. Я сейчас Вам всё расскажу.
Их было трое: Илья за старшего, Вовка и Петька. У всех от удивления приоткрыты рты.
– Бородинская битва состоялась 26 августа 812 года. Скоро мы будем отмечать её 117– летие. Всё сражение длилось около 14 часов. Погибло в нём почти сто тысяч человек: русских и французов. Семь раз за время сражения позиции переходили из рук в руки, но к вечеру французы были вынуждены отступить. Им так и не удалось разбить Русскую Армию. Именно это сражение и решило судьбу Наполеоновской Армии, после Бородина началось изгнание врага из России. В ознаменование этой победу русский царь Александр 1 в 1819 году в своих «чертогах» решил создать галерею героев и, пригласил художника Джорджа Лоу, который и написал 332 портрета русских генералов, участвовавших в войне 12 года бородинской битве. Смотрите сюда, ребята,– она показала деревянной указкой вправо, вдоль узкой галереи, – вон там, в самом начале галереи мы видим портрет русского царя Александра 1 на коне. Но, он, царь, в бородинской битве не участвовал. Войсками командовал фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Вот его портрет, – и она указала на портрет рядом на стене справа. На нем во весь рост стоял пожилой мужчина.
– « Кутузов! Вот он какой! Михаил Илларионович! Стоит, – Вовка напрягся как волк и встал по стойке смирно перед фельдмаршалом. Он и раньше слышал о нём, но ещё никогда не видел. Ордена, погоны, лента, рукой указывает в сторону. Волк посмотрел за портрет. Там тоже портреты генералов. Он подошел ближе и стал читать фамилии.
– «Де-нис Да-вы-дов. Вот кто это! Вот он какой! Похож на крестьянина, такой же, только мундир и награды. Генерал. И глаза блестят на портрете.
О Кутузове и о Давыдове ему рассказывал Лёнька в школе, в Скрипино. Он продолжал стоять по стойке «Смироно».
– Знаешь, кто это, – спросила экскурсовод.
– Да, это Денис Давыдов. Герой! Партизан!
– Да, мальчик,– это герой. Сам Наполеон его боялся и приказал поймать и убить его. И послал против него большой отряд солдат. Но Давыдов со своими партизанами изрубил врагов, а живых взял в плен. А ещё Давыдов был поэт:
– Я Вас люблю без страха, опасенья,
– Ни неба, ни Земли, ни Пензы, ни Москвы,
– Я мог бы Вас любить глухим, лишенным зренья,
– Я Вас люблю затем, что это – Вы!…
Всю ночь Волку снилась Бородинская битва: грязь, кровь, запах дыма, кони, крики людей. Там, вдали, на пригорке стоял фельдмаршал Кутузов в зимней шубе и указывал ему, солдату Овчинникову, вдаль, где в окружении своих генералов важно сидел, положив одну ногу на барабан, сам Наполеон.
– Вперёд, за мной, – прокричал Давыдов, и, Волк, вскочил на коня и помчался в бой.
Решение было принято окончательное: он будет военным. Жаль ждать ещё пять лет. Это решение его окрепло, когда он прочел надпись на камне: «Здесь лежит Суворов» на могиле великого полководца в Александро-Невской Лавре. Он принял стойку «Смирно» и поклялся всю свою жизнь посвятить защите Родины на могиле фельдмаршала Кутузова в Казанском соборе…
А осенью пришла трагическая весть из Скрипина. Кулаки убили Ивана Макаровича, застрелили прямо на пороге сельсовета выстрелом в голову, поздно вечером. Выстрел этот эхом пролетел над деревней, и Василиса, почуяв неладное, побежала навстречу и нашла его мёртвого на пороге. Хоронили всей округой, отряд красноармейцев прошел строем перед гробом и был дан салют. Так и осталась Василиса опять одна. Так и проживёт всю свою оставшуюся жизнь без мужчины, свято веря в идеи коммунизма, и останется им преданной до конца.
В феврале 1931 года все труженики «Столярной мастерской Миронова не получили зарплату. Из-за возросших налогов, цен на древесину, подорожания электроэнергии, арендной платы за помещение, денег полученных после продажи изделий не хватило на зарплату. Политика Государства менялась. Иван Поликарпович собрал всех и сказал:
– Мастерскую закрываем. Всем оставаться здесь, вот деньги, – он достал из кошелька несколько купюр,– это на пропитание, пока не выгонят из помещения, – и протянул их «секретарю». Я еду сейчас к друзьям на 2-ю мебельную фабрику. Она создается сейчас на базе мебельной фабрики Халтурина, что была на Карповке. Ждите.
И через три дня весь коллектив « Мастерской Миронова» перешел на работу на 2-й деревообрабатывающий завод «Главдерева». Вовка, Петька и Илья были приняты учениками столяра и получили места в общежитии, и талоны на питание на фабрике-кухне, открытой в помещении бывшего склада фабрики Мельцера. Так Владимир Овчинников, шестнадцати лет отроду, влился в большой коммунистический коллектив. Началась новая, интересная, полная, радостная жизнь.
– Овчинников! Как Вы относитесь к религии? – спросил Секретарь Фабричного комитета комсомола, что сидел в центре в центре, застеленного красной скатертью стола, среди других членов комитета.
Волк, одетый в новую белую рубашку, настоящий мужской галстук красного цвета, белые брюки и белые парусиновые туфли, стоял один перед членами Комитета комсомола и отвечал на вопросы.
– Я не отношусь к религии. Я отношусь к рабочей молодёжи, отношусь к Советской Власти, отношусь к вождям мирового пролетариата и отношусь положительно восторженно и с уважением. Ак Религии я не отношусь вообще.
Секретарь удивленно сначала взглянул на Овчинникова, он явно ожидал другого стандартного ответа, но понял вдруг, что к таким словам и убеждениям то и придраться нельзя.
– Ответ убедительный, точный, верный, хотя и нестандартный. Но ведь мы все действительно не относимся к Религии. И все тут. Больше е говорить не о чем. Нет Религии и нет проблемы. Правильно Владимир. Я удовлетворён ответом. У кого есть еще вопросы, товарищи? – спросил он и оглядел сидящих.
– Скажите, Овчинников, а кто сейчас возглавляет ЦК ВЛКСМ? – спросила девушка, что сидела крайней справа.
– Первый Секретарь ЦК – Александр Васильевич Косарев. В 26 году он возглавил Василеостровской райком ГК СМ, а в 29 году возглавил Московско –Нарвский райком, который занимал в то время неверные позиции. Наладил там работу, убедил товарищей в правоте линии партии. И теперь достойно возглавляет ЦК ВЛКСМ.
– А теперь скажи, Овчинников, что ты можешь нам рассказать о своем детстве? Какие самые яркие воспоминания о нем у тебя, и какие события привели тебя в комсомол? – спросила другая девушка, что сидела слева от Секретаря.
Волк задумался. Детство. Это в первую очередь отец за спиной у Христа под куполом церкви. Это мама. Это Макарыч. Это Акбар! Он переступил с ноги на ногу и заговорил:
– Детство? Самое яркое воспоминание? Это Отец, что погиб в первую мировую войну. Я его не помню, и фотографии не было у нас. А вот его присутствие в моей душе и совести было всегда, его поддержку я ощущаю и сейчас, – он взглянул на потолок, примерно туда, где и должен быть лик Христа на куполе, – мама моя – крестьянка. Помню голод и трудности времени Гражданской Войны. Мама грела наши тела в прямом смысле и души постоянно. Самый близкий мой человек! – он опять умолк на миг, словно вспоминая, и вдруг заговорил уверенней и быстрее, – и ещё яркое как пламя воспоминание – мой пёс Акбар. Отец принес его в дом, когда я родился, и мы росли вместе. Он быстрее, я медленнее. Он стал большим и злым псом, сидел всю жизнь на цепи, прикрученной к ошейнику твердой проволокой, и никогда не покидал эту цепь. До смерти своей. Но для меня это был самый верный и преданный друг. Я часто малышом забирался в его будку и спал сладко, согревшись о его большое, доброе и теплое тело. И я сам открутил ту проволоку с цепи, когда он умер и похоронил его. А в день его смерти я вступил в пионеры. Вот такое было в моем детстве.
В комнате повисла тишина, слова Овчинникова вынудили всех слушать внимательно и переживать сказанное.
– Больше нет вопросов, – спросил Секретарь, первым нарушив молчание, – Давайте голосовать, товарищи. Кто «За» то, чтобы принять товарища Овчинникова в члены Комсомола? – и первый поднял руку.
Все проголосовали «За». А по щекам девушки, что сидела справа от Секретаря текли слёзы… И Волк стал комсомольцем.
Прошло время. Волк полностью погрузился в жизнь фабрики. Стал настоящим рабочим плотником, столяром, а ещё превратился в человека с активной жизненной позицией. Он всецело воспринимал развивающийся в стане общественный строй и жил полной и радостной жизнью. И вот в 1 декабря 1934 года убили Кирова. Смерть лидера сплотила народ и укрепила его в стремлении к светлому будущему. И Волка, как активного комсомольца, опять вызвали в комитет комсомола.
– По решению комитета комсомола и партийного комитета фабрики, Владимир Сергеевич, мы направляем тебя во вновь открывшийся филиал фабрики в Кировском районе, что теперь за Нарвской заставой. Там, на улице Тракторной, где строится Путиловский городок, есть школа 10-летия Октября, там её и найдешь, – Секретарь обнял по-дружески Волка за плечи, – Возглавишь там комитет комсомола и цех по производству кухонной мебели. Вот Комсомольская путёвка, – он протянул ему документ, – Да, вот еще держи, он подал ему кожаную папку с надписью «Главдерево», – теперь ты руководитель, Дарю. Завтра с утра и поезжай.
Такая вот беседа состоялась в комитете комсомола фабрики спустя почти три года после принятия Волка в комсомол. И, как всегда, решительно идя навстречу всему новому, утром следующего дня Волк отправился в новую жизнь.
Он пересек проспект сразу за Нарвскими воротами.
«Где-то здесь лошадь Дашковой потеряла подкову, на Петергофской дороге. А вон там произошло «Кровавое воскресенье», – рассуждал про себя Волк, не спеша, продвигаясь по улицам. Слева и справа от него, так же как и всегда, почти бежали ленинградцы. Выйдя на Тракторную, Овчинников с интересом рассматривал новостройки по обеим сторонам улицы. За деревянными заборами, отделявшими пешеходные дорожки от строительных площадок, раздавались голоса строителей. Кто-то громко командовал:
– Вира, вира, помалу, помалу, мать твою, еще медленней, одерживай, одерживай…
В теплоте весеннего воздуха, ласково согретым утренним солнцем, витала сама радость жизни, приближение чего-то важного и значительного. Помимо голоса со стройки. Утро наполнялось пением птиц, словно само солнышко дергало струны весны и играло мелодию жизни.
И вдруг. Словно лопнула струна: у дерева, на краю дорожки стояла девушка в красном платье и красной шляпке и плакала, промокая глаза белым платочком. Стояла она на одной ножке, а вторую поставила на носок тоже красной туфельки, опираясь другой рукой о дерево.
– Что случилось? Кто обидел? – Волк резко приблизился, сжимая кулаки, и посмотрел по сторонам, отыскивая злодея.
–Нет, нет. Никто, вернее я сама, каблук сломался, вот. Я сама сломала, – и она раскрыла ладонь, в которой лежал красный каблучок от туфельки. –
– Новые, только вчера купила, а сегодня уже сломала.
Волк взял в руку каблук:
– Точно подкова лошади Дашковой, – прошептал он, рассматривая каблучок.
В нем было отверстие от гвоздя, которым он крепился к туфельке, не разломанное, ровное и аккуратное. Сам каблук тоже был цел, без трещин своими .
– А можете снять туфельку? – он посмотрел на ножку в туфельке без каблука.
Девушка наклонилась, опёршись на его руку, и сняла туфельку. Наклоняясь, она коснулась Вовкиной руки своими волосами. Нежные и мягкие, словно пёрышко птички, они вмиг породили у него в груди доселе неведомую истому. И еще запах, запах женщины, чистый и свежий как это утро! Он стал рассматривать туфельку, но не видел её. Не глядя в лицо девушки, он видел её черные волосы, аккуратно облегающие почти прозрачное ушко, большой лоб и зелёные глаза с длинными ресницами, и красные красивые губы из-за которых блестели белые зубки. Девушка успокоилась и даже улыбнулась. Из туфельки торчал длинный шуруп, на котором и держался каблук. Вовка попробовал надеть каблук на шуруп. Получилось. Но каблук не держался. Он опять посмотрел по сторонам, словно хотел найти на земле отвёртку.
– Идите вот сюда к забору, княжна Дашкова, и наденьте пока туфельку, чтобы не испачкать носок, – он взял под руку девушку и, словно больную, повел её к заборчику у кустарника. Заборчик был низкий и прикрыт планкой сверху для красоты и совсем новый, даже не крашенный. Планка эта будто специально была придумана для того, чтобы девушка со сломанным каблучком могла присесть на неё. Папка с надписью «Главдерево» тоже оказалась очень кстати. А бумаги внутри папки были в восторге от своей роли в деле о ремонте каблучка.
– Я сейчас, подождите минутку, я быстро починю Вашу подкову, – властно сказал Волк и быстро зашагал к тому самому забору, из-за которого слышал про «мать твою». С боковой стороны открылись ворота, и из них выезжала медленно пустая повозка, а вдоль строящегося дома шел пожилой рабочий со столярным ящиком в руке.
– Послушайте, – Волк подошел к нему, – вот нужна помощь, – он показал туфельку и каблук рабочему, – одолжите отвёртку.
Рабочий взял в руки туфельку и каблук, рассмотрел внимательно:
– А сам осилишь?
– Постараюсь.
– А барышня где?
– Там сидит, ждёт, – Волк указал рукой в сторону Тракторной.
– Ну, ну, иди за мной, – он повел Вовку в сарайчик-бытовку у края забора, протянул ему свой ящик с инструментом.
– Там есть верстак и тиски. Дерзай. Ящик оставишь там. А я по делам.
Вовка вошел внутрь. Верстак. Вот он. Он высыпал инструмент на него. Через две минуты каблук крепко держался за туфельку новым шурупом и столярным клеем.
Девушка открыла ротик от удивления. Зубки взглянули на туфельку и смущенно спрятались за красные губки. Щечки тоже покраснели.
– Так быстро! Как новый! Кто Вы?– она подняла на него свои зелёные глаза.
– Я, Владимир Сергеевич Овчинников, – гордо заявил он.
– Тамара!
Она пришла первой. На маленьких часиках на ее руке было без пятнадцати минут семь. Это было не первое свидание в её жизни. Это было уже второе. А первое было давно, почти пять лет назад. Еще там, в прошлой жизни, в Электростали…
Шла первая студенческая осень. Все тревоги и переживания поры выпускных экзаменов и поступления на филфак остались позади. Уже и полевые работы в сентябре закончились. Началась студенческая жизнь, лекции в непривычных ещё аудиториях с поднимающимися вверх рядами причудливых парт, новые друзья и новые знания. И вот она радостная и счастливая бежит почти вприпрыжку с занятий домой. И тут свисток милиционера такой громкий, что бедная Тамара с перепуга замерла как вкопанная. И перед ней появился он, милиционер – мужчина: белая каска с красной звездой, белая гимнастёрка, петлицы с тремя ромбами, пояс, блестящие сапоги. И главное, выбритые до синевы щеки и черные волосы, что торчат из– под воротника прямо на шею, смущенная улыбка и влюблённые глаза. Да, она сразу поняла «влюблён», так он смотрел.
– Старший лейтенант Константин Иванов, можно просто Костя. Кому нарушаем?
Тамара от удивления открыла ротик, и белые зубки вмиг выстроились в шеренгу готовые атаковать агрессора. А глаза удивленно и уже тоже влюбленно рассматривали этого «просто Костю», и, получив команду «отставить» каждый зубик теперь тоже смотрел во все глаза.