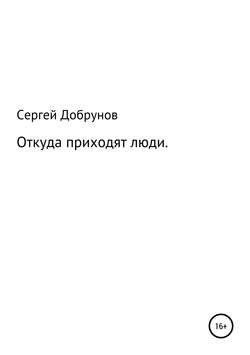Читать книгу Откуда приходят люди - Сергей Дмитриевич Добрунов - Страница 1
ОглавлениеОткуда приходят люди
Просыпался я в то давнее время рано, будить меня никто не будил, но ещё сквозь
сон я слышал голос моей бабушки, Марии Сергеевны, самого близкого мне тогда и любимого мной человека. В эти столь ранние часы она сидела с мамой на кухне и рассказывала ей что-нибудь из своей жизни.
Она уже много лет жила одна и поэтому, когда мы приезжали к ней, просто хотела поговорить. Старики живут прошлым, вот и она вспоминала нелегкую свою жизнь. И я, ожидая чего-то интересного и приятного от этих рассказов, укладывался поудобнее тихо слушая и испытывая чувство полного счастья и спокойствия, какое бывает только в детстве и какого уже больше никогда не будет.
Я был единственный мужчина в доме, семи лет от роду, поэтому спал один в гостиной на старом диване. Диван этот, как и вся мебель, пришел вместе с бабушкой из прошлого и был совсем не таким, какие появились уже тогда. Узкий и не длинный, без спинки, обитый когда-то кожей, теперь потрескавшейся по углам, он, скорее, предназначался, чтобы сидеть на нем. С одной стороны у него располагалась пологая подушка, плавно поднимающаяся с сиденья, а с боку этой подушки, где складки кожи веером сходились к центру, помещалась медная голова льва с открытой пастью и острыми зубами. Вот этот диван и понравился мне своей необычной формой и особенно, львиной мордой. Напротив него, между окнами, на старинном комоде среди других вещей стояла фотография в рассохшейся деревянной рамке, где на краю этого самого дивана, видно еще совсем нового, сидел, закинув ногу на ногу и держа в руке горящую папиросу, незнакомый мне мужчина в черном костюме с галстуком, а рядом с ним, положив ему руку на плечо, стояла молодая женщина с очень знакомыми чертами лица, в длинном белом платье и высоких черных ботинках на шнурках. Внизу стояла дата – 1924 год.
В то летнее утро шел дождь, я немного проспал и чуть не опоздал к началу рассказа, поэтому, встрепенувшись, стал внимательно слушать. Речь бабушки сливалась с ударами капель о подоконник, в доме было тепло и уютно…
–
Ты знаешь, душа моя, сегодня пятьдесят лет одному весьма значительному и трагическому событию. Эта было так давно, словно в другой жизни… и если бы этого не произошло, то и тебя, и детей твоих может быть и не было бы на свете. Все могло быть иначе. И, не в обиду тебе будь сказано, всю жизнь жалею о том, что так вышло…
Произошло это летом тринадцатого года. Отец мой был управляющим на шахте, жили мы вполне хорошо, обеспеченно, и, когда я окончила гимназию, он отправил нас с мамой отдохнуть в Одессу. Были, по-моему, еще и чисто деловые цели поездки, которыми должна была заняться мама. Отправились мы в конце июля, погода стояла жаркая, солнце нещадно палило землю, будто подготавливая ее и людей к предстоящим испытаниям. Мы ехали поездом с пересадками, но по тем временам с большим комфортом. Я была в том возрасте, когда считалось нужным выходить замуж. Мама все устраивала вокруг меня надлежащим образом. Внешности она была заметной, с тяжелой фигурой, характером волевая, даже я ее побаивалась, а уж проводники в поездах и на вокзалах признавали в ней, как минимум, генеральскую жену и обращались с ней подобострастно и уважительно. Дорога доставляла мне немалое удовольствие, потому как я впервые покинула родные места.
Я смотрела на все удивленно и выглядела, наверное, немного глупо.
Что такое Одесса в тринадцатом году? Правда, какая она сейчас, я не знаю (больше там не была), но тогда этот город очаровал меня. Отлично помню тот дом в Лузановке, который нам сдали быстро благодаря маминым стараниям и неисчерпаемой ее энергии. Мы сняли две комнаты на первом этаже в доме местного врача. Окна наши выходили в небольшой дворик, где росло много роз самых разных цветов. И запах этих роз наполнял наши комнаты и саму мою душу счастьем и ожиданием чего-то значительного и такого важного в моей жизни, что сама Одесса и море, видневшееся вдали за этим двориком, казались мне прелюдией к этому большому счастью – впереди была вся жизнь.
Я готова была целыми днями гулять по Дерибасовской. Особенно мне нравилась тенистая Пушкинская, а потом мне сразу хотелось идти к морю, бежать вниз по лестнице и подниматься назад и махать рукой каменному Решилье… Жара нисколько меня не мучила, а вот мама… ей, конечно, приходилось туго, она то и дело садилась отдыхать где-нибудь в тени. Я не могла усидеть, все хотелось увидеть:
– Что там за углом, мама, пойдемте посмотрим, там и отдохнете, – говорила я ей каждый раз, когда она намеревалась присесть.
– Хорошо, душа моя, пойдем, только не спеши так.
Она прикрывалась зонтиком, обмахивалась веером и несла свое тяжелое тело туда, куда меня влекло. Раньше в Одессе она тоже никогда не была, и видно было, что ей самой все интересно. А когда мы первый раз сели в трамвай, то упоение движением и звонками вызвало у меня дикий восторг, я чуть ли не кричала от удовольствия.
После таких прогулок мама на следующий день никуда ехать не хотела, и мы проводили его у моря. Пляж, что располагался ближе всего к дому, вовсе не был местом специально приспособленным для купания. Это был чистый и ровный берег, усыпанный галькой пополам с песком. Маленький ресторанчик одиноко стоял в одном его краю. Купались здесь и снимали квартиру в основном люди средней руки, поэтому народа на пляже было немного.
Хозяева наши оказались очень милыми людьми: Николай Иванович – врач, уже немолодой мужчина, седоволосый, с аккуратно стриженной бородой, степенный и рассудительный человек. При каждой встрече он почтительно склонял голову. Одетый всегда очень аккуратно, он вызывал во мне большую симпатию и отчасти чем-то напоминал папу. Жену его звали Наталья Александровна. Она, наоборот, была энергичной и беспокойной женщиной, худенькой и небольшого роста. Не работала, весь день свой занималась домом и цветами.
Поначалу мы собирались все вместе за столом.
Начало всей той драме получилось во время нашего с мамой посещения театра, хотя я тогда и не придала этому особого значения. Уже, когда мы поднимались по ступенькам огромного его крыльца, было такое чувство, что я прикасаюсь к одному из значительнейших творений человечества, вхожу в удивительный храм искусства, и оперного, и архитектурного. Внутреннее убранство этого храма поразило меня своей красотой и изяществом, и чувство собственного ничтожества перед этим творением рук человеческих овладело мною. Однако мы вошли туда, и никто нам ничего плохого не сделал. После того как швейцар проводил нас к проходу в партер, вежливо улыбнувшись и склонив голову на прощание, я осознала вдруг, что весь этот удивительный мир принадлежит и мне, что я такой же человек, как и все, собравшиеся здесь люди.
Наши места были в центре партера, и нужно было пройти между рядами, чтобы добраться до наших кресел. В зале стоял легкий гул от сотен голосов усаживающихся зрителей. Большие люстры подчеркивали величину зала, обивка кресел создавала уют. Когда мы подходили к своим местам, то, пропуская нас, поднялись уже сидевших там двое военных. Один был совсем молодым, а второй, лет тридцати, слегка поклонившись нам, представился: "Ротмистр Никитин". Надо сказать, что я плохо воспринимала происходящее на сцене, потому что этот Никитин больше смотрел на меня и отвлекал постоянно объяснениями происходящего. А во время антракта пригласил нас в буфет и, когда мы поднимались по лестнице, взял меня под руку. Я боялась даже взглянуть на него, все ища защиты у мамы, но она не обращала, казалось, на это внимания, и взгляд ее говорил, что так и должно быть. Когда мы сели за столик, я, наконец, решилась разглядеть моего спутника. Он был некрасив: как будто маслом намазанные волосы посыпаны были перхотью, маленькие хитрые глаза все время изучали меня, а не задерживались долго на одном месте, китель лоснился на шее, а на правой руке был большой золотой перстень. Он явно не гармонировал с окружающей нас красотой, и каждый взгляд его словно иголкой колол меня. Молодой спутник его куда-то исчез, но он сам распоряжался словно хозяин всего театра.
–
Могу я узнать ваше имя? – спросил он еще раз, оценив меня всю, как интересную и красивую вещь.
–
Мария Сергеевна, – ответила за меня мама, – а куда же ваш друг подевался? – она тоже уже рассмотрела его и, стараясь уберечь меня от этого неприличного изучения, отвлекала его.
– О, молодежь! Он так стесняется дам, что, наверное, остался в кресле или курит где-нибудь. Мария Сергеевна, – он опять повернулся ко мне, – как спектакль? Как Стешкин, поющий Отелло? Он мой большой товарищ и, должен заметить, должник. Такой знаете бесшабашный талант, голосина! А вот в жизни мот, абсолютно не приспособлен.
Я решила ничего не бояться и охладить его наглость, поэтому заявила с некоторой неприязнью:
– Я, знаете, в театре впервые в жизни и с певцами незнакома, но, думаю, что слова товарищ и должник как-то неуместны при оценке таланта. Вы дружите с ним из-за того, что он известен или он просто нравится вам как человек? Кстати, а как ваше имя, или вы просто ротмистр Никитин? – я попыталась оценить его таким же взглядом, каким он оценивал меня минутой раньше.
– А вы крепкий орешек, Маша, – сразу изменившись в лице, ответил он, сделав мягкую приветливую улыбку. – Зовут меня Иннокентием Петровичем, я ротмистр артиллерийского полка. Давайте не будем ссориться. Вы, я вижу, недавно в Одессе, и я могу составить вам компанию на прогулках и увеселениях.
Но ответить мне не пришлось, зазвенел звонок, и мы поднялись из-за стола.
Я демонстративно взяла под руку маму, а Никитин шел просто рядом со мной и уже заискивающе стал рассказывать о других актерах и о его большой дружбе с ними. И тут я почувствовала, что от него пахнет спиртным, как от простых наших рабочих на шахте. От этого он стал мне еще неприятнее, и я прижалась ближе к маме. До конца спектакля он уже не отвлекал меня и, проводив нас до извозчика, извинительно сказал, что ему очень приятно было познакомиться и что он надеется на дальнейшие встречи и всегда готов составить нам компанию.
–
Ну, душа моя, ты молодец, так отпела этого хлыща, что даже я слов не нахожу. Смотри только не перестарайся. Ты ведешь себя так, словно он тебя силой
под венец тянет. То ты стесняешься и боишься всего, то вдруг накидываешься на человека. Неуравновешенная ты какая-то. Но вообще я довольна. Ты можешь постоять за себя. Я наблюдала за тобой со стороны и слова вставить не могла, – мама всю дорогу домой говорила то ли со мной, то ли так высказывала вслух свои мысли.
Но после того посещения театра во мне вдруг наступила какая-то пустота и безразличие. О Никитине я больше не думала, но осталось непонятное чувство досады, которое постоянно томило меня. Весь этот большой мир стал вдруг чужим. Я наотрез отказывалась куда-нибудь выходить не только потому, что не хотела встретиться с Никитиным, но и потому, что просто стала скучать по дому, по отцу, по своей комнате, по нашим простым и очень знакомым людям. А здесь все стало мне чужим, даже запах роз был неприятен и действовал удручающе. Я все больше лежала на диване с книгой и не столько читала, как скучала просто и, наверное, жалела себя.
–
Послушай, душа
моя, ведь нельзя так хандрить, так можно и заболеть ненароком, – говорила мне мама, присев на край дивана рядом со мной, – я ж ведь с тобой и никому тебя в обиду не
дам. Я
всю жизнь стараюсь
воспитать
в тебе характер, чувство
собственного достоинства
и
превосходства
над многими другими людьми. Ты теперь в том возрасте, когда нужно четко определить свое место
в
жизни. Замуж, допустим, выдам
тебя я, я
найду
тебе
мужа, вот
не понравился, я
вижу, тебе этот Никитин и
ты
уже весь мир невзлюбила.
А
первое впечатление, как правило,
обманчивое, и, прошу
тебя, если мы
с
ним
встретимся
еще раз, не будь букой, постарайся заставить его больше раскрыться, не бравировать перед тобой; будь с нам мягче, будь женственней. Пойми, мужчины в возрасте Никитина проявляют интерес к женщине такой,
как ты, видя в ней, в первую очередь, будущую жену, и женитьба для них – это не только приобретение дорогой вещи. Жена должна стать для него вторым «я», а может быть, и первым, и заставить себя быть такой по отношению к будущему мужу нужно еще до того, как ты выйдешь замуж. Мужчина должен с первой встречи чувствовать твою внутреннюю силу, твой дух
и
любить в тебе не только хорошенькую фигуру и приятное личико, но и твой характер, твои поступки, твое отношение к жизни, к нему. Это главное, что заставляет мужчин сделать свой выбор, – закончила она и, глубоко вздохнув, посмотрела на меня.
– Да? Да он только как вещь меня и рассматривал, только и хвастался своей близостью к актерам. Наверное, он богатый паршивец, этот твой Никитин. Я… я не хочу говорить больше о нем, – расстроившись совсем, я отвернулась к стенке и закрыла глаза.
–
Интересное у тебя восприятие всего этого. Ну что же лежи и думай. Голова на то и дана, чтобы думать. Но я не хочу, чтобы первое разочарование испортило тебя совсем. Надеюсь, этого не случится.
Больше она меня не трогала, только смотрела на меня с сожалением и, видно, давала мне переварить все самой. Она сидела на веранде и вязала или беседовала с хозяйкой и ухаживала с нею за цветами. Иногда она уезжала куда-то, как говорила мне, исполнять отцовы поручения по разным шахтным вопросам. А я заставляла себя читать "Войну и мир” и все больше и больше завидовала ее героиням, которые любили таких интересных мужчин. Так прошло несколько дней.
Но вот однажды с утра я заметила какое-то необычное оживление в доме: кухарка все время суетилась в кухне, весь дом мылся, хозяйка распоряжалась повсюду, сама меняла шторы в гостиной, перебирала посуду в шкафу, была возбуждена и многословна. Николая Ивановича, как всегда, с утра не было, а вернувшись, он переоделся в красивый белый костюм и, чтобы скрыть свое такое же возбуждение, сел с газетой на веранде, но читать не мог и вдруг затребовал у жены водки, выпив, стал немного спокойнее, а встретив меня, поцеловал мне руку. Глаза его светились радостью и особым каким-то восторгом.
– Что все это значит? По поводу чего такие приготовления и суета, Николай Иванович? – спросила я, удивленная шумом в этом таком тихом всегда доме.
–
Как? Разве вы ничего не знаете? – удивленно ответил он, все еще держа
мою руку. – Алексей приезжает. Понимаете, сын наш окончил курс горного
инженера в Петрограде и возвращается домой. Мы его два года не видели,
к четырем едем встречать его на вокзал, к Питерскому поезду.
А мной вдруг овладело непонятное чувство то ли стеснения, то ли страха. Как? Быть в одном доме с молодым человеком, хозяйским сыном? Это было так неожиданно. Признаться, я и не думала раньше, что у таких людей, как Николай Иванович и Наталья Александровна, должны быть дети, и потом этот двухэтажный дом… ведь можно было догадаться, что комнаты наверху вовсе не нужны двум людям… Я расхаживала по своей комнате и нервничала, как будто надеялась и пыталась что-то изменить. Я понимала, что этой встречи не избежать. Вот уже и хозяева наши уехали, правда, гораздо раньше, чем нужно, но это еще больше взволновало меня. А мама, наоборот, спокойно усадила свое крупное тело в плетеное кресло на веранде и вязала, как ни в чем не бывало, словно хозяева уехали на прогулку.
А чувство беспокойства, даже паники, будто я уже заранее виновата в чем-то, абсолютно не давало мне покоя, я то садилась к столу и брала книгу, то выходила в гостиную и на веранду, то опять возвращалась в наши комнаты и вдруг решила, что встретиться с ним сразу никак нельзя, а мама, казалось, не замечает моего волнения и спокойно вяжет.
–
Пойдемте погуляем, мама, пойдемте к морю, душно как-то, жарко, – обратилась я к ней в надежде, что она опять спасет меня от моих волнении.
–
Наконец-то, душа моя, хорошо, пойдем. Быть в Одессе и просидеть сиднем дома? Да и хозяевам надо дать побыть с сыном хоть первые часы. Пойдем, – ответила она, совсем на замечая моего волнения, отложила вязание и, тяжело встав, пошла собираться.
Мы спустились к морю, зеленому и далекому, так, что невозможно было определить, где оно кончается и где начинается небо. Я вглядывалась вдаль, искала горизонт и терялась, не сумев его отыскать. Дул свежий ветерок оттуда, от этого неясного и таинственного горизонта, и нес в мою душу какую-то тревогу и смятение.
Потом мы сидели на террасе небольшого ресторанчика и пили лимонад, ели мороженое. Особых знакомых у нас здесь не было, но мама уже здоровалась со многими. Дамы приветственно кивали ей, а некоторые мужчины подходили даже целовать руку и снимали шляпы. И вот, я даже не заметила откуда он взялся, перед нами вырос Никитин. Он стал еще худее и выше, все те же маслянистые волосы, чуб, спадающий на лоб, и перхоть… Он склонился к маме, целуя руку, и взглянул на меня. Вид его маленьких быстрых глаз был теперь скорее теряющимся и смущенным. Спросив разрешения, он присел к нам за столик, я решила быть мягкой с ним, не кусаться;
– А, Иннокентий Петрович! Вот уж мир тесен, я, признаться, часто думала о вас, – сказала я так, чтобы неясно было, как я думала, – вы уж простите мне мою резкость во время нашей первой встречи, – спокойно, словно извиняясь, проговорила я и неожиданно для самой себя с сарказмом продолжила: – Надеюсь Отелло вернул вам долги? – тут я увидела, как мама грозно свела брови и обожгла меня своим взглядом.
– Ах, Марья Сергеевна, какие долги, что значат деньги в нашем прекрасном мире? Здесь, возле вас, когда рядом такое прекрасное море, когда само солнце светит только для вас, разве можно думать только о деньгах? Бог с вами. Я так рад, что увидел вас вновь. Признаться, я тоже часто думал о вас, и ваша резкость тогда пришлась мне по душе, я даже благодарен вам, что вы заставили меня по другому взглянуть на многие вещи,– он улыбнулся мягко и слегка застенчиво, показывая свои маленькие и желтые зубы.
– Будет вам опять спорить и философствовать, – мама приятно улыбнулась ему, – мне смолоду нравятся офицеры. Вы здесь на отдыхе или полк ваш стоит здесь? – Нет, я отдыхаю. Знаете, я подумываю оставить службу и заняться устройством жизни. Сколько можно мотаться по свету? Пора уже остепениться и быть умней, – он умолк на минуту. – Вы хотите шампанского, нет, скажите честно, хотите? – он заглянул маме прямо в глаза, а потом повернулся ко мне и опять мне показалось, что он колит меня своим взглядом, еще и еще раз оценивает, как товар в лавке.
–
Официант! Быстро шампанского дамам, – произнес он громко и надменно, так, что официант, сидевший поодаль, подскочил и скрылся за стойкой.
– Вот, шельма, уже спит. Удивляюсь я нашим мужикам. Мы их поим, кормим, работу даем, а они наровят спать даже на работе, – надменно закончил он.
– А по-моему, это они нас поят и кормят, они создают нашу спокойную жизнь, – со злом возразила я.
–
Да, я вижу вы не только философ, но еще и революционер! Браво! Такой вы мне еще больше нравитесь.
Официант подал нам бокалы. Я еще никогда не пробовала шампанского, но как ни старалась, не могла быть теперь мягкой и не могла заставить себя любезно говорить с Никитиным, поэтому я попросила официанта:
–
А мне, пожалуйста, еще лимонада.
– Да, да, принеси сейчас же, если дама требует! – зло сказал Никитин, даже не взглянув на него.
Поклонившись, официант ушел.
–
Вы, я вижу, не любите народ, – начала распаляться я.
–А за что его любить? Что он женщина, что ли? Каждому из нас Господь определил место: кому официантом быть, а кому за столом сидеть, – и оставшись довольным своим высказыванием, он откинулся на спинку стула, стал жадно большими глотками пить шампанское.
–
Но ведь Господь учит нас любить ближнего своего, – вмешалась мама, опять отстраняя меня от препираний с этим человеком.
– Вот именно ближнего – того, с кем ты сидишь за одним столом, – он многозначительно взглянул на меня, – разве Господь садился за стол с неближними своими, разве не он учит нас карать неверных?
– Ну уж извините, разве наш русский человек, пусть и мужик, неверный? Вы заблуждаетесь, Иннокентий Петрович.
–
Дорогие мои, зачем нам сейчас обсуждать вопрос мужиков, – нарочно громко сказал он, когда официант поднес мне мой лимонад, – мужик он и есть мужик, – и тут, видно решив снизойти до мужика, он достал свой большой бумажник и, протянув несколько купюр официанту, сказал: – Ну ка, любезный, одна нога здесь, другая там, принеси дамам цветов, сдачи возьми себе.
Удивленный официант, держа деньги почти на вытянутой руке, посмотрел по сторонам, словно соображая, где же здесь взять цветы, быстро вышел из ресторана.
–
Видите, наш мужик не только глуп: работать в ресторане и не знать, где купить цветов… но еще и жаден – видели вы, как он вцепился в деньги, – самодовольно говорил Никитин, все еще глотая шампанское и глядя в сторону скрывшегося за углом террасы официанта. Поставив пустой бокал на стол, сам себе наполнил его и продолжил: – Будет о мужиках. Мы же за одним столом, мы – ближние, и если не по библейским правилам, то, надеюсь, станем ими по человеческим. Как вам отдыхается, Маша? Я больше не вижу вас в опере, и, признаюсь, это расстраивает меня, я уже иду туда не спектакль слушать, а только увидеть вас, – как-то наигранно и слащаво говорил он.
И я уже собралась ответить какой-нибудь грубостью, но мама опередила меня:
– Последние дни ей нездоровилось, но как-нибудь позже мы съездим еще.
На мое счастье, на террасу вбежал наш официант, неся большой букет роз, такой, что, наверное, и сдачи-то не осталось, и, подойдя, улыбнулся мне мило и протянул цветы. Он был уже не молод, с сединой в висках и множеством морщин на лице, но эта улыбка человека, подающего мне цветы, была искренней, хотя и дарил он мне их от чужого имени. Я улыбнулась ему в ответ.
– Пошел, пошел, – грубо отстранил его Никитин.
Поклонившись ему слегка и без всякой улыбки уже, официант ушел.
Солнце клонилось к горизонту и заглянуло под тент террасы, обдавая нас своими еще горячими лучами.
– Нам пора, – сказала мама, – спасибо, Иннокентий Петрович, за компанию, мы пойдем.
– Бог мой! Куда так рано? Не лишайте меня радости общения с вами.
– Нет все, теперь отдохнуть надо, – мама поднялась резко, давая понять, что возражений быть не может.
Никитин взял меня под руку и помог спуститься по ступенькам с террасы. Но, подойдя к выходу с пляжа, мама повернулась к нему, с выражением непримиримой воли сказала еще раз «спасибо». Дала понять, что дальше провожать нас нет нужды, и, смутившись под ее взглядом, Никитин поклонился, поцеловал мне руку, что, надо сказать, было еще непривычно тогда мне, повернулся и пошел назад в ресторан.
А у меня поднялось настроение. Да, я сделала, как мама хотела. Я была приветлива сначала и заставила его раскрыться, сняла с него ту маску вежливости и порядочности, которую он напялил на себя, подсев к нам за столик. Идти было недалеко, но, подымаясь по улице, мама тяжело дышала и была раскрасневшаяся то ли от выпитого шампанского, то ли от стоявшей еще жары. А, повернув к дому, я вдруг посмотрела на цветы, что подарил мне Никитин и положила их на забор у какого-то дома. Мама, взглянув на меня, ничего не сказала, только недовольно покачала головой.
Возле калитки нашего дома стоял экипаж, а с веранды доносились веселые голоса. Прежняя боязнь и неловкость вновь нахлынули на меня, и, взяв маму под руку, я несмело вошла во двор. За столом сидели хозяин с женой, их сына не было. Николай Иванович встал и предложил нам стулья. Но я, испугавшись еще больше, сказала, что устала после солнца и пойду отдохну, выйду чуть позже.
– Иди, иди, душа моя, приляг, отдохни, – проговорила мама, усаживаясь на стул рядом с хозяйкой, и, кажется, забыв про меня совсем, обратилась к Наталье Александровне:
– А где же ваш сыночек?
– Сейчас спустится. Что-то возится у себя в комнате. Присаживайтесь, будем ужинать.
Я быстро прошла в гостиную и, миновав лестницу на второй этаж, заскочила в свою комнату, засмущавшись совсем. «Вот и хорошо, что его нет пока. Лучше позже встретиться с ним, чем сразу», – подумала я, все еще глядя на лестницу и закрывая за собой дверь. И тут!… Спиной ко мне возле книжного шкафа в дальнем углу комнаты стоял молодой человек в белой рубашке с широкими рукавами и листал какую-то книгу. Он не мог увидеть меня сразу и, прекратив листать, стал читать что-то. На столе рядом лежало уже несколько книг и тетрадей. Наверное, он выбирал что-то в шкафу, но вдруг обернулся и смущенно взглянул мне в глаза. Нет, он не осматривал меня всю, как Никитин, а смотрел именно в глаза. Некоторое время мы молча рассматривали друг друга. Глаза его были большие и открытые. Я увидела маленькую родинку у него над верхней губой, белизну зубов между удивленно приоткрытыми губами и бьющуюся венку на шее.
Я стояла, испуганно глядя на него, и уже решилась выбежать из комнаты и крепко сжала дверную ручку, как он, забросив назад свои непослушные волосы, сказал:
–
Извините, я только хотел взять свои записи и несколько книг, пока вы не
пришли. Извините еще раз. Я, наверное, не должен был, как воришка, заходить в вашу комнату, – и, улыбнувшись мягко и смущенно, добавил, отодвигая стул: – Проходите, я сейчас уйду.
Щеки мои горели, пока я дошла до предложенного мне стула, желание убежать прошло, и возникший интерес к этому петроградскому инженеру придал мне сил. Я хотела сказать ему, что он поступил дурно, войдя сюда, хотя в принципе это его дом, но все же… Я не успела додумать, что такое сказать, как он направился к двери.
– Что же вы, а книги, ведь вы за ними пришли, – испугавшись уже, что он уходит, сказала я. – Лучше, лучше я выйду, это ваш дом, я… я потом.
Он остановился и, стоя спиной ко мне и не поворачиваясь, заговорил:
–
Я знаю, что поступил не совсем красиво, но мне очень нужно было… я не
надеялся встретить вас здесь, – и, повернувшись, взглянул на меня так, что у меня замерло все в груди и дышать стало трудно. – Вы отдыхайте, – он вернулся к столу, взял книги и закрыл шкаф. Теперь он был близко ко мне, и я видела, как
учащенно пульсирует венка у чего на шее. Сложив тетради и книги в стопку, он взглянул мне опять прямо в глаза, – Алексей, – представился он и приветливо
улыбнулся, показывая свои ровные белые зубы.
– Мария, Маша, – поправилась я.
–Я уже знаю, откуда вы приехали, самое удивительное, что мне ехать работать к вам на шахту, скоро ехать. Я хотел бы подружиться с вами.
– Я, я тоже.
– Я пойду, приходите на веранду, я буду вас ждать.
Он повернулся и быстро вышел.
Я опустилась на стул и вдруг почувствовала радость. Мою тоску как рукой сняло. Опять что-то прекрасное было, только не вдали, а где-то здесь, рядом, опять запах роз наполнил счастьем всю меня.
Познакомились мы легко и просто, а вот выйти теперь из комнаты я почему-то не могла. Все сидела и сидела на стуле и не решалась ни на что. Сколько времени прошло, не помню. Вошла мама. Вид у нее был суровый:
– Маша, ну что ты сядешь здесь, как дикая кошка, забилась в угол. Пойди, познакомься с хозяйским сыном, очень интересный молодой человек. То кидаешься на мужчин со своими осуждениями, то, на тебе, выйти боишься. Пойми, раз ты прячешься от него, то он не поймет твоего стеснения, а сочтет это как пренебрежение. Собирайся и выходи.
Мама ушла, а я почувствовала себя почему-то одиноко, но возникший интерес к этому молодому человеку, теперь уже инженеру, заставил меня встать и, испытывая непреодолимую робость, выйти на веранду.
Компания за столом была небольшая: Николай Иванович, Наталья Александровна, мама и Алексей. Иногда появлялась кухарка, принося закуски и убирая посуду, она молча, как тень, перебиралась между верандой и кухней.
– А вот и моя Маша, – обрадованно представила меня мама. Понятно, что только Алексею, хотя по ее тону чувствовалось, что она хочет погордиться мною, похвастать, так же, как гордятся и хвастают сейчас счастливые Алексеевы родители.
– Глядя на вашу Машу, я не перестаю восторгаться свежестью и очарованием юности, – сказал Николай Иванович, – но, знаете, в последние дни я заметил в ней некоторые перемены. Да, Машенька, я вижу, что вам скучно здесь, что первый интерес к большому городу, цивилизации, так сказать, у вас уже прошел, вам все это надоело, как прочитанная книга, и знаете почему? Потому что люди, собирающиеся здесь на отдых, все скучают. Все мои пациенты больны в первую очередь скукой, а уж потом у них появляются другие болезни. Потому, что они все обеспечены и не должны трудиться в поте лица, зарабатывая себе на хлеб насущный, распалялся Николай Иванович и, уже обращаясь ко всем, продолжил: – Все, кто может себе позволить ездить к морю в нашем современном обществе, настолько богаты, что не знают, куда себя деть. Знаете они все – Евгении Онегины и Печорины в разных возрастах. Поэтому скука стоит здесь, несмотря на массу развлечений. Все эти люди глубоко несчастны и мне их искренне жаль.
Я была удивлена такой проницательностью Николая Ивановича и отметила про себя, что я скучаю ведь только от безделья, что и мне не приходится думать о хлебе насущном, все, что мне нужно, я получаю от родителей и ни в чем не нуждаюсь. Значит я тоже в каком-то роде Евгений Онегин.
–Так, значит, ты считаешь, что только те, кто работает с утра до ночи, только те счастливы? – начал возражать Алексей, даже спорить с отцом, – то есть только народ наш и счастлив?
– Да, если хочешь, то истинное счастье, удовлетворение от каждого прожитого дня должен испытывать только народ.
– Должен испытывать по-твоему мнению, а испытывает ли на самом деле? Разве он счастлив, наш народ? Я, знаешь ли, слышал там, в Петрограде, совсем другое. Многие передовые умы считают, что народ наш очень несчастен и что долг каждого интеллигентного человека сделать все для счастья народа. Вот Дума приняла наконец-то указ о введении трезвости на Руси на все времена. Правда, это единственное, что сделала Дума полезного для Отечества, по-моему. Но ведь не секрет, что есть в России и другие люди, которые борются за переустройство нашего общества, и последнее девятилетие показало, насколько богата наша страна людьми передовыми, отчаянными, фанатиками счастья народного…
– Ты утверждаешь, что, забрав у народа водку, его сделали счастливым? – перебил его отец, явно восторгаясь дискуссией со своим сыном, и сам ответил на свой вопрос: – Пойми, человека нельзя сделать счастливым насильно, добро не может быть назло, как и не может быть в долг. Счастливым может сделать себя только сам человек, только в труде, в достижении поставленных перед собой целей можно найти свое счастье. Вот ты, например, сейчас вполне счастлив, потому что достиг поставленной перед собой цели, стал инженером. Но я бы не хотел, чтобы ты на этом остановился. Скоро и очень скоро у тебя должны появиться другие цели, и ты должен будешь трудиться, очень много работать, чтобы их достичь. И чем дольше ты будешь жить, тем больше и больше должно у тебя быть целей, тем труднее и труднее тебе их будет решать. Спроси любого богатого, кто здесь отдыхает: «Ты счастлив?» и спроси грузчика в порту о том же, и, скорее, грузчик признает себя счастливым, потому что у него каждый день есть цель – заработать себе на жизнь, и, достигая ее каждый день, он вполне счастлив, а богатому не надо думать об этом, вот он и скучает и ищет в себе болезни, от которых скука приходит. Все, что сделано на этой планете хорошего, все сделано людьми голодными или испытывающими острую нужду, пусть даже духовную. Это касается тех обеспеченных, что стали гениями человечества, это особые люди, для которых труд умственный также необходим, как для грузчика труд физический. Этот труд – их цель. И только достижение ее приводит их к счастью. По-моему, в каждом человеке должно быть стремление не наследить в этой жизни, а оставить след, чтобы потомки небезразлично вспоминали о нашем присутствии в этом мире.
– Странно, что ты считаешь наш народ счастливым. Я с этим никак не могу согласиться, не могу понять твоего определения счастья народа. Что ж, отработав целый день в поте лица и вернувшись в барак, где живет множество семей, где его семья полуголодная, человек должен быть счастлив? Ты прав в одном – для счастья народа и каждого человека в отдельности нужна цель, индивидуальная и всеобщая. А всеобщей цели в нашем обществе нет, и я, пожалуй, согласен с теми, кто видит счастье народа во всеобщей борьбе за право самим распоряжаться своей жизнью, самим выбирать себе цель.
– Подождите, подождите, – вмешалась Наталья Александровна, – Коля, ну что ты, мальчик только приехал, а ты уже начинаешь спорить с ним. Дай-то хоть поесть ему.
Раскрасневшиеся отец и сын вдруг умолкли, глубоко дыша, словно сами сейчас трудились в поте лица, зарабатывая себе на хлеб насущный. Мама так внимательно слушала, что, казалось, готова и сама вступить в спор. Но, почувствовав, наверное, что спор этот сегодня не совсем уместен, вдруг властно сказала:
– Вот что, мои дорогие, давайте-ка выпьем, пьянствовать мы не будем, а вот выпить в этот счастливый для вашей семьи день можно и даже нужно. Налейте-ка мне, Николай Иванович, всем налейте и Маше тоже.
В ее голосе была такая уверенность, что спорить с ней никто не стал. Николай Иванович молча и послушно стал наливать всем вино, беспрекословно подчинившись ей, точно так, как поступил бы при таких ее словах и мой отец.
"Вот она, моя мама, действительно первое "Я" для мужчин, полная противоположность Наталье Александровне. Она-то, конечно, второе «Я» своего мужа, она без него ничего не может. Но все же, что лучше: быть владыкой над мужем или верной ему помощницей и подругой, только слабой женщиной?" – думала я, глядя на властную и волевую мою маму.
Взяв рюмку, она сказала:
– Пить надо уметь. Это гораздо труднее, чем не уметь и все равно пить. Я, надеюсь, что вы правильно меня понимаете. За вас, дорогие мои, за ваше маленькое и большое счастье!
Она выпила. За нею выпили все, только я все боялась попробовать этот неизвестный мне напиток.
– Но! Что ты, попробуй, не бойся, словно приказала она мне, – в этой жизни нужно все попробовать и во всем знать меру.
Я пригубила, но жидкость показалась мне горькой и чем-то напомнила мне Никитина – он такой же горькой.
Разговор пошел было о других темах, но все равно Алексей и Николай Иванович продолжали спорить, стараясь противопоставить себя друг другу. У каждого о любом предмете разговора была своя, определенная точка зрения,
и они отстаивали ее, ввязываясь в дискуссию смело и энергично. Я сидела против Алексея и украдкой, время от времени, посматривала на него, на его широко открытые большие глаза, на бьющуюся венку, и он, чувствуя мой взгляд, смотрел на меня, но тут же отводил глаза. Этот его взгляд не пугал меня, а наоборот, как только наши глаза сходились, я испытывала огромное возбуждение, что-то замирало глубоко у меня внутри, и я чувствовала, что он ощущает то же. Мне казалось, что от него исходит какое-то особое тепло, которое можно услышать не телом, а только душой.
Мне доставляло разочарование, что я не могу вступить в разговор, не могу даже слова сказать и как будто, ощущая эту мою неловкость, Алексей все чаще и чаще смотрел на меня. Наконец-то я нашлась и, как только они умолкли, спросила его:
– А правда, Алексей Николаевич, что в Петрограде бывает ночью светло, как днем? Какие это белые ночи?
Все взглянули на меня, то ли удивляясь моей провинциальности, то ли почувствовав интерес к вопросу.
– Да, как это выглядит? Ведь я тоже не была никогда в Петрограде.
– Все очень просто, – начал объяснять Алексей, – обращаясь ко мне и к матери одновременно, – солнце летом там спускается лишь за горизонт и не уходит дальше, вот ночью и светло, как у нас вечером после его захода. Это происходит на всей широте Петрограда, а севернее, например, в Мурманске, вообще, полгода – день, полгода – ночь. – Он опять начал увлекаться новой темой: – хотите я объясню вам точнее, – сказал он уже только мне, и я опять испытала приятную боль в груди, – пойдемте к морю и посмотрим закат.
Солнце уже действительно висело низко над морем и посылало на нас последние мягкие лучи.
– Давайте пойдем все, – предложила мама, тяжело поднимаясь из кресла.
– Я с удовольствием составлю вам компанию, – Николай Иванович обратился к жене и маме, как бы давая всем понять, что я должна идти с Алексеем, а он с ними.
Мы вышли на улицу, спускающуюся к морю. Родители шли впереди, слушая неутомимого Николая Ивановича, а мы сзади. Мы шли молча, не решаясь начать разговор, и я все сильнее ощущала то душевное тепло, которое исходило от Алексея.
Он заговорил первым:
– Здесь, Маша, все просто. Ведь вы знаете, что земля круглая?
– Да, почему бывает полярный день и полярная ночь, почему зимой день короче, чем летом, я знаю, конечно. Но меня интересует совсем другое: какие они эти белые ночи? Я этого представить не могу, не видела этого, а так хочется все увидеть и все почувствовать самой, – и я вдруг нечаянно оступилась о камень и невольно оперлась на его руку, но тут же отдернулась, словно обожглась, а он, чуть касаясь, взял меня под локоть, и я не убрала своей руки, хотя и смутилась сильно, мне было очень приятно чувствовать его прикосновение. Я только боялась, чтобы мама не обернулась и не увидела.
На пляже мы направились в ресторанчик, где несколько часов назад сидели с Никитиным, только теперь мне было хорошо здесь, уютно и весело. Но вдруг мне показалось, что за тем столиком, где официант поднес мне никитинские цветы, появился он сам, Никитин. К нам подошел другой официант, но горько чувство смущения, и я сама предложила Алексею пройтись к воде. Солнце спускалось к морю, горизонт был виден теперь хорошо, и мягкие лучи скользили по воде, переливаясь на мелких волнах. Чем ближе солнце приближалось к горизонту, тем больше и краснее оно становилось. Вот уже наполовину оно погрузилось в воду, цвет его стал мягким и нежным, смотреть на него было совсем не больно.
Вот оно и совсем исчезло в воде, окрасив последний луч почему-то в зеленый цвет.
–
Это оно простилось с нами так, – сказал мне тихо Алексей, – кто увидит зеленый луч солнца при закате, того ждут перемены к лучшему, так говорила мне моя бабушка в детстве. Я уже давным-давно не видел этот зеленый луч. Маша, а вы хотите, чтобы что-то менялось в вашей жизни? – он смотрел на горизонт и бросил в воду камень.
– Я не знаю, моя жизнь еще, по-моему, так коротка, что я толком и не жила, но если к лучшему, то, конечно, хочу.
–
Скажите, вы, правда, скучаете здесь?
– Да, но, наверное, не оттого, что мне все надоело и у меня все есть и я присытилась всем. Нет. Просто я первый раз уехала из дома и уже хочу вернуться назад. Я скучаю по папе, по своей комнате, своим подругам. Наверное, я нытик по натуре. А, вообще-то это проходит и мне становится веселее.
– Расскажите мне о вашем городе, о шахте. Это такая удача, что я встретил вас в своем доме, людей оттуда, где мне предстоит провести, может быть, много лет. В этом есть что-то символическое, какой-то тайный смысл, и я принялась рассказывать, и чем больше я говорила, тем спокойнее и мягче становилось у меня на душе. Мне казалось, что Алексей прожил со мною мою прежнюю жизнь там, на нашей шахте. Я рассказывала ему о нашем доме и хорошо представляла его в моей комнате, говорила об отце и его работе и видела Алексея в конторе шахтоуправления, говорила о церкви, и он стоял там, рядом со мной, даже представила, как он перебирается через улицу в дождь, аккуратно ступая и стараясь не запачкать брюки и туфли. Мы прохаживались с ним у самой воды, мягкий шелест волн внушал спокойствие, безопасность и уверенность, потому что рядом был надежный и близкий уже мне человек. Стало быстро темнеть, и нас позвал Николай Иванович, они уже выходили с террасы, все направились домой.
Я долго не могла заснуть в ту ночь. Пожалуй, впервые в жизни я задумалась о своем недалеком будущем, о возвращении домой, и мне показалось, что с приездом Алексея на нашу шахту и у нас начнутся белые ночи… А утром на моем подоконнике лежали только что срезанные три белых розы. Капельки свежей росы стекали с их нежных лепестков.
Мамы уже не было. Я начала умываться, причесываться и с радостью вышла в гостиную, желая скорее увидеть Алексея. Там еще никого не было. Дверь на веранду была открыта, и, приблизившись к ней, я услышала голоса: мама с кем-то разговаривала. Меня словно холодной водой окатило, я узнала голос Никитина.
–
Так вот, уважаемая, я имею самые серьезные намерения и готов просить руки вашей дочери. Я человек состоятельный, у меня свои скважины в Баку. Да и возраст уже, знаете, заставляет подумать о семье. Дочь ваша мне очень нравится, и я намерен составить ее счастье.
– Но, дорогой мой, ведь вы ее еще толком и не знаете, и потом я сама не могу решать ее судьбу. Здесь должна спросить мужа. И потом она сама, мама замолчала на минуту, – она сама должна решать, ведь мы живем в двадцатом веке, что вы, голубчик. Нет, нет и еще раз нет, говорю я вам. Если у вас такое чувство, то нужно сойтись сначала с ней. Что вы? Да и молода она еще.
Я стояла окаменевшая. Сама мысль, что этот Никитин может стать моим мужем, что он уже решил это сам и не просит, а требует этого, возмутила меня. Я готова была выйти и выгнать его. Еще не видя его, я представила его словно маслом намазанные волосы и перхоть на плечах и запас водки и то, что вчера, проводив нас, он пошел опять пить в ресторан.
«Нет, он не должен, он не имеет права так поступать, это дурно, гадко, как он смеет», – проносились мысли в моей голове.
– Хорошо, я тоже хочу сойтись с ней ближе, поэтому заказал сегодня ложу в опере, буду ждать вас в семь вместе с дочерью.
– Пожалуй, мы приедем или дадим вам знать, а теперь ступайте, ступайте.
Я увидела его выходившим с веранды во двор, перхоть так и была на его плечах. Выждав пока он скрылся за калиткой, я вышла к маме, лицо мое горело от ярости и стыда, сердце колотилось негодующе в груди.
–
Мама, я все
слышала. Как
он смеет, ведь я не вещь. Я не хочу его даже видеть. Он гадок мне, никуда я не поеду.
– Да, душа моя, я вижу, что он тебе не пара, хотя, видно, богат. Не волнуйся, я сама все это улажу, на то я и мать твоя. Успокойся, – она обняла меня и повела назад в наши комнаты.
Я была расстроена, но, поплакав немного, успокоилась, чувствуя, что мама понимает меня и защитит.
За завтраком Алексея не было, и я испугалась, что он все слышал и теперь не придет ко мне совсем. Но Наталья Александровна, поняв мое замешательство, объяснила:
– Алексей купается в море. Это его привычка еще с гимназических лет, знаете, – она обратилась к нам с мамой обеим и в то же время только ко мне, – море его слабость с детства, он утверждает, что оно ума ему придает. У него какое-то обостренное чувство справедливости, что было причиной частых драк с друзьями и разногласий с преподавателями, и всегда после потасовок и отчаянных споров, он мчался в море умнеть и решать с ним свои проблемы. И, я вижу, за годы учебы он мало изменился.
Алексей пришел к концу завтрака и, извинившись за опоздание, сел рядом со мной. От него пахло морем, и опять я услышала тепло, которое проникает в меня.
–
Спасибо за розы, – сказала я тихо, так чтобы только он слышал.
Он мягко улыбнулся мне и слегка покраснел. В тот день я с удовольствием пошла купаться и сама. Мама заняла свое место на террасе ресторанчика с вязанием. Плавать я научилась еще в детстве. Недалеко от нашего городка был пруд, и каждое лето с утра до вечера все дети купались и резвились там.
Поэтому воду я не боялась. Только вот нагота моего тела и близость оголенного Алексея смущала меня. Теперь я как бы стеснялась саму себя. Развитое тело Алексея вызывало зависть. Я замечала его смущенный взгляд, когда он рассматривал меня, и чувствовала, что нравлюсь ему. Легкое кружение охватывала мою голову, когда он смотрел мне не в глаза, а ниже…
Мы с разбегу бросились в воду и поплыли. Далеко. О чем-то говорили, смеялись, брызгали друг на друга водой. Потом лежали прямо на песке и грелись на солнце. Опять купались. Алексей поймал краба и мы, словно маленькие дети, склонилась над ним, почти лицом к земле и с любопытством рассматривали его маленькие черные глаза-бусинки, длинные усы, заглядывали ему в рот, а он пятился от нас боком и норовил улизнуть в море и грозно помахивал клешнями. День прошел быстро и весело. Мы настолько сдружились, что, кажется, знали друг друга всю жизнь.
Вечером мама стала собираться в оперу и спросила меня строго:
– Маша, ты абсолютно уверена, что не хочешь ехать. Подумай хорошенько, ведь сегодня может решиться твоя судьба. Не будешь ли ты жалеть о своем отказе позже? – лицо ее было сурово, взгляд твердым.
На меня нахлынуло чувство страха перед этим Никитиным, но я уверенно ответила:
– Нет, не поеду ни за что на свете и никогда не пожалею о своем решении. – Придется мне сегодня отказать ему от твоего имени. Чего не вытерпишь ради дитя своего?
Она уехала в экипаже Николая Ивановича. Вид у нее был энергичный и боевой, будто она сама ехала на свое свидание и собиралась отказать своему жениху. А у нас получился прекрасный вечер. Мы опять ходили к морю смотреть закат, и опять, прощаясь с нами, солнце показало зеленый луч. Мы еще долго бродили босиком по воде, и когда уже стало почти темно и первые звезды поселились над морем, а луна загорелась над городом, Алексей взял меня за руку, как маленькую девочку, и, ощущая тепло его руки в своей ладони, я поняла, наверное, что этот человек мне дорог и что если такое чувство и называется любовью, то это любовь и есть. Я поняла, что люблю! Домой мы шли молча, сердца наши и души говорили без слов, общаясь через наши сплетенные руки. Когда мы прощались с ним в гостиной, он притянул меня слегка к себе, обняв за плечи, и поцеловал губы, заглянув мне в глаза до самого сердца, и быстро, не сказав ни слова, убежал наверх.
Возбужденная и счастливая я вошла к себе. Мама была уже дома и читала лежа на диване.
–
Ты, Маша, делаешь успехи, не успела мать отбиться от одного жениха, как ты вскружила голову другому.
Я ничего не ответила, потому что в ее словах не было упрека, а, скорее, какая-то радость. Лицо ее было добрым и ласковым. Я наклонилась поцеловать ее, но она мягко меня оттолкнула и сказала уже сурово:
– Ступай, ступай, спать пора.
Я заснула быстро и с чувством безмятежного счастья. Но ночью мне приснился дурной сон: Никитин забрался ко мне в комнату через окно, подошел к кровати, склонившись, стал внимательно рассматривать и, ехидно улыбаясь, проговорил: «У меня нефтяные скважины есть и теперь еще ты будешь, а Алексея твоего, чтобы не вставал на моем пути, я под землю упрячу, будет прикованный к вагонетке до скончания света уголь в шахте таскать, солнца не увидит боле» – и, рассмеявшись зло, стал протягивать ко мне руку, перхоть посыпалась с его головы прямо на меня и, к моему ужасу, из глазниц у него потекла кровь…
Я закричала во сне. И проснулась, наверное, потому что кричала. Осмотрела комнату. Тихо. Через открытое окно задувал свежий ветерок, покачивая шторы. Лунная дорожка стелилась до самой моей кровати. Я встала и подошла к окну, решив прикрыть его. Вдали виднелось море, луна нарисовала на нем дорогу, которая шла от самого горизонта и оканчивалась у меня в комнате. Я присела на подоконник, восхищаясь гармонией мира. Только кузнечик иногда нарушал величественную тишину и покой природы.
«Что за счастье любить! Как прекрасна жизнь, когда в ней есть слово Любовь, есть рядом такой человек!». Жизнь моя, как эта лунная дорожка, уходила вдаль до самого горизонта по мягкому и нежному морю. Я устроилась поудобнее и стала думать об Алексее. Вдруг я заметила, что что-то мигнуло сбоку от дома. Да, только что там горел свет и теперь погас. Это был свет в его комнате. Он не спал тоже и только теперь выключил его. И тут я услышала шаги по лестнице, кто-то прошел в гостиную. Я встрепенулась. И тут я увидела его выходящим в сад. Он прошел к скамейке, что была между роз. Его белая рубаха светилась в лунном свете каким-то синеватым огнем. Он сел, закурил папиросу. Я притаилась на своем подоконнике. Он находился очень близко от меня, и, хотя была видна только белая рубаха и огонек папиросы, я чувствовала его родинку над губой и бьющуюся венку на шее.
– Маша! – заметив меня, вскликнул он тихо. – Вы тоже не спите. Я, я тоже не мог уснуть, – он встал и подошел к окну. – Я думал о вас, Маша! Разве можно спать в такую ночь? Вы посмотрите вся природа не спит, вы посмотрите, как шевелятся розы – это они разговаривают друг с другом, море беседует с луной. Сегодня какая-то необычная ночь, сегодня ночь исполнения желаний и надежд.
– Тише, тише. Вы можете маму разбудить, – прошептала я, – я выйду сейчас, – и не думая о всей безрассудности подобного поступка, я накинула халат прямо на ночную рубашку и заглянула в мамину комнату. Стояла такая тишина, что я слышала ее дыхание. Тихонько я открыла дверь и на цыпочках пошла через гостиную навстречу своему счастью…Мы целовались до рассвета, и, когда первый луч солнца размазал лунную дорожку на море, он сказал, нежно обняв меня и глядя прямо в глаза: «Я люблю тебя, Маша!».
Прошло дней пять нашей любви. Мы не замечали ничего вокруг и целые дни проводили на пляже и в воде, а с середины ночи до утра в саду. Спали по три, четыре часа в сутки, не больше. Конечно, все окружающие понимали, что с нами происходит и, кажется, были рады за нас.
Тринадцатого августа утром у меня был серьезный разговор с мамой.
– По-моему, ты слишком ветрено ведешь себя Маша. Нельзя так сильно отдаваться своему чувству. Если ты полюбила, то это еще больше требует держать себя надлежащим образом, соблюдать себя. Да, я считаю, что мужчине нельзя противопоставлять себя настолько, чтобы задевать его самолюбие, нельзя даже вида делать, что ты выше него. Во всех поступках нужно исходить из его взглядов на вещи. Даже, если ты считаешь его неправым, то лучше сделать, как он хочет. Это только укрепит его привязанность к тебе и сделает вашу жизнь счастливее.
Но это все касается мужа, пойми, это касается того человека, который для тебя тоже должен стать первым «Я», только первым. В противном случае семьи не получится. Не получится никогда! Но ты незнакома с Алексеем еще и недели, а проявляешь такую массу чувств, что мне страшно становится. Это даже позорно должно быть для тебя. Поэтому я приняла решение, так дальше продолжаться не может. Мы возвращаемся домой. Завтра. Я уже объявила о своем решении нашим хозяевам. Нужно вас разъединить до поры, до времени. Необходимо проверить свои чувства. А дома, дома я не позволю такого поведения, будь уверена, – она обмахивалась веером и сильно нервничала. – Душа моя, тебе необходимо поостыть немного, успокоиться от этого влечения, – уже мягче, как бы жалея меня, добавила она, – он приедет к нам в начале сентября, если выдержит, конечно, здесь без тебя. Не горюй. Это не такой уж большой срок.
Противиться как-то ее воле я не могла, но и расставаться и ехать я тоже не хотела. Когда за завтраком мама повторила теперь уже только для Алексея, что мы уезжаем, я поняла по его виду, что это горько и для него. А потом, когда мы остались с ним, наконец, вдвоем, он сказал:
– Что поделаешь, Маша, придется расстаться на время. Как приеду на шахту, сразу буду просить твоей руки, если ты, конечно, не против, – он ласково посмотрел на меня и погладил по голове, заводя мои волосы за ухо и прильнув к нему, прошептал: «Я хочу, чтобы ты была моей женой, моей единственной женщиной на всю оставшуюся жизнь».
Я прижалась к нему и чуть не плакала то ли от счастья, то ли от горечи предстоящей разлуки.
– А пока я решу этот вопрос со своими родителями, надеюсь, они возражать не станут. Я же чувствую, как ты им нравишься. Они будут рады. Все будет хорошо, не печалься, родная.
Мы сидели так молча некоторое время, склонив друг к другу головы.
–
Сегодня вечером я приглашаю тебя на прогулку по городу. Я покажу тебе свою Одессу, – торжественно вдруг объявил он.
И ближе к вечеру мы отправились в город. Пообедали опять в большом ресторане на Дерибасовской, гуляли под тенью каштанов на Пушкинской, и все эти места теперь казались мне такими близкими, как будто я жила здесь всегда. Я уверенно опиралась на руку Алексея, чувствуя и силу, и нежность одновременно. Позже мы спустились по лестнице к морю. Там был небольшой парк с левой стороны. Играл оркестр. Танцевали. Было много военных, дамы в больших шляпах продавали цветы. Люди гуляли по бульвару и спускались по
лестнице в парк. Все было наполнено спокойствием и счастьем. Прелюдия к жизни продолжалась, а может, она уже перешла в самую большую и красивую жизнь. Рядом был любимый мною человек, а что еще нужно для счастья? Ничего! Время катилось к сумеркам, и мы сели за столик в маленьком ресторанчике. Вальс струился над парком и уплывал в море. Вдруг неожиданно за дальним столиком я увидела Никитина, в компании офицеров. Он был пьян и что-то громко требовал от официанта, перхоть так и лежала на его кителе. Я уже хотела отвернуться, но в этот момент он взглянул на меня и сразу узнал. Лицо его сразу стало каменным и отрешенным, рот исказился в презренной улыбке. Он смотрел в нашу сторону долго и не шевелился даже, а потом что-то сказал своим товарищам, и они быстро поднялись и ушли. У меня отлегло от сердца. Алексей, заметив мое замешательство, спросил, что со мной. Первая мысль была ответить, что угодно, но не говорить ему о Никитине, будто я хотела уберечь его от этого человека. Но как можно было сказать ему неправду, как можно было солгать сразу, как мы только-только поклялись друг другу в любви.
– Там, там ротмистр Никитин, он испугал меня, я боюсь его, он нехороший человек, но, слава Богу, он ушел. Все в порядке, пойдем танцевать, я хочу отвлечься.
Во время вальса он опять спросил меня о Никитине. Я ему все рассказала, как мы познакомились в опере, как он вдруг появился на пляже, в ресторанчике, как я случайно услышала его разговор с мамой и что мама специально ездила тогда в оперу, чтобы отказать ему.
Вечер был явно подпорчен необходимостью первого объяснения. Нет, ревности не было, не было и огорчения, ведь мы любили друг друга, но суровая действительность уже коснулась нас. Жизнь – это не только любовь и счастье, жизнь – это еще и горе, и разлука, и необходимость говорить правду, пусть даже горькую. И я была рада, что все сказала ему. Этим я вычеркнула Никитина совсем из моей жизни и сделала Алексея своим первым «Я». Теперь я была уверена, что никогда не смогу солгать ему, и Алексей это понял и смотрел на меня открытым взглядом, там не было ни тени сомнения.
Я поняла еще одну вещь. Теперь я чувствовала, что ему нравится не только моя внешность, но и мой конкретный поступок, моя откровенность. Теперь я поняла, что такое любовь. Права была мама, что мужчины оценивают женщину в целом: хорошее личико может быть лишь красивой афишей о плохом спектакле. Мы еще танцевали, просто сидели и больше не говорили о Никитине. После произошедшего узы, связывающие нас, стали еще крепче. К любви присоединилось доверие и полное понимание друг друга. Стемнело. На террасе включили освещение. Мягкий свет, приятная музыка, внимательный и нежный взгляд Алексея вернули покой, постепенно тревога прошла совсем. Никитин действительно перестал существовать. Встреть я его снова, то не придала бы этому никакого значения.
Пришло время возвращаться домой. Мы поднялись по лестнице и пошли вдоль по бульвару. Оркестр умолк. Людей было немного, редкие пары тоже направлялись по домам. День закончился, завтра нужно было расставаться. И вдруг, словно из-под земли, перед нами появился Никитин. Так неожиданно, что я вскрикнула и почувствовала, как напрягся весь Алексей. Вид ротмистра был ужасен, он плохо стоял на ногах, маслянистый чуб спадал на затуманенные глаза, разило спиртным, мундир был расстегнут, из-под него торчала рубаха.
– А, Марья Сергеевна, не подходит вам Никитин, брезгуете. Так я научу вас
любить и уважать офицера, – он протянул руку и шагнул ко мне.
Алексей выступил вперед, и я невольно спряталась за его спиной. Никитин дернулся было к Алексею, но тот ударил его так сильно, что он упал.
–
Не бойся, этот мерзавец больше ничего плохого тебе не сделает, – сказал Алексей уверенно и обнял меня за плечи – пойдем.
И вдруг, непонятно зачем, он повернулся и подошел к поднимающемуся Никитину.
–Вы же офицер! Имейте честь и извинитесь перед дамой.
Он даже протянул руку, чтобы помочь Никитину встать, и тот принял ее и стал подниматься, и вдруг что-то блеснуло у него в другой руке, и он ударил Алексея в грудь. В глазах у него мелькнул ужас и, развернувшись резко, он побежал прочь в темноту.
Еще не поняв ужаса всего произошедшего, я кинулась к Алексею. Он оперся на меня и стал медленно сползать мне на грудь, опустился на колени, и я опустилась вместе с ним. Во взгляде его было удивление, он упал на меня. Я почувствовала что-то теплое у меня на руке, еще не поняв, что это была кровь, его кровь. Я перевернула его на спину, он весь был мягкий, и тут я только увидела нож торчащий у него из груди. Я охватила его голову обеими руками: глаза смотрели уже в никуда, и венка на шее ударилась еще раз и исчезла…
С тех пор прошла вся жизнь. Я не хотела жить после его смерти. После похорон случилась болезнь, болезнь душевная от неутешного горя. Как добрались мы домой, я не помню. Долго болела, стремилась умереть тоже и в ином мире быть вместе с ним. Но беда одна не приходит. Началась война, потом революция, голод, разруха. За десять лет я потеряла все, кроме собственной жизни, которая тоже меня тяготила. Умер отец, мы остались нищими. Я страдала не только за то, кем была, но прежде всего за его смерть. Вместе с ним во мне умерла и вера в людей, в добро, во все святое.
Мама выполнила свое обещание и в 1924 году выдала меня замуж. Мне было почти тридцать. Я пошла за твоего отца только потому, что его тоже звали Алексей. Родилась первая дочь. Постепенно я оттаяла. Все-таки время лечит душу лучше любых лекарств. Муж мой оказался добрым и очень заботливым человеком. Этот дом он построил сам и всю мебель сделал тоже своими руками. И уже в возрасте, чувствуя полную уверенность и безопасность с этим человеком, я родила во второй раз. Конечно, я полюбила его не сразу, но все же теперь я могу сказать, что любила своего мужа. Он погиб во второй войне, тоже в какой-то степени спасая мою жизнь и вашу. Но те чистые, удивленные глаза мертвого Алексея, лежащего на моих коленях, стоят предо мной всю жизнь. Всю жизнь во мне живет частица того большого и короткого счастья, которое дал мне этот человек.
С тех пор, как я услышал эту историю, прошло очень много лет, но уже тогда, еще ребенком, лежа на старинном диване, я понял, что пришел в этот мир только потому, что тогда в тринадцатом году погиб тот Алексей. Если бы он остался жив, то я не был бы я, вместо меня жил бы, дышал, любил и страдал в этом мире совсем другой человек. Так на каких же перекрестках истории нашей закладываются кирпичики будущего человечества? Откуда в этот мир приходят люди? Я часто задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа.
Откуда приходят люди
Просыпался я в то давнее время рано, меня никто не будил, но уже сквозь
сон я слышал голос моей бабушки, Марии Сергеевны, самого близкого мне тогда и любимого мной человека. В эти столь ранние часы она сидела с мамой на кухне и рассказывала ей что-нибудь из своей жизни.
Она уже много лет жила одна и поэтому, когда мы приезжали к ней, просто хотела поговорить. Старики живут прошлым, вот и она вспоминала нелегкую свою жизнь. И я, ожидая чего-то интересного и приятного от этих рассказов, укладывался поудобнее тихо слушая и испытывая чувство полного счастья и спокойствия, какое бывает только в детстве и какого уже больше никогда не будет.
Я был единственный мужчина в доме, семи лет от роду, поэтому спал один в гостиной на старом диване. Диван этот, как и вся мебель, пришел вместе с бабушкой из прошлого и был совсем не таким, какие появились уже тогда. Узкий и не длинный, без спинки, обитый когда-то кожей, теперь потрескавшейся по углам, он, скорее, предназначался, чтобы сидеть на нем. С одной стороны у него располагалась пологая подушка, плавно поднимающаяся с сиденья, а с боку этой подушки, где складки кожи веером сходились к центру, помещалась медная голова льва с открытой пастью и острыми зубами. Вот этот диван и понравился мне своей необычной формой и особенно, львиной мордой. Напротив него, между окнами, на старинном комоде среди других вещей стояла фотография в рассохшейся деревянной рамке, где на краю этого самого дивана, видно еще совсем нового, сидел, закинув ногу на ногу и держа в руке горящую папиросу, незнакомый мне мужчина в черном костюме с галстуком, а рядом с ним, положив ему руку на плечо, стояла молодая женщина с очень знакомыми чертами лица, в длинном белом платье и высоких черных ботинках на шнурках. Внизу стояла дата – 1924 год.
В то летнее утро шел дождь, я немного проспал и чуть не опоздал к началу рассказа, поэтому, встрепенувшись, стал внимательно слушать. Речь бабушки сливалась с ударами капель о подоконник, в доме было тепло и уютно…
–
Ты знаешь, душа моя, сегодня пятьдесят лет одному весьма значительному и трагическому событию. Эта было так давно, словно в другой жизни… и если бы этого не произошло, то и тебя, и детей твоих может быть и не было бы на свете. Все могло быть иначе. И, не в обиду тебе будь сказано, всю жизнь жалею о том, что так вышло…
Произошло это летом тринадцатого года. Отец мой был управляющим на шахте, жили мы вполне хорошо, обеспеченно, и, когда я окончила гимназию, он отправил нас с мамой отдохнуть в Одессу. Были, по-моему, еще и чисто деловые цели поездки, которыми должна была заняться мама. Отправились мы в конце июля, погода стояла жаркая, солнце нещадно палило землю, будто подготавливая ее и людей к предстоящим испытаниям. Мы ехали поездом с пересадками, но по тем временам с большим комфортом. Я была в том возрасте, когда считалось нужным выходить замуж. Мама все устраивала вокруг меня надлежащим образом. Внешности она была заметной, с тяжелой фигурой, характером волевая, даже я ее побаивалась, а уж проводники в поездах и на вокзалах признавали в ней, как минимум, генеральскую жену и обращались с ней подобострастно и уважительно. Дорога доставляла мне немалое удовольствие, потому как я впервые покинула родные места.
Я смотрела на все удивленно и выглядела, наверное, немного глупо.
Что такое Одесса в тринадцатом году? Правда, какая она сейчас, я не знаю (больше там не была), но тогда этот город очаровал меня. Отлично помню тот дом в Лузановке, который нам сдали быстро благодаря маминым стараниям и неисчерпаемой ее энергии. Мы сняли две комнаты на первом этаже в доме местного врача. Окна наши выходили в небольшой дворик, где росло много роз самых разных цветов. И запах этих роз наполнял наши комнаты и саму мою душу счастьем и ожиданием чего-то значительного и такого важного в моей жизни, что сама Одесса и море, видневшееся вдали за этим двориком, казались мне прелюдией к этому большому счастью – впереди была вся жизнь.
Я готова была целыми днями гулять по Дерибасовской. Особенно мне нравилась тенистая Пушкинская, а потом мне сразу хотелось идти к морю, бежать вниз по лестнице и подниматься назад и махать рукой каменному Решилье… Жара нисколько меня не мучила, а вот мама… ей, конечно, приходилось туго, она то и дело садилась отдыхать где-нибудь в тени. Я не могла усидеть, все хотелось увидеть:
– Что там за углом, мама, пойдемте посмотрим, там и отдохнете, – говорила я ей каждый раз, когда она намеревалась присесть.
– Хорошо, душа моя, пойдем, только не спеши так.
Она прикрывалась зонтиком, обмахивалась веером и несла свое тяжелое тело туда, куда меня влекло. Раньше в Одессе она тоже никогда не была, и видно было, что ей самой все интересно. А когда мы первый раз сели в трамвай, то упоение движением и звонками вызвало у меня дикий восторг, я чуть ли не кричала от удовольствия.
После таких прогулок мама на следующий день никуда ехать не хотела, и мы проводили его у моря. Пляж, что располагался ближе всего к дому, вовсе не был местом специально приспособленным для купания. Это был чистый и ровный берег, усыпанный галькой пополам с песком. Маленький ресторанчик одиноко стоял в одном его краю. Купались здесь и снимали квартиру в основном люди средней руки, поэтому народа на пляже было немного.
Хозяева наши оказались очень милыми людьми: Николай Иванович – врач, уже немолодой мужчина, седоволосый, с аккуратно стриженной бородой, степенный и рассудительный человек. При каждой встрече он почтительно склонял голову. Одетый всегда очень аккуратно, он вызывал во мне большую симпатию и отчасти чем-то напоминал папу. Жену его звали Наталья Александровна. Она, наоборот, была энергичной и беспокойной женщиной, худенькой и небольшого роста. Не работала, весь день свой занималась домом и цветами.
Поначалу мы собирались все вместе за столом.
Начало всей той драме получилось во время нашего с мамой посещения театра, хотя я тогда и не придала этому особого значения. Уже, когда мы поднимались по ступенькам огромного его крыльца, было такое чувство, что я прикасаюсь к одному из значительнейших творений человечества, вхожу в удивительный храм искусства, и оперного, и архитектурного. Внутреннее убранство этого храма поразило меня своей красотой и изяществом, и чувство собственного ничтожества перед этим творением рук человеческих овладело мною. Однако мы вошли туда, и никто нам ничего плохого не сделал. После того как швейцар проводил нас к проходу в партер, вежливо улыбнувшись и склонив голову на прощание, я осознала вдруг, что весь этот удивительный мир принадлежит и мне, что я такой же человек, как и все, собравшиеся здесь люди.
Наши места были в центре партера, и нужно было пройти между рядами, чтобы добраться до наших кресел. В зале стоял легкий гул от сотен голосов усаживающихся зрителей. Большие люстры подчеркивали величину зала, обивка кресел создавала уют. Когда мы подходили к своим местам, то, пропуская нас, поднялись уже сидевших там двое военных. Один был совсем молодым, а второй, лет тридцати, слегка поклонившись нам, представился: "Ротмистр Никитин". Надо сказать, что я плохо воспринимала происходящее на сцене, потому что этот Никитин больше смотрел на меня и отвлекал постоянно объяснениями происходящего. А во время антракта пригласил нас в буфет и, когда мы поднимались по лестнице, взял меня под руку. Я боялась даже взглянуть на него, все ища защиты у мамы, но она не обращала, казалось, на это внимания, и взгляд ее говорил, что так и должно быть. Когда мы сели за столик, я, наконец, решилась разглядеть моего спутника. Он был некрасив: как будто маслом намазанные волосы посыпаны были перхотью, маленькие хитрые глаза все время изучали меня, а не задерживались долго на одном месте, китель лоснился на шее, а на правой руке был большой золотой перстень. Он явно не гармонировал с окружающей нас красотой, и каждый взгляд его словно иголкой колол меня. Молодой спутник его куда-то исчез, но он сам распоряжался словно хозяин всего театра.
–
Могу я узнать ваше имя? – спросил он еще раз, оценив меня всю, как интересную и красивую вещь.
–
Мария Сергеевна, – ответила за меня мама, – а куда же ваш друг подевался? – она тоже уже рассмотрела его и, стараясь уберечь меня от этого неприличного изучения, отвлекала его.
– О, молодежь! Он так стесняется дам, что, наверное, остался в кресле или курит где-нибудь. Мария Сергеевна, – он опять повернулся ко мне, – как спектакль? Как Стешкин, поющий Отелло? Он мой большой товарищ и, должен заметить, должник. Такой знаете бесшабашный талант, голосина! А вот в жизни мот, абсолютно не приспособлен.
Я решила ничего не бояться и охладить его наглость, поэтому заявила с некоторой неприязнью:
– Я, знаете, в театре впервые в жизни и с певцами незнакома, но, думаю, что слова товарищ и должник как-то неуместны при оценке таланта. Вы дружите с ним из-за того, что он известен или он просто нравится вам как человек? Кстати, а как ваше имя, или вы просто ротмистр Никитин? – я попыталась оценить его таким же взглядом, каким он оценивал меня минутой раньше.
– А вы крепкий орешек, Маша, – сразу изменившись в лице, ответил он, сделав мягкую приветливую улыбку. – Зовут меня Иннокентием Петровичем, я ротмистр артиллерийского полка. Давайте не будем ссориться. Вы, я вижу, недавно в Одессе, и я могу составить вам компанию на прогулках и увеселениях.
Но ответить мне не пришлось, зазвенел звонок, и мы поднялись из-за стола.
Я демонстративно взяла под руку маму, а Никитин шел просто рядом со мной и уже заискивающе стал рассказывать о других актерах и о его большой дружбе с ними. И тут я почувствовала, что от него пахнет спиртным, как от простых наших рабочих на шахте. От этого он стал мне еще неприятнее, и я прижалась ближе к маме. До конца спектакля он уже не отвлекал меня и, проводив нас до извозчика, извинительно сказал, что ему очень приятно было познакомиться и что он надеется на дальнейшие встречи и всегда готов составить нам компанию.
–
Ну, душа моя, ты молодец, так отпела этого хлыща, что даже я слов не нахожу. Смотри только не перестарайся. Ты ведешь себя так, словно он тебя силой
под венец тянет. То ты стесняешься и боишься всего, то вдруг накидываешься на человека. Неуравновешенная ты какая-то. Но вообще я довольна. Ты можешь постоять за себя. Я наблюдала за тобой со стороны и слова вставить не могла, – мама всю дорогу домой говорила то ли со мной, то ли так высказывала вслух свои мысли.
Но после того посещения театра во мне вдруг наступила какая-то пустота и безразличие. О Никитине я больше не думала, но осталось непонятное чувство досады, которое постоянно томило меня. Весь этот большой мир стал вдруг чужим. Я наотрез отказывалась куда-нибудь выходить не только потому, что не хотела встретиться с Никитиным, но и потому, что просто стала скучать по дому, по отцу, по своей комнате, по нашим простым и очень знакомым людям. А здесь все стало мне чужим, даже запах роз был неприятен и действовал удручающе. Я все больше лежала на диване с книгой и не столько читала, как скучала просто и, наверное, жалела себя.
–
Послушай, душа
моя, ведь нельзя так хандрить, так можно и заболеть ненароком, – говорила мне мама, присев на край дивана рядом со мной, – я ж ведь с тобой и никому тебя в обиду не
дам. Я
всю жизнь стараюсь
воспитать
в тебе характер, чувство
собственного достоинства
и
превосходства
над многими другими людьми. Ты теперь в том возрасте, когда нужно четко определить свое место
в
жизни. Замуж, допустим, выдам
тебя я, я
найду
тебе
мужа, вот
не понравился, я
вижу, тебе этот Никитин и
ты
уже весь мир невзлюбила.
А
первое впечатление, как правило,
обманчивое, и, прошу
тебя, если мы
с
ним
встретимся
еще раз, не будь букой, постарайся заставить его больше раскрыться, не бравировать перед тобой; будь с нам мягче, будь женственней. Пойми, мужчины в возрасте Никитина проявляют интерес к женщине такой,
как ты, видя в ней, в первую очередь, будущую жену, и женитьба для них – это не только приобретение дорогой вещи. Жена должна стать для него вторым «я», а может быть, и первым, и заставить себя быть такой по отношению к будущему мужу нужно еще до того, как ты выйдешь замуж. Мужчина должен с первой встречи чувствовать твою внутреннюю силу, твой дух
и
любить в тебе не только хорошенькую фигуру и приятное личико, но и твой характер, твои поступки, твое отношение к жизни, к нему. Это главное, что заставляет мужчин сделать свой выбор, – закончила она и, глубоко вздохнув, посмотрела на меня.
– Да? Да он только как вещь меня и рассматривал, только и хвастался своей близостью к актерам. Наверное, он богатый паршивец, этот твой Никитин. Я… я не хочу говорить больше о нем, – расстроившись совсем, я отвернулась к стенке и закрыла глаза.
–
Интересное у тебя восприятие всего этого. Ну что же лежи и думай. Голова на то и дана, чтобы думать. Но я не хочу, чтобы первое разочарование испортило тебя совсем. Надеюсь, этого не случится.
Больше она меня не трогала, только смотрела на меня с сожалением и, видно, давала мне переварить все самой. Она сидела на веранде и вязала или беседовала с хозяйкой и ухаживала с нею за цветами. Иногда она уезжала куда-то, как говорила мне, исполнять отцовы поручения по разным шахтным вопросам. А я заставляла себя читать "Войну и мир” и все больше и больше завидовала ее героиням, которые любили таких интересных мужчин. Так прошло несколько дней.
Но вот однажды с утра я заметила какое-то необычное оживление в доме: кухарка все время суетилась в кухне, весь дом мылся, хозяйка распоряжалась повсюду, сама меняла шторы в гостиной, перебирала посуду в шкафу, была возбуждена и многословна. Николая Ивановича, как всегда, с утра не было, а вернувшись, он переоделся в красивый белый костюм и, чтобы скрыть свое такое же возбуждение, сел с газетой на веранде, но читать не мог и вдруг затребовал у жены водки, выпив, стал немного спокойнее, а встретив меня, поцеловал мне руку. Глаза его светились радостью и особым каким-то восторгом.
– Что все это значит? По поводу чего такие приготовления и суета, Николай Иванович? – спросила я, удивленная шумом в этом таком тихом всегда доме.
–
Как? Разве вы ничего не знаете? – удивленно ответил он, все еще держа
мою руку. – Алексей приезжает. Понимаете, сын наш окончил курс горного
инженера в Петрограде и возвращается домой. Мы его два года не видели,
к четырем едем встречать его на вокзал, к Питерскому поезду.
А мной вдруг овладело непонятное чувство то ли стеснения, то ли страха. Как? Быть в одном доме с молодым человеком, хозяйским сыном? Это было так неожиданно. Признаться, я и не думала раньше, что у таких людей, как Николай Иванович и Наталья Александровна, должны быть дети, и потом этот двухэтажный дом… ведь можно было догадаться, что комнаты наверху вовсе не нужны двум людям… Я расхаживала по своей комнате и нервничала, как будто надеялась и пыталась что-то изменить. Я понимала, что этой встречи не избежать. Вот уже и хозяева наши уехали, правда, гораздо раньше, чем нужно, но это еще больше взволновало меня. А мама, наоборот, спокойно усадила свое крупное тело в плетеное кресло на веранде и вязала, как ни в чем не бывало, словно хозяева уехали на прогулку.
А чувство беспокойства, даже паники, будто я уже заранее виновата в чем-то, абсолютно не давало мне покоя, я то садилась к столу и брала книгу, то выходила в гостиную и на веранду, то опять возвращалась в наши комнаты и вдруг решила, что встретиться с ним сразу никак нельзя, а мама, казалось, не замечает моего волнения и спокойно вяжет.
–
Пойдемте погуляем, мама, пойдемте к морю, душно как-то, жарко, – обратилась я к ней в надежде, что она опять спасет меня от моих волнении.
–
Наконец-то, душа моя, хорошо, пойдем. Быть в Одессе и просидеть сиднем дома? Да и хозяевам надо дать побыть с сыном хоть первые часы. Пойдем, – ответила она, совсем на замечая моего волнения, отложила вязание и, тяжело встав, пошла собираться.
Мы спустились к морю, зеленому и далекому, так, что невозможно было определить, где оно кончается и где начинается небо. Я вглядывалась вдаль, искала горизонт и терялась, не сумев его отыскать. Дул свежий ветерок оттуда, от этого неясного и таинственного горизонта, и нес в мою душу какую-то тревогу и смятение.
Потом мы сидели на террасе небольшого ресторанчика и пили лимонад, ели мороженое. Особых знакомых у нас здесь не было, но мама уже здоровалась со многими. Дамы приветственно кивали ей, а некоторые мужчины подходили даже целовать руку и снимали шляпы. И вот, я даже не заметила откуда он взялся, перед нами вырос Никитин. Он стал еще худее и выше, все те же маслянистые волосы, чуб, спадающий на лоб, и перхоть… Он склонился к маме, целуя руку, и взглянул на меня. Вид его маленьких быстрых глаз был теперь скорее теряющимся и смущенным. Спросив разрешения, он присел к нам за столик, я решила быть мягкой с ним, не кусаться;
– А, Иннокентий Петрович! Вот уж мир тесен, я, признаться, часто думала о вас, – сказала я так, чтобы неясно было, как я думала, – вы уж простите мне мою резкость во время нашей первой встречи, – спокойно, словно извиняясь, проговорила я и неожиданно для самой себя с сарказмом продолжила: – Надеюсь Отелло вернул вам долги? – тут я увидела, как мама грозно свела брови и обожгла меня своим взглядом.
– Ах, Марья Сергеевна, какие долги, что значат деньги в нашем прекрасном мире? Здесь, возле вас, когда рядом такое прекрасное море, когда само солнце светит только для вас, разве можно думать только о деньгах? Бог с вами. Я так рад, что увидел вас вновь. Признаться, я тоже часто думал о вас, и ваша резкость тогда пришлась мне по душе, я даже благодарен вам, что вы заставили меня по другому взглянуть на многие вещи,– он улыбнулся мягко и слегка застенчиво, показывая свои маленькие и желтые зубы.
– Будет вам опять спорить и философствовать, – мама приятно улыбнулась ему, – мне смолоду нравятся офицеры. Вы здесь на отдыхе или полк ваш стоит здесь? – Нет, я отдыхаю. Знаете, я подумываю оставить службу и заняться устройством жизни. Сколько можно мотаться по свету? Пора уже остепениться и быть умней, – он умолк на минуту. – Вы хотите шампанского, нет, скажите честно, хотите? – он заглянул маме прямо в глаза, а потом повернулся ко мне и опять мне показалось, что он колит меня своим взглядом, еще и еще раз оценивает, как товар в лавке.
–
Официант! Быстро шампанского дамам, – произнес он громко и надменно, так, что официант, сидевший поодаль, подскочил и скрылся за стойкой.
– Вот, шельма, уже спит. Удивляюсь я нашим мужикам. Мы их поим, кормим, работу даем, а они наровят спать даже на работе, – надменно закончил он.
– А по-моему, это они нас поят и кормят, они создают нашу спокойную жизнь, – со злом возразила я.
–
Да, я вижу вы не только философ, но еще и революционер! Браво! Такой вы мне еще больше нравитесь.
Официант подал нам бокалы. Я еще никогда не пробовала шампанского, но как ни старалась, не могла быть теперь мягкой и не могла заставить себя любезно говорить с Никитиным, поэтому я попросила официанта:
–
А мне, пожалуйста, еще лимонада.
– Да, да, принеси сейчас же, если дама требует! – зло сказал Никитин, даже не взглянув на него.
Поклонившись, официант ушел.
–
Вы, я вижу, не любите народ, – начала распаляться я.
–А за что его любить? Что он женщина, что ли? Каждому из нас Господь определил место: кому официантом быть, а кому за столом сидеть, – и оставшись довольным своим высказыванием, он откинулся на спинку стула, стал жадно большими глотками пить шампанское.
–
Но ведь Господь учит нас любить ближнего своего, – вмешалась мама, опять отстраняя меня от препираний с этим человеком.
– Вот именно ближнего – того, с кем ты сидишь за одним столом, – он многозначительно взглянул на меня, – разве Господь садился за стол с неближними своими, разве не он учит нас карать неверных?
– Ну уж извините, разве наш русский человек, пусть и мужик, неверный? Вы заблуждаетесь, Иннокентий Петрович.
–
Дорогие мои, зачем нам сейчас обсуждать вопрос мужиков, – нарочно громко сказал он, когда официант поднес мне мой лимонад, – мужик он и есть мужик, – и тут, видно решив снизойти до мужика, он достал свой большой бумажник и, протянув несколько купюр официанту, сказал: – Ну ка, любезный, одна нога здесь, другая там, принеси дамам цветов, сдачи возьми себе.
Удивленный официант, держа деньги почти на вытянутой руке, посмотрел по сторонам, словно соображая, где же здесь взять цветы, быстро вышел из ресторана.
–
Видите, наш мужик не только глуп: работать в ресторане и не знать, где купить цветов… но еще и жаден – видели вы, как он вцепился в деньги, – самодовольно говорил Никитин, все еще глотая шампанское и глядя в сторону скрывшегося за углом террасы официанта. Поставив пустой бокал на стол, сам себе наполнил его и продолжил: – Будет о мужиках. Мы же за одним столом, мы – ближние, и если не по библейским правилам, то, надеюсь, станем ими по человеческим. Как вам отдыхается, Маша? Я больше не вижу вас в опере, и, признаюсь, это расстраивает меня, я уже иду туда не спектакль слушать, а только увидеть вас, – как-то наигранно и слащаво говорил он.
И я уже собралась ответить какой-нибудь грубостью, но мама опередила меня:
– Последние дни ей нездоровилось, но как-нибудь позже мы съездим еще.
На мое счастье, на террасу вбежал наш официант, неся большой букет роз, такой, что, наверное, и сдачи-то не осталось, и, подойдя, улыбнулся мне мило и протянул цветы. Он был уже не молод, с сединой в висках и множеством морщин на лице, но эта улыбка человека, подающего мне цветы, была искренней, хотя и дарил он мне их от чужого имени. Я улыбнулась ему в ответ.
– Пошел, пошел, – грубо отстранил его Никитин.
Поклонившись ему слегка и без всякой улыбки уже, официант ушел.
Солнце клонилось к горизонту и заглянуло под тент террасы, обдавая нас своими еще горячими лучами.
– Нам пора, – сказала мама, – спасибо, Иннокентий Петрович, за компанию, мы пойдем.
– Бог мой! Куда так рано? Не лишайте меня радости общения с вами.
– Нет все, теперь отдохнуть надо, – мама поднялась резко, давая понять, что возражений быть не может.
Никитин взял меня под руку и помог спуститься по ступенькам с террасы. Но, подойдя к выходу с пляжа, мама повернулась к нему, с выражением непримиримой воли сказала еще раз «спасибо». Дала понять, что дальше провожать нас нет нужды, и, смутившись под ее взглядом, Никитин поклонился, поцеловал мне руку, что, надо сказать, было еще непривычно тогда мне, повернулся и пошел назад в ресторан.
А у меня поднялось настроение. Да, я сделала, как мама хотела. Я была приветлива сначала и заставила его раскрыться, сняла с него ту маску вежливости и порядочности, которую он напялил на себя, подсев к нам за столик. Идти было недалеко, но, подымаясь по улице, мама тяжело дышала и была раскрасневшаяся то ли от выпитого шампанского, то ли от стоявшей еще жары. А, повернув к дому, я вдруг посмотрела на цветы, что подарил мне Никитин и положила их на забор у какого-то дома. Мама, взглянув на меня, ничего не сказала, только недовольно покачала головой.
Возле калитки нашего дома стоял экипаж, а с веранды доносились веселые голоса. Прежняя боязнь и неловкость вновь нахлынули на меня, и, взяв маму под руку, я несмело вошла во двор. За столом сидели хозяин с женой, их сына не было. Николай Иванович встал и предложил нам стулья. Но я, испугавшись еще больше, сказала, что устала после солнца и пойду отдохну, выйду чуть позже.
– Иди, иди, душа моя, приляг, отдохни, – проговорила мама, усаживаясь на стул рядом с хозяйкой, и, кажется, забыв про меня совсем, обратилась к Наталье Александровне:
– А где же ваш сыночек?
– Сейчас спустится. Что-то возится у себя в комнате. Присаживайтесь, будем ужинать.
Я быстро прошла в гостиную и, миновав лестницу на второй этаж, заскочила в свою комнату, засмущавшись совсем. «Вот и хорошо, что его нет пока. Лучше позже встретиться с ним, чем сразу», – подумала я, все еще глядя на лестницу и закрывая за собой дверь. И тут!… Спиной ко мне возле книжного шкафа в дальнем углу комнаты стоял молодой человек в белой рубашке с широкими рукавами и листал какую-то книгу. Он не мог увидеть меня сразу и, прекратив листать, стал читать что-то. На столе рядом лежало уже несколько книг и тетрадей. Наверное, он выбирал что-то в шкафу, но вдруг обернулся и смущенно взглянул мне в глаза. Нет, он не осматривал меня всю, как Никитин, а смотрел именно в глаза. Некоторое время мы молча рассматривали друг друга. Глаза его были большие и открытые. Я увидела маленькую родинку у него над верхней губой, белизну зубов между удивленно приоткрытыми губами и бьющуюся венку на шее.
Я стояла, испуганно глядя на него, и уже решилась выбежать из комнаты и крепко сжала дверную ручку, как он, забросив назад свои непослушные волосы, сказал:
–
Извините, я только хотел взять свои записи и несколько книг, пока вы не
пришли. Извините еще раз. Я, наверное, не должен был, как воришка, заходить в вашу комнату, – и, улыбнувшись мягко и смущенно, добавил, отодвигая стул: – Проходите, я сейчас уйду.
Щеки мои горели, пока я дошла до предложенного мне стула, желание убежать прошло, и возникший интерес к этому петроградскому инженеру придал мне сил. Я хотела сказать ему, что он поступил дурно, войдя сюда, хотя в принципе это его дом, но все же… Я не успела додумать, что такое сказать, как он направился к двери.