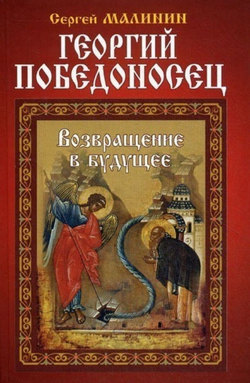Читать книгу Георгий Победоносец. Возвращение в будущее - Сергей Малинин - Страница 1
Глава 1
ОглавлениеВзмахнув широкими крыльями, старый ворон поднялся в ясное утреннее небо, в несколько мощных взмахов набрал высоту и стал медленно описывать круги в наливающемся дневной синевой поднебесье, озирая свои охотничьи угодья в поисках добычи. Мелкие лесные пичуги, что уже начали пробовать голоса, славя приход дневного светила, испуганно умолкали, заметив беззвучно скользящий в высоте смертоносный чёрный крест. Ворон парил в вышине, ловя распахнутыми крыльями восходящие воздушные потоки, и почти не обращал внимания на испуганную птичью суету внизу: он искал иную, куда более богатую и лакомую добычу, которую ему частенько оставляли на обочинах дорог, в полях и на опушке леса странные и нелепые бескрылые существа, именующие себя людьми.
Вскоре такая добыча обнаружилась. Углядев с высоты крохотную прогалину в густом сосновом бору, ворон снизился, описывая сужающиеся круги. Его взору предстала знакомая картина: круг седой золы посреди прогалины, в центре которого чернели остывшие головешки, мирно щиплющая траву лошадь и распростёртое на траве поодаль от кострища недвижимое тело. Ворон каркнул, на свой манер славя Бога, который в последнее время был к нему щедр, и спикировал на прогалину.
Разбуженный его скрипучим криком человек шевельнулся, откинул попону, которой укрывался от ночного холода и утренней росы, и сел, широко зевая и протирая кулаком заспанные глаза. Ворон снова каркнул, на сей раз с явным разочарованием, и забил крыльями, набирая потерянную высоту.
– Пся крэв, – проворчал человек, отлично понявший, чего хотел от него старый падальщик, и, в последний раз длинно зевнув, поднялся на ноги.
Солнце ещё не показалось над макушками деревьев, и трава на поляне была седой от мелких капелек росы. Запахнув потёртый, видавший виды кунтуш и зябко ёжась от утреннего холодка, человек присел на корточки у кострища и принялся раздувать угли. Невесомый пепел взлетел белёсым облачком, среди золы и чёрных головешек зарделся не до конца погасший жар. Положив на тлеющие угли кусочек бересты и несколько заранее припасенных хворостинок, человек подул сильнее. Над кострищем тонкой струйкой поднялся белый дым, и вскоре на поляне, распространяя вокруг живительное тепло, уже горел небольшой костерок.
Согрев озябшие ладони, человек подержал над огнём оставшийся от вчерашнего ужина кусок зайчатины и торопливо перекусил, заедая мясо чёрствым хлебом и запивая плескавшейся в плоской кожаной фляге водой. Трапеза получилась скудная, прямо-таки монашеская, но человека это не опечалило: цель путешествия была близка, и он знал, что ещё до наступления вечера поест вдоволь и выпьет столько вина, сколько сумеет в себя влить.
Кое-как утолив голод, он затоптал костёр, подпоясался широким кушаком, перекинул через плечо перевязь сабли и, бормоча ласковые слова, водрузил на спину гнедой лошади седло, которое уже много ночей подряд служило ему изголовьем. Затянув подпругу, путник перекинул через лошадиную холку тощую перемётную суму, из которой с обеих сторон красноречиво торчали рукоятки дорогих фряжских пистолей, и одним ловким, непринуждённым движением бывалого наездника взлетел в седло. Сабля в потёртых ножнах негромко лязгнула о стремя; всадник оправил перевязь, двумя привычными плавными движениями разгладил пышные, свисавшие подковой усы, с неудовольствием потёр заросший многодневной рыжеватой щетиной подбородок и толкнул коленями лошадиные бока.
Отдохнувшая лошадь бежала резво, будто, как и седок, торопилась поскорее закончить долгое путешествие и очутиться в родной конюшне, перед кормушкой, полной отборного овса. Над верхушками деревьев показался краешек солнца, и лежавшая на траве и листьях роса засверкала, словно кто-то рассыпал по лесу неисчислимое множество бриллиантов. Одинокого всадника все эти красоты оставили равнодушным, ибо он был сыт ими по горло и хотел лишь поскорее сменить синий купол небес над головой на прочную тёсовую крышу, а пропахшую конским потом попону и жёсткое седло под головой – на мягкую постель. Общество верного скакуна, сколь бы приятным оно ни было для старого рубаки, после продолжительной поездки стало сильно уступать в его глазах обществу экономки – пусть уже немолодой и весьма ворчливой, но всё-таки женщины, а не бессловесной скотины, которая только и умеет, что фыркать, ржать да хрустеть овсом.
Долгое путешествие осталось позади, и это радовало всадника, хотя поездка, увы, получилась напрасной, не принеся желанного результата. Вместо тугого кошеля, под завязку набитого золотом, всадник вёз домой лишь короткую, запечатанную восковой печатью грамоту да ещё более краткое словесное послание, в коем не содержалось ничего утешительного или хотя бы обнадёживающего. Впрочем, всё это были не его заботы; преодолев множество опасностей и преград, он выполнил порученное дело, и в том, что дело сие кончилось ничем, не было его вины. Уже одно то, что, проделав такой долгий и опасный путь, он возвращался живым и невредимым, казалось чудом и могло быть поставлено ему в заслугу. А если хорошенько подумать, приходилось признать, что, будь при нём вместо никому не нужного бумажного свитка тугой кошель, его шансы на возвращение были бы невелики – во всяком случае, намного меньше, чем теперь, когда все находившиеся при нём ценности исчислялись немолодой лошадью, парой пистолей, саблей, потёртым кунтушом да стоптанными сапогами. В порубежных землях вдоль зыбкой, всё время меняющейся границы между Речью Посполитой и владениями московского царя Фёдора Иоанновича, давно уже стало неспокойно. Тут водились хищники пострашнее ворона, который разбудил путника на рассвете, и, чтобы проехать через эти места, сохранив имущество и жизнь, требовалась не только изрядная сноровка, но и большая удача.
К тому времени, когда солнце высушило росу, вековой сосновый бор остался позади, и путник выехал на открытое, слегка всхолмленное пространство с ярко-зелёными заплатами возделанных полей и беспорядочно разбросанными купами деревьев. Вдали показались и стали медленно приближаться островерхие, увенчанные четырёхконечными крестами башни костёла, а вскоре стали видны и соломенные крыши деревушки, приютившейся у подножия устремлённого в небо каменного исполина. По сторонам дороги начали попадаться занятые полевыми работами крестьяне. Те, что оказывались ближе к дороге, при появлении всадника бросали работу и, стащив с кудлатых голов шапки, низко ему кланялись: его в здешних местах хорошо знали, да и экипировка его прямо указывала на принадлежность к дворянскому сословию. Правда, кое-где видневшиеся на кунтуше и даже на сапогах прорехи и заплаты столь же прямо, без обиняков, говорили о плачевном состоянии, в коем пребывали финансовые дела пана Тадеуша Малиновского; увы, он относился к той немалочисленной разновидности однодворной загоновой шляхты, о представителях которой мужики, посмеиваясь в усы, говорили: «Паны – на двоих одни штаны; кто первый встал, тот и надел». Дед пана Тадеуша был пожалован шляхетским званием за добровольное участие в одной из многочисленных военных кампаний того времени; обретя дворянскую честь, ни он, ни его потомки, увы, не стяжали богатства, и жить им приходилось плодами собственных трудов, с чего, как известно, особенно не разживёшься.
Ныне пан Тадеуш возвращался из долгого и опасного путешествия в самое сердце Московского государства, куда был послан владетелем здешних мест, паном Анджеем Закревским. У пана Анджея было частное дело к тёзке, русскому князю Андрею Басманову; для улаживания оного дела пану Анджею потребовался верный, сметливый и храбрый гонец, на роль которого пан Тадеуш Малиновский годился как никто иной: он не единожды сходился с московитами лицом к лицу в лихой сабельной рубке, а однажды провёл у них в плену полных два года, будучи вместе с иными военнопленными отпущен домой царем Фёдором Иоанновичем в день его помазания на российский престол.
За два года пан Тадеуш успел недурно овладеть русской речью, так что лучшего посланника пану Закревскому было не найти. Правда, как уже было сказано, миссия пана Тадеуша не увенчалась успехом, но его вины в том не было ни капли: там, где он не преуспел, кто-то другой может быть и вовсе сложил бы голову. Свежие зазубрины на лезвии сабли и простреленная пулей пола кунтуша служили тому наилучшим подтверждением, коего, впрочем, от него и не требовалось: пан Анджей был дружен с паном Тадеушем с младых ногтей и доверял ему, как себе.
Торопя коня, пан Тадеуш проехал мимо поворота на просёлок, который вёл к его наследственному имению, представлявшему собой обыкновенный и притом далеко не богатый хутор. Повернув голову, всадник бросил взгляд на маячившее в отдалении тёмное облако зелени, обозначавшее росший на хуторе фруктовый сад, и облизнул пересохшие губы, вспомнив об ожидающем его в холодной кладовке бочонке доброго вина. Вслед за вином на ум вполне естественным порядком пришли жареный каплун и сочащийся прозрачным жиром, покрытый аппетитной золотистой корочкой свиной окорок. В животе у пана Тадеуша заурчало, рот наполнился слюной, и он подхлестнул усталую лошаденку, торопясь поскорее покончить с делами, чтобы ещё до заката попасть домой.
* * *
Князь Андрей Иванович Басманов, пригнув голову в низком дверном проёме, переступил порог и вошёл в горницу дочери. Невзирая на немолодой уже возраст, князь всё ещё сохранял прямую осанку и гордый разворот широких плеч, более приличествующий воину, нежели убеленному сединами государственному мужу. Впрочем, седины в бороде и волосах князя Басманова было не так уж и много, да и долгим разговорам в Большой палате Кремлевского дворца он, как и прежде, предпочитал лихую рубку в чистом поле. Следствием этого была порой излишняя прямота и резкость суждений и поступков; князь Андрей был твёрд и надёжен, как булатный клинок, и, как лезвие булатного меча, лишен гибкости.
Эти качества, весьма похвальные для простого воина, не всегда встречают должное понимание при дворе; за два года до смерти царя Ивана Васильевича, недаром прозванного Грозным, князь Басманов впал в немилость, был подвергнут опале и сослан в Нижний Новгород, откуда вернулся лишь с воцарением на российском престоле Фёдора Иоанновича. Борис Годунов, без совета которого государь ныне не мог ступить и шагу, неизменно являл к Андрею Ивановичу благосклонность. Благосклонность эта князю изрядно претила, ибо исходила от человека, коего он всегда считал худородным выскочкой, утвердившимся подле государева трона на сложенной из голов родовитых бояр кровавой пирамиде, однако ж, наученный горьким опытом, мнение своё держал при себе, не делясь им ни с кем, даже со своими домочадцами. К тому же, почитая пользу государства Российского превыше своей собственной, князь признавал, что, как ни плох Годунов, без него, верно, было б ещё хуже.
Накануне князь имел с боярином Годуновым долгий разговор с глазу на глаз. Разговор этот был у них не первый и даже не второй, и речь в этот раз, как и во все предыдущие, шла всё об одном и том же. Боярин, как всегда, многословно сетовал на бесчинства поляков, кои не прекращали разорительных набегов на окраинные земли государства, чиня тем немалый вред, и явно готовились развязать новую большую войну, старательно вербуя союзников в Европе. Давний недруг России, Швеция, была на их стороне; островная Англия, хоть и предпочитала честную торговлю войне, находилась чересчур далеко и вовсе не стремилась лезть в драку, а Германия уже который десяток лет колебалась, не зная, чью сторону принять. В этом смысле, говорил боярин Годунов, желание одного из членов императорской семьи связать себя узами брака с равной себе по происхождению русской княжной можно считать истинным Божьим даром, ибо брак сей, несомненно, склонит чашу весов в сторону России.
Оспорить рассуждения боярина было трудно, да князь и не видел смысла их оспаривать: поляки действительно наседали, и женитьба двоюродного брата императора Фердинанда на благонравной девице старинного русского рода, если и не могла принести великой пользы, раз и навсегда смирив злокозненных ляхов, то и вреда не нанесла бы. Дело, с какой стороны на него ни посмотри, затевалось благое; это князь Андрей Иванович понимал хорошо и спорить с этим не собирался. Непонятно было иное: почему для сего благого дела избрали именно его дочь, княжну Ольгу, а не иную какую-нибудь девицу? Нешто мало на Руси незамужних боярышень да княжон?
Однако же это, единственное, возражение было не совсем того рода, кои стоит приводить в разговоре о делах государевых, а вернее – совсем не того. Ведь, ежели подумать, дочери князя, а стало быть, и ему самому, оказали великую честь. Не всякому выпадает сослужить государю верную службу, и никто не вправе от оной отказываться. Мужчине пристало служить отечеству на поле брани, и это, между прочим, никого не удивляет: на то он и муж, чтоб, если понадобится, сложить голову за царя и святую Русь. И верно говаривал покойный царь Иван Васильевич, что для пользы государства не должно жалеть ни жены, ни мужа, ни отца с матерью, ни детей своих. Вот и сын его, Фёдор Иоаннович, вослед за отцом, а паче того, за боярином Годуновым то же неустанно повторяет. И как ты им возразишь? Как скажешь: не отдам, мол, дочку замуж в чужую сторону? Такие слова изменой попахивают!
Так вот, начав с общих рассуждений о благе государства и выгодах, которые можно было б извлечь из брака княжны Ольги Басмановой с кузеном императора Фердинанда, Карлом Вюрцбургским, боярин Годунов вдруг огорошил Андрея Ивановича вестью, которая ему, боярину, представлялась благой: накануне вернулся отправленный к императору Фердинанду с посольством боярин Толубеев и, помимо всего прочего, привёз грамотку от молодого герцога Вюрцбургского. Герцог писал, что очарован прелестями и кротким нравом княжны Басмановой, кои столь живо описал ему боярин, и готов хоть сию минуту взять её в жены.
Андрей Иванович сильно подозревал, что молодой герцог прельстился не столь красотой, молодостью и добрым нравом юной княжны, сколь богатым приданым: как ни крути, а золото лишним не бывает. Видно, и кузен его, император Фердинанд, поразмыслив, молвил слово в пользу этого брака, так что дело сие можно было считать решённым, и не князю Басманову, единственно милостью государя Фёдора Иоанновича возвращённому из ссылки, было противиться царской воле. А коли сам князь не мог тому противиться, так дочери его, княжне Ольге, покорствовать сам Бог велел.
Словом, умом князь Басманов понимал всё очень хорошо, но отцовское сердце всё едино ныло, предчувствуя скорую разлуку. С тех пор как сын его, княжич Иван Андреевич, был убит стрелой в бою со свейскими ландскнехтами, дочь стала для князя единственным светом в окошке. И теперь, когда княжна Ольга нежданно-негаданно сделалась заложницей большой политики, Андрей Иванович горько сожалел о том, что не выдал её замуж раньше. Ведь были женихи, и недурные! А он всё перебирал: тот худого рода, этот небогат и, по всему видать, охотится за приданым, а иной собою нехорош… На самом-то деле, конечно, виноваты были не женихи, а он сам: жалко было дочь, последнюю родную кровиночку, в чужой дом отдать, хотелось оттянуть разлуку хотя б ещё на год-другой. Эх, кабы загодя знать, как оно обернётся! Давно б уж замужем была и горя не ведала. А ныне что? Увезут за тридевять земель, и свидеться, поди, уж не доведётся. Да ещё перекрестят в нечестивую лютеранскую веру, а это всё равно, что родную дочь вдругорядь потерять…
Посему, входя в светёлку дочери, князь пребывал далеко не в лучшем расположении духа. Однако при виде княжны, которая, сидя на лавке у окна, занималась, по обыкновению, вышиванием, глубокая морщина меж бровей Андрея Ивановича разгладилась, а губы под пышными усами тронула тень улыбки. Княжна Ольга и впрямь была хороша – хороша настолько, что для того, чтоб ею восхищаться, вовсе не обязательно было состоять с нею в родстве. Падавший через слюдяное оконце полуденный свет мягко переливался на заплетённых в тяжёлую косу волосах и золотил нежный пушок на обращённой к окну щеке. Подняв голову, княжна увидела отца и, отложив пяльцы, низко ему поклонилась. Просторный, богато вышитый сарафан не мог скрыть гибкости девичьего стана; заплетённая синей атласной лентой коса, соскользнув с плеча, коснулась чисто вымытого, выскобленного добела пола.
Подойдя к дочери, князь поцеловал её в лоб, усадил обратно на лавку и, присев рядом, завёл разговор издалека, прямо как боярин Годунов давеча говорил с ним самим, – о том, что на семнадцатом году девице, поди, скучно день-деньской сидеть за пяльцами да слушать глупые пересуды мамок и горничных, а ещё о том, что Божий свет велик и зело предивен, и что княжне, верно, было б любопытно поглядеть, что в сём свете деется.
Княжна слушала его с почтительным вниманием, как и подобает благонравной, воспитанной в надлежащей строгости девице, а дослушав, мягко заперечила, сказавши, что сидеть за пяльцами ей нисколечко не наскучило, и что, сколь бы ни был дивен Божий свет, лучшего места для себя, чем отчий дом, она не чает.
Такой ответ, сколь ни был лестен для князя, ныне его не устраивал. Крякнув и с неловкостью кашлянув в кулак, он напрямую перешёл к делу, которое ему самому было едва ли не более неприятно, чем княжне.
– Что ж ты, душа моя, – с шутливым укором молвил он, – так и чаешь до старости в девичьей светёлке с шитьём просидеть? Неужто замуж не хочется?
– Замуж-то, поди, всем охота, – слегка зардевшись, ответила княжна Ольга. – А только как же я тебя, батюшка, одного-то оставлю?
Князь вздохнул. То-то и оно!
– А как же иначе-то? – сказал он. – Так исстари заведено, чтоб птенцы, оперяясь, родное гнездо покидали. Сколь яблочку наливному на ветке ни висеть, а не миновать на землю пасть. И куда оно укатится, то одному Богу ведомо…
Сказав про яблочко, что может укатиться далеконько от родной яблоньки, князь спохватился, что сболтнул лишнего. Однако княжна, казалось, не заметила его оговорки.
– Нешто жених для меня сыскался? – потупив взор, чуть слышно спросила она.
– Сыскался, – кивнул князь. – Да какой жених-то! Ей-богу, лучший и во сне не приснится! Истинно, королевич.
– Королевич?
Уловив в голосе дочери беспокойные, тревожные нотки, Андрей Иванович уже не в первый раз отметил про себя, что княжна не только красна собою, но и умна да сметлива – пожалуй, даже чересчур сметлива для воспитанной в строгих правилах девицы, коей не подобает вникать в мужские дела. Из всего разговора она мигом выделила главное, ключевое слово – «королевич», намекавшее на иноземное происхождение жениха. И сейчас же подумалось, что боярин Годунов, по всему видать, неспроста остановил свой выбор именно на ней, надеясь, может статься, на то, что со временем Ольга станет вертеть своим Карлом Вюрцбургским, как захочет, по его, Бориса Годунова, подсказке.
– Ну, не так, чтоб совсем уж королевич, – с улыбкой кладя на голову дочери большую ладонь, молвил князь, – но вроде того. Ландграф Вюрцбургский, Карлом звать.
– Карлой? – испугалась княжна Ольга.
Андрей Иванович усмехнулся. Этак же хотелось пошутить и ему, когда впервой услыхал имечко будущего зятя, да пришлось сдержаться: разговор у них с боярином Годуновым шёл не шутейный, а за приоткрытой на два пальца дверью в соседнюю палату почти наверняка скрывался, подслушивая, посланник императора Фердинанда, ежели не сам царь Фёдор Иоаннович.
– Не карла, а Карл, – продолжая улыбаться, хотя внутри всё так и ныло, ровно больной зуб, от близости неминуемой и, по всему видать, вечной разлуки, поправил князь. – На карлу даже и не похож. И рода высокого, императорского, и собою хорош. Да вот, гляди, это он тебе передал.
С этими словами князь извлёк из привешенного к поясу шитого бисером кожаного кошеля тонко сработанный золотой, изукрашенный каменьями медальон на затейливой цепочке, нажатием кнопки отомкнул хитрый пружинный замочек немецкого дела и показал дочери спрятанный внутри миниатюрный портрет белокурого молодого человека с воинственно закрученными усами и остроконечной бородкой. Шею Карла Вюрцбургского охватывал, намекая на ратную доблесть, кольчужный воротник, а ниже виднелось зерцало воронёных лат.
Сколь ни был хорош собою изображённый на портрете ландграф Вюрцбургский, при виде его глаза княжны наполнились слезами: она хорошо поняла значение медальона. Сделанный ландграфом дорогой подарок говорил о твёрдости его намерения жениться, а то, что отец принял сей о многом свидетельствующий дар, означало, что и у него уж всё решено окончательно и бесповоротно.
Где находится Вюрцбургская земля, коей предстояло отныне сделаться её родиной, княжна представляла лишь в общих чертах, но и того было достаточно, чтобы понять: это очень далеко, и, покинув отчий дом, она сюда уже вряд ли когда-нибудь вернётся.
Сделав вид, что не заметил двух влажных дорожек, которые пробороздили побледневшие щёки дочери, князь продолжил многословно, то шутливо, а то всерьёз, расписывать достоинства иноземного жениха. Слёзы, особенно женские – просто солёная вода. Сколь ни плачь, а дела тем не поправишь, и плох тот муж, что в поступках своих руководствуется не голосом разума и соображениями государственной пользы, а болью растревоженного женскими слёзами сердца. Андрей Иванович знавал людей, ступивших на эту скользкую стезю. Все они плохо кончили – одни, отойдя от дел, были скоро забыты, и имена их превратились в пустой звук, иные ж и вовсе сложили головы на плахе, ибо нет более верного пути к лобному месту, чем в мужских делах следовать бабьим советам.
Мысль эту князь также развил перед дочерью – правда, не столь прямо и жёстко, а с надлежащей в подобных делах иносказательной мягкостью. Дочь, как обычно, поняла его вполне и даже не пыталась противиться, спросив лишь, когда надобно ехать.
– Да через недельку, мнится, и тронешься, – сказал на это князь таким тоном, будто речь шла о поездке из Москвы в загородное имение.
– Так скоро? – на сей раз по-настоящему испугалась княжна.
– Да что ж тянуть-то? – так же искренне отвечал князь Басманов. – Тяни не тяни, а чему быть, того не миновать. Да и правильно говорят: долгие проводы – лишние слёзы.
Сказав так, князь поспешно покинул светлицу и, никого более не желая видеть, заперся в своих покоях. Странно, но, отдавая в тот вечер дань зелену вину с собственной винокурни, Андрей Иванович думал почему-то не столько о дочери и скорой с ней разлуке, сколько о гонце, коего несолоно хлебавши отправил восвояси недели полторы назад. Теперь этот поступок уже не казался ему столь же разумным, как тогда, ибо сулил одинокую старость без утешения и поддержки, а главное, скорый конец княжеского рода Басмановых.
Вслед за мыслями о гонце на ум пришли воспоминания об иных, давних делах, и, сколь ни пытался князь их прогнать, воспоминания эти терзали его до тех пор, пока он не уснул, вконец измученный тяжкими, тревожными думами.
* * *
К сложенному из толстых дубовых брусьев старательно оштукатуренному и выбеленному дому пана Анджея Закревского вела посыпанная чистым песком липовая аллея, что кончалась «кругом почёта» перед парадным крыльцом. В центре этого круга красовалась клумба, запущенный вид которой предательски выдавал состояние финансов пана Анджея. То был ещё не полный упадок, но близость упадка, который казался неизбежным, если только Господь в неизъяснимой милости своей, вняв горячим молитвам пана Закревского, не взял бы на себя труд неким чудесным образом поправить его дела.
Каменное крыльцо украшал портик с деревянными колоннами, сделанными на манер античных, но из-за неумелости строителей, не знавших древнего секрета, казавшимися слегка пузатыми. Дерево колонн растрескалось, краска с него местами облезла, а кирпичные ступени истёрлись так, что зимой по ним стало опасно спускаться – того и гляди, поскользнёшься и со всего маху ахнешься затылком о стылый камень. Под крышей портика свили гнездо ласточки. Сейчас гнездо, являвшее собою ком скреплённой птичьей слюной грязи, пустовало, и из него, покачиваясь на ветру, печально свисали длинные сухие травинки.
Подъехав к крыльцу, пан Анджей, как всегда, бросил на гнездо недовольный взгляд и подумал, что сие сомнительное украшение надобно непременно убрать, и чем скорее, тем лучше. Однако, спешившись и отдав поводья подбежавшему конюху, он немедля забыл о гнезде, как это случалось с ним постоянно. Такая забывчивость объяснялась просто: пану Анджею было жаль ласточек, которые, вернувшись будущей весной из теплых краев, были бы вынуждены вить новое гнездо. Да и забот помимо какого-то гнезда у него хватало с лихвой. Пан Анджей отчаянно нуждался в деньгах, коих ему вечно недоставало – не потому, что он был игрок, кутила или такой уж скверный хозяин, а потому лишь, что так сложились обстоятельства. Помимо былой славы и родовой чести, предки оставили ему в наследство только сильно уменьшившееся поместье, которое после раздачи отцовских долгов сделалось ещё меньше. Теперь его едва хватало на то, чтоб худо-бедно прокормиться; о том же, чтобы обеспечить достойное будущее сыну, думать ныне едва ли приходилось. Оставалась надежда на удачное замужество дочери, однако и тут существовали препятствия, числом три, и звались те препятствия дочерьми соседа пана Анджея, графа Вислоцкого – Эльжбетой, Марией и Анной.
Граф Вислоцкий нуждался в деньгах не менее, а, пожалуй, более отчаянно, чем пан Анджей, и так же, как он, мог рассчитывать только на удачное замужество дочерей – всех трёх, если повезёт, а нет, так хотя бы одной. Перед паном Анджеем у графа имелось неоспоримое преимущество: как-никак, он был граф и состоял в родстве, пускай себе и дальнем, с самими Радзивиллами. Это была недурная приманка для богатых женихов, и если на неё до сих пор никто не клюнул, так, наверное, только потому, что разгульный нрав графа Вислоцкого был широко известен не только по всей Речи Посполитой, но и далеко за её пределами. Золото протекало у графа меж пальцами, как вода, и пустить предполагаемого зятя по миру ему ничего не стоило – решить эту задачку он мог в течение одной ночи, проведённой за игрою в кости.
Но титул есть титул, и охотник сыграть в кости с самой судьбой, когда на кону стоит графская корона, сыщется рано или поздно. Что же до пана Анджея Закревского, то он перед лицом столь сильной конкуренции, да ещё и не имея ничего, что можно было бы назвать достойным приданым дочери, даже титула, и впрямь мог рассчитывать разве что на чудо. Его частенько посещала мысль, что было бы не худо найти где-нибудь в подвале дома замурованный предками клад или ещё как-нибудь неожиданно и скоро разбогатеть.
Клад, однако же, не находился, и, хоть пану Анджею пока удавалось худо-бедно сводить концы с концами, не влезая в долги, ничего доброго он в будущем не предвидел.
Удача улыбнулась ему только единожды, около года назад, да и от той удачи пока не было видно никакой прибыли. Минувшим летом пану Анджею довелось принять участие в военном походе на московские земли. Поход тот, как и многие иные походы, кончился, можно сказать, ничем, не принеся его участникам ни богатой добычи, ни громкой воинской славы. Пошумели, постреляли, не без труда опрокинули русскую порубежную стражу, разорили с десяток деревень, а после дорогу в центральные русские земли заступила рать воеводы Головатого, и, убоявшись кровавого поражения, поляки повернули восвояси.
В том походе, в одной из самых первых стычек с русскими порубежниками, пану Анджею Закревскому повезло захватить пленника. К концу схватки, когда немногочисленный отряд русских ертоульных был частично истреблён, а частично обращён в бегство, пан Анджей приметил одинокого всадника, который отчаянно и лихо отбивался от наседавших со всех сторон поляков. По левому рукаву его кафтана стекала кровь, лицо тоже было в крови, сочившейся из глубокого пореза на лбу, однако одинокий воин, казалось, не замечал полученных ран, продолжая с бешеной энергией и недюжинным мастерством парировать и наносить удары.
Пан Анджей, которого в пылу лихой рубки оттеснили к опушке леса, видел, как русский воин страшными ударами сабли буквально снёс с седла одного, потом другого всадника и, расчистив себе путь, устремился к лесу. Закревский, стоявший почти у него на дороге, послал своего коня наперерез беглецу. На исход схватки это уже никак не могло повлиять, однако кровь старого воина бурлила, как в молодости; охваченный азартом битвы, он на скаку срубил попавшегося на пути пешего бородатого казака, что пытался проткнуть его пикой, и встретил намеченную жертву там, где и рассчитывал – на самой опушке, в двух шагах от спасительной лесной чащобы.
Впрочем, назвать русского порубежника жертвой можно было лишь с большой натяжкой. Сдаваться на милость победителя он не собирался, и, если бы пану Анджею в тот день не сопутствовала удача, неизвестно, как повернулось бы дело. Но она ему сопутствовала; противники на всем скаку скрестили сабли с такой силой, что от клинков полетели искры, а у Закревского от удара до самого плеча онемела рука. Ослабевший от ран русич не удержал саблю в скользкой от крови ладони, и та серебристой змейкой беззвучно нырнула в густую траву. Порубежник – пан Анджей заметил, что тот совсем молод, едва ли старше двадцати лет, – покачнулся в седле, а в следующее мгновение на пути ему встретился толстый сосновый сук, который сшиб его на землю. Потерявший седока конь, фыркая и мотая головой, отбежал в сторону и остановился поодаль, всадник же остался лежать неподвижно, распростёршись на ковре седого мха, кое-где запятнанного алой кровью.
Свидетели этой короткой схватки ещё долго на все лады расхваливали пана Анджея за доблесть и непревзойденное воинское мастерство, кое, по их мнению, позволило шляхтичу Закревскому одним ударом свалить бешеного русского медведя, что в одиночку сумел отбиться от десятка врагов. Пан Анджей, однако, подозревал, что его мастерство тут ни при чём: его противник просто ослаб от потери крови, а выросший не там, где надобно, сук довершил то, что Закревский наедине с самим собою никак не мог назвать честной победой.
Он понял это сразу и потому, наверное, не оставил раненого умирать на поле боя, а велел его перевязать и отправить повозкой в своё имение. С виду пленник был благородного происхождения, и то, как он владел саблей, как держался в седле и как отчаянно бился с многократно превосходящим противником, лишний раз подтверждало догадку пана Анджея. Правда, кошель пленника оказался пуст, но конь под ним был недурён, а булатная сабля и торчавший за поясом кинжал в простых ножнах произвели впечатление даже на знавшего толк в оружии Закревского.
Это и впрямь была удача, подвернувшаяся как раз тогда, когда пан Анджей начал ощущать настоятельную необходимость поправить свои денежные дела. За благородного пленника можно было получить весьма приличный выкуп – возможно, такой, что его хватило бы даже на небольшое приданое дочери Юлии. Почему б, в самом деле, пленнику не оказаться сыном знатного боярина или князя, у коего злата куры не клюют, и который ничего не пожалеет ради возвращения из плена своего наследника?
Когда пан Анджей воротился домой из похода, пленник его уже оправился от ран и даже начал под присмотром дворовых выходить на крыльцо. Положение своё он понимал прекрасно и относился к плену философически: дескать, что ж попишешь, коли так вышло?
Впрочем, шансы пана Анджея на получение богатого выкупа пленник находил весьма сомнительными. Признав, что действительно приходится сыном такому богатому и влиятельному вельможе, как князь Андрей Басманов, и что пан Анджей Закревский по обычаю имеет полное право претендовать на выкуп, юноша добавил со вздохом, что князь вряд ли захочет выручить его из неволи. «Ты победил, тебе и награда, – сказал он пану Анджею. – Да только невелика тебе с меня прибыль, ясновельможный. Князь Басманов мне отец, но я-то ему, вишь, не сын!» – «Как это?» – слегка растерявшись и решив, что, видно, неправильно понял пленника (разговаривали-то они поначалу, в основном, на пальцах, жестами), переспросил пан Закревский. «Нешто ты не знаешь, откуда байстрюки берутся!» – с легкой горечью воскликнул пленник, и пан Анджей понимающе крякнул. Судьба опять сыграла с ним злую шутку, в награду за доблесть и смертельный риск подсунув вместо настоящего княжича полукровку – сына грешной, безвестной матери, не имеющего законного права ни на родовое имя, ни, тем паче, на долю в отцовском наследстве.
Увы, другого пленника у пана Анджея Закревского в запасе не было, и он решил попытать удачи с тем, что имелся под рукой. Тут, на счастье, подвернулась оказия: всемилостивый король Речи Посполитой Сигизмунд отправлял посольство к царю и великому князю всея Руси Фёдору Иоанновичу. Через знакомых в сейме пану Анджею удалось добиться разрешения отправить с посольством своего гонца – однодверного шляхтича пана Тадеуша Малиновского, у коего за душой не было ничего, кроме немолодого коня, доброй пищали, отцовской сабли да шляхетской гордости, каковая не оставляла его даже в те минуты, когда он, с пищалью за спиной и саблей на боку, самолично пахал землю, используя в качестве тягла своего боевого скакуна. Когда такое случалось (а случалось такое регулярно, ибо человеку требуется пропитание, а гордость на хлеб не намажешь), было издалека заметно, что в хомуте и с сохою позади оный скакун чувствует себя куда привычнее, нежели под седлом. Однако же смельчак, дерзнувший прямо сказать об этом пану Тадеушу Малиновскому или как-то иначе задеть его гордость, рисковал прямо тут же, на месте, лишиться живота: академий пан Тадеуш не кончал и едва мог нацарапать пером на бумаге своё имя, но саблей при этом орудовал с завидными ловкостью и хладнокровием.
Хутор пана Тадеуша Малиновского располагался на родовых землях Закревских; пан Анджей не единожды ходил вместе с паном Тадеушем на войну, не раз и не два спасали они друг другу жизнь и в отношениях своих давным-давно переступили ту грань, что издревле разделяет вассала и сюзерена. На людях по-прежнему блюдя внешние приличия, они уж не первый десяток лет по-настоящему дружили, и лучшего посланника пану Анджею было не сыскать, хотя бы он, задавшись такою целью, обошёл весь белый свет. Но мудрые люди оттого и мудры, что не ищут того, чего искать не надобно, и никогда не пренебрегают тем, что находится прямо под рукой, ежели оно пригодно для затеянного дела. Пан Тадеуш же годился для дела как никто: ему можно было довериться, как себе, и он не растерялся бы, попав в трудную ситуацию. Словом, если бы пан Тадеуш Малиновский не справился с поручением, сие означало бы одно из двух: либо поручение было заведомо невыполнимо, либо гонцу уж очень сильно, прямо-таки фатально, не повезло.
Итак, подъехав к дому и бросив поводья подбежавшему конюху, пан Анджей Закревский легко, как молодой, взбежал по ступенькам увенчанного античным портиком с пузатыми колоннами крыльца, покосился на ласточкино гнездо под кровлей портика, и мимо распахнувшего дверь босоногого лакея вступил в дом.
В доме оказалось неожиданно шумно. Со стороны столовой доносился громкий мужской голос, на все лады поносивший кого-то такими страшными словами, что, имей оные слова материальную силу, поносимому не хватило бы и десяти жизней, чтобы претерпеть все беды и напасти, коих желал ему поносящий. Манера выражаться и, в особенности, голос сразу же показались пану Анджею до боли знакомыми. В первую минуту он даже не удивился, решив, что весь этот сквернословный шум происходит исключительно внутри его головы и является продолжением его размышлений о пане Тадеуше Малиновском, коему и принадлежали многочисленные и громогласные «пся крэв» и «холера ясна», что всё ещё доносились со стороны столовой.
Потом что-то задребезжало, забренчало, зазвенело; из коридора выскочил и, едва поклонившись хозяину, с тихим тоскливым воем пробежал в сторону кухни повар. От повара валил пахнущий варёной капустой горячий пар; с волос у него капало, причёску, лицо и одежду сомнительно украшали разваренные капустные листья. Сколь ни стремительно промчался мимо повар, пан Анджей успел углядеть на капусте предательские чёрные пятна и унюхать неприятный душок гнили. Всё было ясно: прижимистый повар пытался попотчевать гостя бигусом, приготовленным из подгнившей капусты, был на этом пойман и наказан прямо на месте преступления. Верно говорят московиты: поделом вору мука. Если б такое сомнительное угощенье гостю поднёс сам хозяин, пан Тадеуш, может, и стерпел бы из уважения к старой дружбе. Но терпеть такое от холопа этот гордец, ясно, не станет даже за все сокровища мира…
И только теперь, мысленно разобравшись с поваром и бигусом, пан Анджей осознал, что всё это вовсе не плод его воображения. Голос пана Малиновского продолжал громыхать в столовой, да и облитый бигусом повар столь же мало смахивал на рождённую воображением химеру, сколь и его неаппетитное варево. То бишь, бигус из гнилой капусты в какой-то степени, конечно, был-таки сродни химерам – по крайности, он мог их рождать, особенно по ночам, будучи употреблённым на ужин, – но уж обвешанный капустой повар наверняка был созданием в высшей степени земным – настолько земным, что пан Анджей пробудился от своих мечтаний и, наконец, сообразил, что там, в столовой, сидит пан Тадеуш Малиновский собственной персоной – так сказать, во плоти.
Сие означало, что миссия пана Тадеуша благополучно завершилась – благополучно, по крайней мере, для самого пана Тадеуша, ибо покойники неспособны сквернословить и возмущаться качеством подаваемой на их стол еды.
Осторожно воспрянув духом, пан Анджей устремился в столовую. Помещение это, некогда донельзя роскошное – во всяком случае, по провинциальным меркам, – ныне основательно обветшало, как и всё иное хозяйство во владении шляхтича Закревского. Тёмные дубовые панели стен были источены жучками-древоточцами и напоминали некую деревянную разновидность швейцарского сыра, мебель трещала и скрипела, грозя рассыпаться прахом от неосторожного прикосновения, а драгоценные гобелены и портреты предков потемнели, закоптились и засалились так, что на них уже стало трудно отличить доблестных рыцарей от их боевых коней, а бравых охотников – от оленей и фазанов, на коих они охотились. Покрытые пылью и непобедимой, всесокрушающей ржавчиной старинное оружие и доспехи сумрачно поблескивали на стенах; от побитых молью персидских ковров веяло сухой затхлостью угасающего величия, а из закопчёной пасти огромного, как в королевском замке, бесполезного камина тянуло застарелой печной гарью.
Посреди этого обветшалого великолепия располагался длинный дубовый стол, за коим одновременно могли отобедать человек тридцать. Стол этот был накрыт посеревшей от старости, но чистой полотняной скатертью; в дальнем его конце, ближе к хозяйскому месту, виднелся одинокий столовый прибор из массивного серебра, появление коего на столе означало, что в доме дорогой гость. Мигом заметив и оценив это обстоятельство, пан Анджей мысленно отдал должное сметливости дочери, которая в отсутствие отца и брата брала на себя хлопотную роль хозяйки дома (пан Анджей уже много лет был вдов и, блюдя верность памяти покойной жены, а паче того, не имея средств на очередную женитьбу, так и не обзавёлся новой спутницей).
Войдя в столовую, пан Анджей застал дочь стоящей подле стола. В своём скромном белом платье на фоне тёмных дубовых панелей рыжеволосая пани Юлия напоминала венчальную свечу, а ветхая роскошь обстановки выгодно подчёркивала её молодость и красоту. Перед Юлией, преклонив колена и взяв её тонкую белую руку в свои загрубелые, мало чем отличающиеся от мужичьих, красные лапищи, склонив обильно посеребрённую сединой голову, стоял пан Тадеуш Малиновский, голос которого пан Анджей слышал ещё в прихожей.
– Простите, ясновельможная пани, – приглушённо рокотал пан Тадеуш, – простите великодушно! Не пристало вашим нежным ушкам слушать такие слова…
– Это я должна просить прощения у пана, – мягко возразила Юлия. – Пан устал с дороги и проголодался, а я не проследила за тем, чтоб ему подали угощение, достойное столь дорогого гостя…
– Так пану и надо! – в свой черёд перебил её Малиновский. – Пан совсем одичал, раз позволяет себе лаяться на прислугу в чужом доме, да ещё и в присутствии хозяйки. Лучшего угощения пан не заслужил… За такую провинность пана на конюшне кормить надо, да не овсом, а гнилой соломой!
Пан Анджей прервал этот обмен любезностями, деликатно кашлянув в кулак. Малиновский оглянулся, живо вскочил с колен и поклонился ему в пояс. Приблизившись, пан Анджей обнял старого приятеля.
– Несказанно рад твоему возвращению, – признался он. – Вижу, повар не разделяет моей радости. Прости его, друг мой. Он ловчит, пытаясь сберечь кусочек повкуснее для меня и моих детей. Хотя беречь, признаться, уже нечего. Юлия, – обратился он к дочери, – вели подать нам вина и еды. Да проследи, чтоб на сей раз всё было в порядке.
– Неужто дела настолько плохи? – спросил пан Тадеуш. Когда дочь хозяина вышла из комнаты, улыбка сбежала с его лица, и оно стало хмурым и усталым.
– Ну, не настолько, чтоб я не мог накормить старого друга, как полагается, – невесело усмехнулся Закревский. – Однако и хорошего мало. Виды на урожай не самые лучшие. Да и вряд ли один урожай, даже самый богатый, сумеет исправить то, что приходило в упадок десятилетиями… Не знаю, право, что тогда делать. Я ведь даже имение продать не могу – майорат.
Малиновский огорчённо крякнул, хорошо понимая, к чему клонит пан Анджей. Закревский усадил его за стол и сел напротив, с ожиданием и надеждой поглядывая на старого друга. Принесли вино и закуску; пока слуги суетились вокруг, накрывая на стол, пан Тадеуш попытался собраться с мыслями. Из этого ничего не вышло; да и что, право слово, можно было придумать в таком положении?! Прямой вопрос, который вот-вот должен был прозвучать, требовал столь же прямого ответа. Ответ же был неутешителен; за всё время пути из Москвы в родные места пан Тадеуш так и не сумел придумать, как подсластить горькую истину, и глупо было надеяться, что способ смягчить удар отыщется теперь, в самую последнюю минуту.
Наконец, предводительствуемые опасливо косящимся на гостя поваром лакеи удалились, оставив шляхтичей одних. Юлия Закревская тоже не вернулась в столовую, понимая, по всей видимости, что отцу надобно переговорить с гостем с глазу на глаз. Уходя, она выглядела печальной и бледной. Простодушный пан Тадеуш Малиновский отнёс её настроение на счёт своего и впрямь не слишком пристойного поведения; право, не стоило ему так забористо бранить повара, не оглядевшись прежде по сторонам. Пан Анджей, в отличие от него, подозревал, что причина дочерней грусти иная; он догадывался, что это за причина, и оттого его нетерпение услышать привезённые гонцом новости многократно усиливалось.
Пан Тадеуш, однако, говорить не спешил. Осушив кубок, в который входила добрая бутылка вина, он с прямо-таки неприличной поспешностью до отказа набил рот едой и принялся жевать, кряхтя, причмокивая и всеми возможными способами показывая, как ему вкусно и как он истосковался по домашней пище. Пан Анджей терпеливо ждал, давая другу возможность утолить голод. Малиновский продолжал есть; ему казалось, что это недурной способ оттянуть неприятный для обоих разговор, однако он подозревал, что надолго его не хватит: каким бы голодным человек ни уселся за стол, рано или поздно он либо наестся до отвала, либо съест всё, до чего может дотянуться.
Через некоторое время пан Анджей заподозрил неладное, а когда Малиновский, целиком умяв жареного гуся, всё так же молча, да ещё и пряча при этом глаза, принялся за свиной окорок, ему стало окончательно ясно, что денег нет и не будет. Оставалось лишь выяснить причину неудачи; положа руку на сердце, причина сия пану Анджею была глубоко безразлична – от разговоров деньги всё равно не появятся, – однако расспросить пана Тадеуша надлежало хотя бы из вежливости.
– Говори, друже, – мягко произнес он, – не томи. Что сказал тебе князь Басманов? Можешь не хитрить, я и так уже всё понял.
Пан Тадеуш крякнул и с видимым облегчением оттолкнул от себя окорок, на который уже не мог глядеть. Вынув из-за пазухи слегка помятый бумажный свиток, перевязанный витым шнурком, на коем болталась подтаявшая восковая печать, он протянул грамоту Закревскому.
– Пся крэв, – проворчал пан Тадеуш. – Если б мог, я вызвал бы его на поединок и дал ему отведать моей сабли. Холера ясна! Не помочь в беде родному сыну!
– Он незаконнорожденный, – вздохнул пан Анджей, разворачивая свиток.
Грамота была составлена по-польски; польский, разумеется, был таким, каким его представлял себе толмач-московит, коего удалось разыскать князю Басманову. Ничего утешительного или хотя бы нового для пана Анджея грамотка не содержала, если не считать пары ругательств, коих шляхтич Закревский ранее не слышал и потому решил запомнить, дабы при удобном случае ввернуть в приватном мужском разговоре.
Пока он читал, пан Тадеуш, заново обретя дар речи, без стеснения поносил русского князя, который не захотел прийти на выручку собственному, пусть себе и незаконнорожденному, сыну. Пану Анджею такое положение вещей тоже представлялось довольно странным. Добро бы ещё у князя не было денег! Но деньги у Басманова водились, и притом в таком количестве, что ему ничего не стоило выкупить из плена хоть целый полк своих соотечественников.
Если отбросить обидные намёки на принадлежность всей польской шляхты и, в первую голову, пана Анджея Закревского к собачьему роду-племени, а заодно и всё прочее сквернословие, смысл привезённой из далёкой Москвы грамотки сводился к следующему: да, в далёкой юности князь Андрей Басманов согрешил, однако грех свой давно искупил, пожаловав своему незаконнорожденному отпрыску в наследственное владение деревеньку под Нижним Новгородом, доброго коня, саблю и три сотни ефимков. Свой родительский долг князь, таким образом, считал исполненным и более ничего не желал слышать о недоросле, именующем себя его сыном. Коротко говоря, сумел угодить в полон – сумей из него и выбраться.
В общем и целом выглядело всё это разумно, хотя на взгляд пана Анджея князь мог бы более тщательно выбирать выражения. Но выражения не меняли сути дела. Суть же была проста: платить выкуп за сына князь решительно отказался, и теперь Закревскому предстояло решить, как быть дальше.
– Холера ясна, – вслед за паном Тадеушем беспомощно выругался он. – И что я теперь должен с ним делать? Не могу же я держать его у себя в доме до скончания века! Ведь, помимо всего иного, это ещё и лишний рот! Не могу же я определить княжеского сына в конюхи!
– Почему? – удивился пан Тадеуш, который не видел в таком предположении ничего странного и неприемлемого, ибо сам был себе и конюхом, и дворником, и лакеем, и землепашцем.
– Честь не позволяет, – сообщил пан Анджей. – Пленный князь – всё равно князь.
– Граф Вислоцкий, к примеру, просто продал бы его каким-нибудь туркам, – наливая себе вина, задумчиво проговорил пан Тадеуш. – Им безразлично, князь он или холоп. Разница только в цене, которую можно получить за него на невольничьем рынке где-нибудь в Стамбуле.
– Это не самая удачная из твоих шуток, пан Тадеуш, – с грустью произнёс Закревский.
– Наверное, оттого, что мне не слишком весело, – предположил Малиновский. – Не знаю. Может быть, князь передумает. Хотя по его виду мне показалось, что он не из тех, кто меняет свои решения.
– На то он и князь, – ещё печальнее сказал пан Анджей.
– Будучи князем, вовсе не обязательно быть глупцом, – возразил Малиновский. – Сказано: один Бог без греха. Даже князья могут ошибаться, говоря в горячке то, о чём после приходится сожалеть. Не исправляя допущенных ошибок, мы лишь усугубляем их последствия…
Не договорив, он жадно припал к кубку. Пан Анджей молчал, разглядывая старого друга с некоторым изумлением и мысленно пытаясь сопоставить его простецкое лицо и огрубелые, привычные к тяжкой мужичьей работе руки с философическими речами, коих от пана Тадеуша никто отродясь не слыхивал.
– Это, – продолжал пан Тадеуш, утолив жажду, – объяснил мне один старик-отшельник. У него странное прозвище – Леший… А впрочем, и не странное вовсе. На лешего он и похож. Ха! Мне только сейчас подумалось: а может, это и был самый настоящий леший? – Он ухмыльнулся; язык у него уже слегка заплетался, и вообще было видно, что пан Тадеуш основательно захмелел от обильной пищи, вина и накопившейся усталости. – Я ночевал у него на обратном пути, мы разговорились, и слова его показались мне достойными внимания.
– Ага, – с понимающим видом кивнул слегка успокоенный этим сообщением Закревский и тоже налил себе вина. – Что же прикажешь делать? Ждать, пока твой Леший встретится с князем Басмановым и вразумит его?
– Боюсь, ждать придётся долго, – вздохнул Малиновский. – Старик безвылазно сидит в лесной глухомани, и я не заметил, чтобы его сильно тянуло к людям. Особенно к князьям… Но либо так, либо тебе самому придётся признать, что ты допустил большую ошибку, взяв в плен этого московита.
– Ошибку! – воскликнул пан Анджей, с такой силой стукнув кубком о стол, что вино выплеснулось через край и растеклось по скатерти похожим на кровь пятном. – Не дать достойному противнику умереть от ран – ошибка ли это, пан Тадеуш? Но даже если и так, что с того? Что изменится, даже если я во время воскресной проповеди столкну ксендза с амвона, вскарабкаюсь туда сам и во всеуслышание объявлю, что ошибся? Сомневаюсь, что в этом случае Господь смилостивится надо мной и заплатит выкуп вместо князя!
– Я тоже в этом сомневаюсь, – рассудительно согласился пан Тадеуш. – Особенно если ты действительно спихнёшь ксендза с амвона.
– Вот видишь, – убитым тоном заключил пан Анджей.
– Да, – протянул Малиновский, – положение трудное. Продавать его туркам ты не хочешь, определить в конюхи не можешь… Остаётся одно – ждать и надеяться, что Господь вразумит князя Басманова и тот переменит своё несправедливое решение.
– Боюсь, что ждать я тоже не могу, – нехотя признался пан Анджей. – И дело не только в деньгах. Видишь ли, Юлия… Я не хотел об этом говорить, но мне нужен твой совет, Тадеуш. Мне кажется, княжич ей нравится.
– А вот это и впрямь скверно, – с трудом переварив полученное сообщение, почесал в затылке Малиновский. – Ай-яй-яй… Как же так? Пленник, да ещё схизмат…
– Сердцу не прикажешь, – вздохнул пан Анджей. – И кто-то упорно распускает слухи, будто бы Юлия и этот московит… ну, ты меня понимаешь.
– Я даже догадываюсь, кто этим занимается. – Пудовый кулак пана Тадеуша с грохотом опустился на столешницу, заставив подпрыгнуть посуду. – Клянусь всеми святыми, здесь не обошлось без Быковского! Только этот прихвостень Вислоцкого с его грязным языком мог измыслить такую напраслину! Погоди, дай только отдохнуть с дороги, и я вобью его слова ему в глотку вот этим кулаком!
Пан Анджей с кислым выражением лица оглядел внушительный кулак приятеля, коим, судя по виду, можно было свалить с ног бешеного слона.
– Быковский не станет драться на кулаках, – остудил он пана Тадеуша. – Для начала он оскорбит тебя, сказав, что кулачный бой – мужичья забава, и что сам ты – мужик. Тогда тебе придётся либо проглотить оскорбление, либо драться с ним на саблях. А что такое сабля в руках Быковского, ты знаешь не хуже меня.
– А честь? – грозно насупился Малиновский.
– О чести можно говорить, когда ты сам услышишь, как Быковский распускает гнусные сплетни о моей семье. Тогда я первый обнажу клинок, и будь что будет. Пока же это лишь твоя догадка. Затеяв ссору без доказательств, ты сам будешь выглядеть клеветником, а когда Быковский тебя убьет, ты не сможешь даже оправдаться.
– Перед Господом мне оправдываться не придётся, – возразил пан Тадеуш. – Он всё видит…
– И он один без греха, – мягко напомнил пан Анджей. – А вдруг ты ошибаешься? Больше всего я боюсь, – признался он, – что эти сплетни дойдут до Станислава.
– О, да, – начал пан Тадеуш и осёкся, с удивлением и недовольством воззрившись на лакея, который без стука ввалился в столовую и остановился на пороге, тяжело дыша и дико тараща глаза.
– Беда, ясновельможный пан! – не вдруг отыскав взглядом сидевшего на непривычном месте, сбоку от стола, а не во главе его, пана Анджея, выпалил он. – Молодой господин обезумел, хочет убить московита!
Шляхтичи разом вскочили, с грохотом опрокинув тяжелые стулья.
– Где?! – вопросил пан Анджей.
– На заднем дворе, у конюшни, – отвечал холоп.
Оттолкнув его, пан Закревский опрометью выбежал из столовой.
– Видно, не зря ты боялся, – пробормотал пан Тадеуш Малиновский, хватая свою пыльную шапку и устремляясь за хозяином.