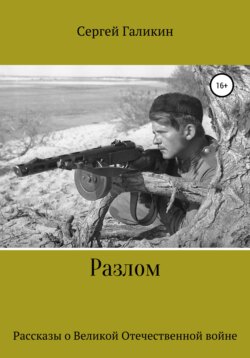Читать книгу Разлом - Сергей Николаевич Галикин - Страница 1
ОглавлениеРассказ
«… Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941 – 1942 годах, когда наша армия отступала, покидая родные нам села и города, покидая потому, что не было другого выхода.
Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.»
И.В. Сталин, «Тост Победы
Эпилог
Темной до непрогляда мартовской ночью, когда пологие зеленеющие берега спящей пока еще реки уже томно туманятся по утрам, достаточно прогретые теплыми солнечными ливнями, когда сочно набухают, готовые вот-вот лопнуть, почки молодых прибрежных ивняков и когда грозно уже гудит в своих глубинах древний Дон под посеревшим и защербатившимся льдом, еще достаточно толстым посреди реки, но уже растворившимся по темным закраинам, раздастся вдруг где-то в ночной темени глухой и страшный удар, переходящий в низкий гул. Возникший где-то вдали, выше по течению, многократным эхом пронесется он по речной пойме, по ровному, еще заснеженному ледяному зеркалу, по окрестным займищам и прибрежным лескам, медленно уходя, раскатно удаляясь в туманные низовья.
Это река, повинуясь своему вековечному закону пробуждения, взламывает тяжело сковавший ее ледовый панцирь, разорвав его твердь глубоким разломом где-то над самыми бурными своими быстринами.
Разлом этот тут же заполняется быстрой донской бирюзовой струей, он ширится, грохоча и отрывая от монолитной еще вчера тверди сперва небольшие, угловатые куски, которые тут же подхватываются неумолимым течением и несутся вниз, кроша ломкие берега образовавшейся промоины, быстро расширяя ледовое русло и вот уже с канонадным грохотом пошел по реке, вздымая как пушинки, громадные ледяные крыги, ледоход – и уж никакие силы небесные и никакие силы земные не смогут уже остановить, сковать, закабалить вновь ледовыми оковами стремительно мчащееся по течению грохочущее крошево.
Часть первая
Еще когда торопливо окапывались, обильно исходя терпким солдатским потом и негромко перебрасываясь редкими разговорами, разогнулся дядя Митя, укладывая желтоватый дерн на узкий бруствер неглубокого своего окопчика, оттер замусоленным рукавом гимнастерки катящиеся со лба теплые солоноватые потоки, оглянулся вокруг и, слегка сощурившись, всмотрелся в мерцающую голубоватую низину, на восток от позиции.
–Гляди-ка, Гриша, в-о-о-н где ноне командиры-то наши закапываются… Почитай, что на версту позади от нас.
–А это, чтоб тикать сподручнее было! Ихнего брата немчура, в случай чего, на месте и… кончает, – Гришка, молодой, но уже успевший обзавестись семьей парень, ихний, хуторской, медленно выпрямился и с ожесточением воткнул саперную лопатку в сухую комковатую глину, – а Саакяну, так и вовсе, беда. А комиссару что светит? У фрица ж все мы делимся на русаков и жидов, дядя Митя. Других для него просто нет. Тех за колючку, тех в расход.
Дядя Митя, переведя дух, с мрачным лицом всмотрелся в Гришку:
–В случае… чего, Гриня?
–А ты откеля знаешь, был в плену, штоль? Дай махры малость, – подошел низкорослый коренастый Игнатка, тоже ихний, хуторской.
–Я – то не был, миловал пока Бог, сам знаешь. А вот во второй роте есть такой Фома, из шахтеров, ну, мышастый такой, редкоусый, так тот бы-ыл. Рассказывал как-то. Говорит, когда их забрали, то он, фриц, то есть, построил всех, чернявых-кучерявых вывел – юде, мол! Те божатся, не юде мы! – а он рази ж слышит? К стенке и в расход!
–Р-разговоры! Сухоруков! – комвзвода, нахмурившись, спрыгнул в окоп. Его посеревшее и исхудавшее за последние дни непрерывного марша широкоскулое лицо было сумрачным, легшая по широкому крестьянскому лбу морщина и заострившийся нос придавали ему суровую зрелость и только живо блестевшие глаза да легкий пушок на подбородке вместо мужицкой жесткой щетины выдавали в нем еще раннюю молодость.
–Так мы это… Ить… Готово, товарищ лейтенант. Можно, значится так, и курнуть малость, – дядя Митя попробовал добродушно улыбнуться, – фрицем вот, пока и… не пахнет!
Взводный молча похлопал темной ладонью уложенные комья глины с дерном и, поведя взглядом, тоже задумчиво всмотрелся в окапывающийся далеко позади комсостав полка. С запада тихий горячий полуденный ветерок гнал по бело-синему небу редкие легкие облака, юркие стрижи вились поодаль над откосным суглинистым берегом по-летнему пересыхающей степной речушки.
Установилась необычная для последних дней оборонительных боев тишина.
–Тихо-то как… Будто бы и войны-то нет, – мечтательно закрыл глаза Николай Астахов, молодой, смуглолицый чернявый парень, то же из хуторских, только пришлый.
–Впереди, видать, все… Вот и не громыхает. Тихо идет немец, обороны нет.
–Война-то, она конечно, еще пока… есть… Товарищ лейтенант, – беспокойно озираясь тихо проговорил Гришка, -а вот фронт… есть ли ишо? Нехорошая это тишина.
–Ты эти думки гони прочь, Козицын! У нас тут вот приказ держать оборону. А где они, те фронты – не нашего ума дело!
– И ни тебе кухни, ни воды… Как те сироты казанские! –зло сверкнув глазами, сплюнул Игнатка, – пойти до дому пожрать, што ли? Тут уж и рукой подать… До дому-то!
–Тебе до дому пока никак нельзя, Игнат, – дядя Митя, с прищуром осматривая даль, усмехнулся в седоватые усы, – от тебя твоя Зинка и мокрого места не оставит. Голодная до мужика баба, она ить похужей фашиста будет!
Раздался дружный смех. Скупо улыбнулся и лейтенант:
–Никому с позиции не отлучаться! Я пока схожу к комбату, узнаю, что к чему.
Поснимав мокрые пропотевшие гимнастерки, расстелили их сушить на солнцепеке. Пустили по кругу чью-то флягу с остатками воды. Сбоку и сзади окапывались так же торопливо другие роты их сильно поредевшего за последние дни полка.
Солнце уже томно клонилось к западу, когда откуда-то снизу, с прибрежных суходолов, донесся рыкающий нарастающий гул многих моторов, на горизонте задымилась пыльная круговерть, гонимая боковым ветром в пустую, с поникшими пожелтевшими займищами сухого пырея, степь. Взводный поднял бинокль, и, щурясь от солнца, стал сосредоточенно всматриваться вдаль. Гришка, еще голый по пояс, выпрыгнул из окопчика, встал во весь рост, сдернул разношенную выгоревшую пилотку, тоже сощурился, приложив почерневшую ладонь ко лбу:
–Наши! Наши танки прут, я и так вижу. Тридцатьчетверки. Э-эх! Наконец-то!..
Взводный угрюмо молчит, только слегка шевелятся тонкие растрескавшиеся губы:
–Двенадцать, тринадцать…, четырнадцать. Все, кажется.
Он оборачивается к бойцам и глухо, с болью и обидой негромко падают его тихие слова:
–Были они… Эти танки… Были наши… Пока фриц им на башни… свой паршивый крест… не нарисовал, – и дает бинокль Гришке, – полюбуйся на них теперь.
Гришка, разинув рот, молчит, долго смотрит в окуляры, потом у него срывается:
–А ну, как повернут… на нас? Чем отбиваться-то, прикладами, штоль? Ни гранат, ни бутылок…
–Да на кой мы им нужны, не повернут, – дядя Митя спокойно перематывает прелую порыжевшую портянку, – это навряд. Без пехоты не полезут они. Не дураки ить… Они ить нынче к Волге поспешают…
Танковая колонна, состоящая из трех «тридцатьчетверок» с крупными черно-белыми крестами на башнях-гайках, шедших впереди и одиннадцати легких немецких танков, направлялась по дороге у подножия приземистого степного кургана, мимо позиций полка, расположившихся на западном его склоне и хорошо видимых с дороги.
Вскоре она, ревя моторами и лязгая сверкающими гусеницами, в тучах желтоватой пыли, поравнялась, а затем и мирно миновала курган. Немецкие танкисты в черных круглых танкошлемах , тоже по пояс голые, высунувшись из люков, хохоча и горланя песни, махали нашим бойцам руками. Красноармейцы, высыпав из укрытий, растерянно смотрели вслед быстро удаляющейся колонне.
В небе очень высоко завис самолет-корректировщик, лейтенант, перекрикивая соседних взводных, зычно дал команду:
–Взво-од! Слу-у-ушай мою команду-у-у!! В укрытие! – и, уже юркнув в окопчик, искоса оглядывая небо, вполголоса добавил:
–Этот может и зайти – поздороваться…
Бойцы, рассредоточившись по ячейкам, быстро напяливая сухие гимнастерки, негромко, между собой переговаривались:
–Наши-то, танки, наперед выставили… Как издеваются. С-суки!
–У наших броня потолще. Немец энто любит.
–На Сталинград прут, небось. А мы тута теперь, как сбоку припека.
–Ничего, стемнеет, снимемся и пойдем.
–Куда? Куда ты пойдешь, сиротка?! Немца догонять, так не догонишь, пехом-то…
–Да-а-а. Окружает гад.
«Рама» летала не зря.
Минут через десять раскаленный нещадным июльским солнцем послеполуденный воздух вдруг наполнился тяжелым воем снарядных корпусов, вздрогнула и стала дыбом земля чуть впереди ломкой линии ячеек и неглубоких окопов, заволокло все вокруг гарью и едким горячим духом пироксилина. Гришка, поджавши колени и втянув голову в плечи, сжался – дальше некуда! – калачиком в узком окопчике, зажмурив глаза и до хруста сцепив зубы, никак не мог застегнуть мотузок каски, а потом, когда крупные комья сухой глины, разом оглушив, полузасыпали его, судорожно сжал трясущимися ладонями и саму горячую каску, пытаясь таким образом прикрыть голову и исступленно бормоча что-то бессвязное… Дядя Митя, пересидев так же в окопе первую волну артналета, поверил было вдруг наступившей тишине, все шарил по окопчику и не находил винтовку, а потом высунулся так, самую малость, отряхиваясь от едкой глинистой пыляки, и тут сверкнуло у него перед самыми глазами опять, сорвало с головы и покатило по траве каску, померк перед глазами белый свет и тяжело ссунулся он на дно укрытия мешком, ухватившись за лицо обеими ладонями и уже проваливаясь в небытие.
Это по высотке, по засеченным позициям их полка стали бить немецкие шестиствольные минометы и ад, вырвавшись из разверзшейся земной тверди, весело запрыгал по кургану частыми всполохами разрывов и безжалостно хохоча пронзительным воем от все налетавших и налетавших мин. От удаленной позиции, позади кургана, где находились командир их полка, начштаба и комиссар, сорвалась вдруг полуторка и, поднимая пыльный шлейф, быстро полетела в степь, подскакивая на желтоватых сурчинах и быстро удаляясь.
Напрочь оглушенный Игнатка, порой истово крестясь и по-детски всхлипывая, то матерясь последними словами, то замолкая, сцепив зубы, изредка открывал присыпанные глиной глаза, но в кромешной темноте и полной дикой тишине ослепительно сверкали только над ним, контуженным, частые вспышки разрывов, пробиваясь сквозь черные косматые дымы. Наконец, крупный кусок дерна тяжело шибонул откуда-то сбоку по каске и он, упав на дно окопа, потерял сознание.
Тяжелый едучий дым медленно расходился к подножию высоты почти в полном безветрии. Вокруг стонали раненые, кто-то по-бабьи причитал, сидя и отупело раскачиваясь над убитым товарищем.
Гришка в изодранной гимнастерке на корточках сидел над комвзвода, лежащим навзничь и почти засыпанным сухой землей, осторожно разгребая и продувая его лицо от глиняной пыли. Вдруг тот разомкнул почерневшие растрескавшиеся губы и слабо закашлялся, открыл широко и часто заморгал глазами. Сел. Гришка тут же поднес к губам ему флягу.
–У-у-ух!! Контузия! А я уж подумал…– Гришка попробовал улыбнуться. Лейтенант поднял голову, мутными, непонимающими глазами обвел вокруг. Из обеих ушей его рудыми потоками шла кровь.
А снизу, не спеша, осторожно обходя частые дымящиеся воронки, подымались, держа лошадей шагом, три всадника в непривычных черных мерлушковых папахах. Уцелевшие красноармейцы, окровавленные, в разорванных гимнастерках, шатаясь и отхаркиваясь, молча сходились и сползались к сидящему на земле комвзвода. Винтовок почти ни у кого не было.
Курган дымился, как кратер вулкана. Невдалеке молоденький боец с белым, как мел лицом в полусознании ползал по кругу, подтягиваясь с силой на руках, а обе ноги кроваво и страшно волочились на одних штанинах следом. Он, то по-бабьи всхлипывал, то начинал исступленно и хрипло выкрикивать какие-то слова. Наконец, голова его обвисла и он, судорожно дернувшись, затих, завалившись набок.
Дядя Митя полз на четвереньках, часто останавливаясь и осторожно прощупывая ладонью перед собой выжженную траву:
–Хлопцы, где ж вы, хлопцы, не бачу… Где ж вы, хлопцы… Не бачу я, хлопцы. Не бросайте мене, хлопцы…
Из его плотно сжатых дрожащих век обильно текли, грязно расходясь по впалым небритым щекам, слезы.
Конные, по виду, как казаки, держа карабины на весу, подъехали уже почти вплотную.
Бойцы, окружив сидящего взводного, настороженно, исподлобья, молча разглядывали их, а Гришка, заметив на одном из них выпирающую из-под новенькой бурки немецкую полевую форму, угол кармана с нашитой свастикой, слегка прикрыв собой взводного, ловко, одним махом отодрал с его гимнастерки петлицы с кубарями и незаметно опустил их себе в сапог.
–Э-эй! Бо-со-т-та-а! Старшой-то… тут хто есть?! – окликнул один из конных сытым низким басом, проницательно вглядываясь в темные посеревшие лица красноармейцев, – я спрашиваю: кто из вас есть стар-шой? – раздельно еще раз спросил командирским голосом казак.
–А вы-то кто будете? С виду, как вроде… наши, а так…– выступив немного вперед, сплюнув, недоверчиво обозвался, немного придя в себя, Игнатка.
–И ты, куча навозная, иш-шо будешь тут вопрос-сы задавать! – молодой казачок, криво ухмыльнувшись, поднял карабин, но старший, казак средних лет, положа ладонь на ствол, зычно дал команду:
–Вста-ать! А ну!! Сходись строиться! Ходячие какие – становись в строй, с-сукины дети!
По всему кургану конные собирали мелкие группы красноармейцев и, подгоняя плетками, сгоняли их вниз, к дороге. То тут, то там раздавались удары карабинов, это казаки равнодушно добивали лежачих тяжелораненых.
Пересчитав, не сходя с коня, зажатой в руке плетью пленных, седоватый казак с густыми отвислыми усами подъехал к другому, такому же седому, с красивым лицом школьного учителя, в бурке и немецкой офицерской фуражке и, козырнув не по-нашему, двумя пальцами, бодро доложил:
–Господин есаул! Военнопленные Красной Армии в количестве сто сорок три человека для марша построены!
Есаул, проезжая неспешно вдоль строя, пристально всматривался в сумрачные запыленные лица пленных, словно ища знакомых. Наконец он, слегка натянул поводья и, поправив фуражку, чуть привстал на стременах:
–Есть ли кто из вас из казаков донских али кубанских?! Ежели есть… Таковые – выходи! Али все вы – мужики иногородние?
Красноармейцы, недоуменно переглядываясь, молчали. Из задних рядов послышался шумок и двое пожилых вышли нерешительно вперед, комкая в руках пилотки и опустив головы.
–Откеля вы будете, станишники?
–Станицы Еланской… мы, мобилизованные, – негромко сказал один.
–В Красной Армии давно?
–Кубыть, две недели, будет…
Есаул, слегка улыбнувшись, привстал на стременах, поднял голову и закричал зычно и с гонором:
–Вместе с победоносными германскими войсками боремся с большевизмом и мы –доблестные казаки Всевеликого Войска Донского! И ведет нас за собой в энтой борьбе генерал Петро Николаич Краснов! Слыхали про такового? Не забыли иш-шо?! – он надменно заулыбался и чуть тише продолжал:
–Ежели есть кто… желающие поступить в наши ряды, как из казаков, так и прочие, из мужиков, ибо нам нужны и пехота, и артиллерия, а ну – выходи из рядов! – и, уже помягче добавил:
–Добьем краснопуз-з-ых и заживе-е-ем, станишники, на Дону-батюшке –эх, вольно! Проехав еще раз вдоль строя, крикнул опять:
–Смелее, ну! Обмундировка, порцион и прочее довольствие – как и у немцев! – он помолчал и, как о чем –то вспомнив, усмехнувшись, добавил:
–Да! Остальные через два часа уже будете сидеть в лагере, за колючкой, без крыши над головой и без жратвы! Срать под себя! Тифа и смертушки дожидаться! Так что, думайте, мужички! Крепко думайте!
Пленные угрюмо молчали. Гришка, поддерживая ослабевшего взводного, видел, как шевельнулась шеренга и несмело отошли в сторону еще несколько человек. Он пристально вглядывался, силясь найти знакомых, но со спины выглядели все одинаково: мокрые от пота изорванные гимнастерки да понуро опущенные плечи. Он повернул голову и встретился глазами с Игнаткой. Тот слегка покачал головой. Он держал рукой дядю Митю, всхлипывающего и склонившегося от рези в слезящихся глазах.
–Ну что же… Хм… Пятнадцать штыков. И на том спасибочки! – есаул повернул голову к казакам:
–Хорунжий Стрепетов! Отконвоировать пленных к месту содержания! На подох!
Потом довольным взглядом окинул жиденькую шеренгу:
–Добровольцы-молодцы! Нале-во! Походным ма-а-арш! – и, еще раз обернувшись к пленным, сквозь зубы процедил:
–Скатки свои… соберите! Там для вас, собак, кроватев не предусмотрено!..
И когда шеренга повернулась налево, узнали Гришка с Игнатом, да и другие хуторские, стоящего третьим с хвоста и, разинув рты, отшатнулись: потупив взгляд с сумрачным напряженным лицом, каменно глядя прямо перед собой, прошел мимо них служить немцам ихний, хуторской, хоть и пришлый, Николай Астахов.
Часть вторая
Рыжий Дунькин кот лениво развалился на широкой колодезной щербатой крышке, мирно наслаждаясь щедрым теплом поднявшегося уж почти под зенит солнышка, разомлел, отогреваясь после первого зоревого сентябрьского колкого заморозка. Тихо на хуторе Терновом, ни ветерка, ни звука. Медленно плывут над ним в безмятежной сини редкие беловатые облака, где-то каркают изредка невидимые вороны да обозвется вдруг задремавший на плетне старый Маруськин петух, раскроет клюв, недовольно расквохчется было на крик, да, разомкнув, наконец, и красноватое свое веко, поймет, старина, что полдень уж на белом свете, да тут же и запнется, не успев возвыситься, заливистый петушиный роскрик, опять сомкнутся петушиные веки и снова установится вокруг сонная мирная тишь.
Да он и сам, хуторок-то, одна кривая, увитая разляпистыми абрикосами да старыми акациями пыльная улочка, спускающаяся к неглубокой тихой речушке. А там – небольшая склизская старая деревянная кладка, бабам белье полоскать, да мальчишкам летом купаться. Но теперь, уж после Ильи, и на речке – не видать никого. Только изредка лениво поквакивают где-то в камышах глупые полусонные лягухи.
Маруське Астаховой скучно дома одной. То хоть Тишка, поколачивая по заборам неизменной своей палочкой, любовно выструганной им из дубовой ветки, бродил по пустой улице. То там засмеется, то с тем заговорит. Говор у него был невнятный, но разобрать-то при случае можно… Слабоумный был, но добрый, ласковый, встречным всегда улыбался и всем кланялся. Зла никому никогда не делал, ну, шутил безобидно порой, хуторяне его жалели, бабы подкармливали, кто чем мог, ребятишки по-своему любили. Откуда он прибрел на хутор, никто не знал, пристроили его на постой к старому, овдовевшему прошлой осенью, Аникеичу.
Но когда уже фронт, где-то в стороне угрюмо отгремев да отсверкав, как та гроза по июльским ночам, откатился далеко на восток, ехали как-то раз вечером на мотоцикле по пустынной пыльной улице невиданные еще ни разу в этих глухих краях немцы. Пьяные и веселые, с песнями, играли на губной гармонике. Обнаружив в конце прохладной абрикосовой аллеи дыбящийся журавель хуторского колодца, вдруг остановились, видимо, решив освежиться холодной водицей. Сняв горячие запыленные каски, автоматы, ранцы и прочую амуницию, беззаботно хохоча и гортанно подшучивая над одним из своих, самым молодым, вихрастым да белоголовым, с еще полудетским чистым лицом, долго они тут обливались ледяной родниковой водичкой.
А из всех укромных мест, из желтеющих терновых кустов, из зарослей широких перезревших лопухов, из-за задернутых занавесок да полузакрытых дверей и ставен робко и с любопытством наблюдали за чужаками десятки пар настороженных хуторянских глаз. А Тишка, так же как и всегда, весело смеясь, приплясывая да кривляясь, уже подходил к чужакам. Те сразу, добродушно что-то горланя, окружили его, юродивого, посмеиваясь и приятельски похлопывая по плечам. Один, постарше, протянув ему сигарету, пытался что-то выяснить, настойчиво спрашивая Тишу на чужом противном языке и широко жестикулируя. Но тот только глупо улыбался, да кланялся истово в пояс, вызывая у пришельцев все новые взрывы хохота. Наконец, старший дал команду, мотоцикл завелся, немцы вскочили по местам, на ходу напяливая свои камуфлированные каски да ранцы, продолжая смеяться и шутить… Тишка же, напротив, опустив устало руки, поднял подбородок с редким пушком, стал каким-то пасмурным и строгим.
Мотоцикл резко дернулся и заглох. Рулевой немец, не сходя с седла, озабоченно скривив тонкие губы, снова сильно крутанул ногой заводную лапку. Мотор опять взревел, опять дернулся и снова заглох немецкий мотоцикл! Старший, с ругательствами выпрыгнув из коляски, стал злобно орать на водителя, а тот, несмело огрызаясь, тоже вскочил и нагнулся над мотором. Но тут другой, молоденький, что сидел на заднем седле, белобрысый да вихрастый, усмехнулся и легонько толкнул водителя в плечо, взглядом показывая на заднее колесо.
Там, между слегка погнутых толстых спиц, торчала Тишкина, любовно струганная дубовая палочка, знакомая всему хутору. Сам же Тишка вдруг весело расхохотался, схватившись картинно за живот, приплясывая и истово кривляясь.
Немец со злостью вырвал из колеса и отшвырнул палку в придорожные кусты. Широко расставив ноги и уперев волосатые руки в бока, свысока, хмуро исподлобья уставился на этого издевающегося над ними русского. Лицо его помрачнело и стало багровым. Сдернув со спины автомат, дал с пяти шагов короткую очередь. Тишку отшвырнуло на спину и он какое-то время еще судорожно бил ногами по дороге, поднимая серую пыль и загребая ее руками.
Когда же за мотоциклом улеглось пыльное марево и стих, удаляясь, стрекот мотора, осмелевшие хуторяне бросились к нему, но Тишка уже отходил, лишь мелко подрагивали его посиневшие губы, да широко распахнутые тускнеющие глаза задумчиво и неподвижно устремились в мирное летнее небо. Две кровавые кляксы грязно растекались по груди на замусоленной изношенной его рубахе.
Тишу, безродного, не имевшего на хуторе никакой родни, в тот же вечер похоронили всем немногочисленным миром, бабы да девки жалобно и протяжно тужили, старики, скорбно сомкнув губы, молчали. Перекрестил трижды дедушка Митроха небольшой его свежий крестик, да и тихо разошлись…
Так в мирную жизнь маленького хуторка, потерявшегося в широкой старой балке верхнего Задонья, над тихой безымянной речушкой, в стороне от больших дорог, грубо и кроваво вошла та война. До этого случая только раз, теплой весной, взорвалась вдруг хуторская полуденная тишина истовым криком Марфуши, получившей на своего мужика из-под Харькова похоронку.
Обхватив дрожащими руками трех своих малых детишек, уткнувшись лицом в их золотистые головки, долго и тоскливо, одиноко выла она, сонно раскачиваясь и порой подымая в пустое белое майское небо мутные глаза свои, сидя на том самом месте, где и застала ее горестная весть, на скамейке, любовно сбитой и покрашенной покойным теперь уже ее мужем за год до войны. Собрались соседки и, рассевшись вдоль забора, тоже тихо скорбили, изредка всхлипывая и тяжко вздыхая – почитай, у всех были в армии родные. Потом незаметно разошлись.
А Марфуша, простоволосая, со сбившимся на плечи платком, до самой тихой вечерней зорьки все выла и выла, то срываясь тонко в голос, а то, мелко дрожа плечами, затихая над тремя соломенного цвета головками.
Больше немцев в хуторе никто не видел. Только один раз в конце лета пролетел низко-низко большой серый самолет с черными крестами на крыльях, метнул наискосок через усыпанную падающими яблоками улицу широкую раслапистую тень и быстро ушел на север.
-Маруся-я-я!! Иди сюда, че скажу-у! – звонко кричит через плетень Дунька, соседка Маруси, тоже солдатка. Только у нее уж детишек двое, погодки-пацаны. А вот Маруся со своим Николаем, в сороковом году поженившись, так и не обзавелись детками, не дал пока Бог. Может, потом, после… Как вернется?
Хуторские ее Николая малость сторонились, ходили о нем поначалу, как появился он на хуторе, слухи разные: что детдомовский, мол, что и отсидел уж, что родом из каргинских казаков, а родителей поубивало давно, еще во время «того восстания»… А Маруське-то что? Девка! Красивый, чернявый, механизатором в МТС, работящий и ее всем сердцем любит! Уж она-то чувствует! А на гармошке как играет! Душевно! Как ни отговаривала ее мать – все ж пошла она за Николеньку!
И сколько раз потом ни заводила речь с ним про его прошлое, про родителей – все как-то Коля, то отшутится, то рассердится:
–Што тебе моя родня, Машутка? Иль… Тебе с ней жить ?
И только раз как-то, на излете золотого октябрьского дня, когда непонятно кто и почему вычеркнул Николая из списка трактористов, награжденных по случаю высокого урожая, молча проходил он весь день мрачнее тучи, все переживал. Маша и так, и сяк ему всячески угождала, ластилась, как котенок и уж, когда спать легли, глухо вырвалось у него обидное:
–Ну, вот за что, а? Аль работал я хуже?.. Выработка у меня – не то, что у иных бездельников! А? Сталин же сказал как? «Сын за отца не в ответе!» А они… Да! Лютовал покойный батя во время восстания… Порубил в капусту, гуторят, красноармейцев много. Так, с него ж и спрос! Что ж я теперь, всю жисть буду… Иш-шо и внукам моим ответ держать? Али как?
Больше не проронил он ни слова. Отвернулся и затих. Но чувствовала Маша, что не спит Николай, что горькая обида холодной жабой гложет его сердце, серым камнем тяжело лежит на душе. На другой день, в выходной, угрюмо просидел он на крылечке, тоскливо наигрывая себе какие-то невеселые, тоскливые, как осенний дождик, мелодии. Вечером, уже в сумерках, пришел и подсел к нему на порожки дед Митроха, молча достал кисет, закурили. Тихо и неторопливо проговорили они до самой полуночи. Утром Николай, как ни в чем ни бывало, ушел в МТС.
…– Да иди ж ты сюды, ос-споди-и…– Дунька сочно шмыгнула носом и смахнула краем косынки слезу, невесть откуда накатившуюся, -че те скажу-то…
–Чего тебе? Я и… Коз не доила еще…– Маруся прислонилась к плетню, тревожно вглядываясь в лицо соседки.
– Да погоди ты, с козами! Тут такое… Слухай сюды: ты слыхала, дядя Митя Сухоруков дома уж? Ага! С фронта…, то-исть не с фронта,– тут Дунька опасливо оглянулась вокруг и, перейдя на полушепот, пригнувшись к самому Марусину уху, продолжала, – а с лагеря немецкого пришел! Пустили его, с плену-то! Там тетка Катька, эх, радая-то какая! Пришел, слава те, Гос-споди-и! Худой, как тросточка… Весь… Изранетый.
–Вот, радость-то, – Маруся задумчиво глядит в тоске поверх Дунькиной головы, – и что, немцы его отпустили?
– Ты слухай дальше, Маш-а-а! Че рассказывает-то дядя Митя-я-я! – певуче затараторила дальше Дунька, – говорит дядя Митя, наши хуторские, как забрали их прошлой осенью, так все гуртом и попали служить в одну часть-то! Все шесть человек! И мой Гришаня, и твой Колька, все вместе, поняла?
–Да, Коля зимой писал, что все они… Вместе. Там.
–Ага! И так же почти что все и в плен немецкий попали, смекаешь ты или не-ет?! Там они, Маруська, наши родненькие, там, в лагере, откуда и дядя Митя пришел! Бежим скорей, че скажет-то! Может, и видел их, знает че! С козами она!.. Бежим, Маруся! Ой, та й бежи-и-им же!
Дядя Митя, живой, худющий и пожелтевший, в одном чистом исподнем, сидит на скамейке, в тени, под ласково шелестящими старыми вишнями. Его глаза под густыми белесыми бровями полуприкрыты, и кажется, он дремлет. Черный сытый кот приветливо трется о босые, в язвах и сухих трещинах, ноги вернувшегося хозяина, радуется. Через полуоткрытую дверь веранды слышно, как в хате что-то шкварчит, оттуда кисловато пахнет зажаркой, видно, тетка Катька варит мужику борщ.
Дунька с Марусей, едва войдя в калитку, в нерешительности остановились.
– Значится так, девчата…, – голос дяди Мити, известного хуторского весельчака и балагура, заводилы всех попоек, глух и непривычен, веки же так и не подымаются:
– Што скажу… В Богдановке немчура лагерь заделали, Крученую балку… Они колючкой обнесли и нашего брата-красноармейца со всех краев нагнали… Народу та-ам… Кишма-кишит! Значится так, там они, ваши-то…
Он долго молчит, слабо шевелит губами, словно раздумывая над чем-то. Потом тихо продолжает:
–Вы на меня, девоньки, не смотрите… Я ж тут… слепой почти. Больно на белый свет глядеть-то, режет и все. Мина проклятая… Шваркнула перед глазами. А нас, значится так, -он слабо усмехнулся, качнув белой головой, – наш комсостав бросил, разбежался, вот и попали… В окружение. Забрали… Нас казачки. Не наши…, а… те. Не наши! А я сижу, сижу, под самой проволкой, смерти жду, а они идут-то, полицаи! А я не вижу же ничего… Тряпка на морде. Хоп! Слышу, кум мой, Федот Крынка из их, значится так, полицаевских рядов и кричит мне:
– Кумашок, мол, маленько потерпи, я тебя выручу!
Ить признал, выходит. И правда, через полчаса вывел он меня за проволку! Посадил на бричку, ну а сюда уже доставили добрые люди… Так во-от, Дуся, а твово Григория я еще вчерась видал, живой пока. И Гришка Бобыляк там же мается… И Карасев Жорка. А твоего Николая, Маруська, гм… гм… я как-то там и потерял из виду-то. Слепой же я теперя… почти! Но, в окружении были мы все гуртом. Там, наверное… Ежели не убитый. Гм… А нас же та-ам! Гос-споди, помилуй!.. Тыщи три, не меньше народу-то, за проволкой! Черви народ… едят!.. Мру-у-ут! Но тех, значится так, за какими бабы их приходють, тех полицаи пускають, если муж или сын чей… Отдають, ежели ты не партейный или там, комсостав…
Дунька и Маруся медленно пошли молча обратно по тропинке. Сзади догнал их низкий мужичий голос тети Кати:
–Поспешайте, ой, поспешайте ж, девоньки-и! Там мор идее-е-т, мрут они, родненькие, как те мухи. Тока, сказывал мой Митяй, возьмите, ежели есть, какое золото, ну, там, колечки, сережки какие… Кумашок-то наш, Федотик, сволочь такая, падкий оказался на энти дела!.. Старшой полицай он теперя… И немчуре, бабоньки, меньше на глаза попадайтесь, платки пониже опустите… Как мужиков-то приведете, старайтесь в хутор-то после захода солнца попасть. Разденьте вы их, девоньки, на кладке догола, суньте в руку кусок мыла зеленого, пускай ныряют да хорошенько моются! Одежку, какая на их ни есть – сжечь тут же на бережку дотла! А им припасите вы все чистое… Сыпняк, будь он неладный, в лагере, как в Гражданскую, пошел, бабоньки-и-и, такая вот напасть… Храни вас Господь!
Часть третья
К «трехзвездочному» Курт привык еще с польской кампании, когда служил в полевых «СС». До того рокового ранения на реке Шелонь, у разбитого русского поселка Закибье, когда угрюмый полевой хирург в горячке едва не оттяпал ему правую ногу повыше колена. Но здесь, в охранных войсках, такую выпивку достать очень нелегко и поэтому многие офицеры давно уже перешли на трофейную водку. И всегда в достатке, и берет за живое.
Когда-то, покойный теперь уже, его первый командир унтерштурмфюрер Браун, то ли просто, свихнувшись, то ли изрядно перебрав этого зверского напитка, орал на всю передовую, что никто и никогда не победит народ, который хлещет водку ведрами! Э-эх! Старина Браун… Давно уж сгнил ты в русском болоте. Дважды пришлось его хоронить. В тот злополучный день, когда неистовые атаки пехоты противника до самой темноты чередовались с адскими артналетами, они сперва неглубоко прикопали всех убитых позади позиций. Потом, под напором подошедшей «Сталинской дивизии», пришлось отойти и братская могила, где упокоился и Браун, оказалась на нейтральной полосе. Через пару часов вдруг запели «Сталинские органы» и земля встала на дыбы как раз там, где и была их могила… Трупы снова, уже в кромешной темноте, пришлось по кускам собирать вновь. Сбросили впопыхах в огромную воронку от «чемодана», немного прикопали жидкой болотной хлябью. Наутро над ней сомкнулось чертово вонючее болото. Вот и все.
А потом пришла долгая и зверски холодная русская зима. Противник почти не атаковал, вел лишь вялый обстрел. К нему привыкли. На войне быстро ко всему привыкаешь. Пленные вырыли несколько землянок и только там, обложившись прелой, воняющей мышами соломой, и можно было согреться в адские морозы под пятьдесят градусов. Одно отделение так и сгорело заживо в такой же землянке, причем до утра никто и не догадался об этом. Только на заре из черного дымящегося провала извлекли девять обугленных трупов. Немцы вперемежку с пленными русскими. Черт подери, в Польше, чтобы немного забыться, давали хотя бы перветин, да разве сравнишь ту кампанию с этой мясорубкой?!
Курт отвернулся к стене, пытаясь заснуть. Но сон не приходил. Здесь, в проклятой России, даже в глубоком тылу, даже надравшись до поросячьего визга, никогда не уснешь здоровым крепким сном. Он повернулся на спину и, не мигая, задумчиво уставился в дощатый грубый потолок душной времянки.
Проклятая война… Как ты уже вымотала всех, и немцев и русских то же. Когда же ты теперь закончишься?
Господи, а ведь все это когда-то так безобидно начиналось! Но – когда? «Клянусь Тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Рейха, в верности и храбрости!.. Да поможет мне Бог!» Может быть с того дня присяги, когда он, семнадцатилетний паренек, обуреваемый мальчишеским задором и всеобщим народным подъемом, записался в «СС»? «Один народ, одна идея, один фюрер!» Или с той бранденбургской зимы, дождливой, теплой и такой короткой, с лагеря Дахау, в котором и, собственно, родилась, как соединение, их дивизия «Мертвая голова»? Боже мой! И где же теперь большинство тех безусых, наивных, шаловливых мальчишек из его взвода, которых угрюмый старшина Петерайт насмешливо называл «гороховым супом» – толку мало, а вони много?
«Разница между нами лишь в том, что ты видишь картошку сверху, а я – уже снизу!» – беззвучно прошипел, войдя однажды из своего небытия в его беспокойный фронтовой сон покойный старина Браун.
Раздался слабый шорох и негромкий стук в дверь. Так стучит только интеллигент Шредель, робко, ненастойчиво, предварительно слегка шаркнув в коридоре сапогом.
–Входи, Артур! Открыто.
Артур молча присаживается на грубо сколоченный табурет, тоскливо глядя в узкое окно. Там, в безбрежной тоске знойной донской степи гомонящим тысячами голосов табором раскинулся наспех обустроенный лагерь военнопленных. Собственно, лагерем, как Заксенхаузен или Дахау, это назвать трудно: широкая, со скифских времен, сухая балка, добела выгоревшая на безжалостно палящем солнце, обтянута двумя рядами колючей проволоки да пара невысоких вышек под дощатыми навесами. Сбоку небольшой барак для охраны да сарайчик для служебных собак. «Временно, все в этом мире, друг мой, временно… И только смерть безжалостно вечна!»
–Ты знаешь, Артур, мне кажется, зря фюрер запретил в Рейхе нашего доброго старикашку Гейне, – прерывает неловкую тишину Курт, поднимая тяжелую голову и садясь на лежаке, усердно копаясь в боковом кармане кителя, – у тебя ведь сегодня «Юно»? Угости, мои закончились… Генрих, как никто другой, мог передать любые чувства.
–Ну-у, наш Адольф много чего уже сделал совершенно зря… Например, как шкодливый козел, зря залез в чужой русский огород, – Артур протягивает сигарету товарищу и щелкает зажигалкой. Потом неторопливо закуривает и сам. Он еще какое-то время молчит, выпускает кольцами дым, словно раздумывая, с чего начать.
–Курт, плохие новости… У нас, кажется, начинается… сыпной тиф. Вчера еще были кое-какие сомнения, а у сегодняшних трупов налицо типичные признаки. Вчера погибло семнадцать… человек, сегодня их уже двадцать шесть. Кстати, их в этой пустыне нечем даже сжечь!
–Ч-черт возьми!.. Еще придется за них отвечать… Ты знаешь, Артур, меня вот на всем протяжении русской кампании не оставляет одна навязчивая мысль: зачем Рейху эти миллионы голодных советских пленных? Фюрер что, хочет, поморив их как следует голодом, бросить против Англии и Америки? Дикая мысль, но в ней, дорогой Артур, есть и рациональное зерно. Ведь еще год-полтора такой войны, и у Германии просто не останется своих солдат!
–Ты что! Перегрелся?– Артур слегка улыбнулся одними тонкими губами, – чтобы Иваны целыми армиями добровольно дрались за Рейх? Маловероятно, Курт!
Тот долго молчит, устало полуприкрыв глаза и ловко пуская кривые кольца сероватого сигаретного дыма. Улыбнулся чему-то своему:
–У меня ведь дядя Йозеф, ну, тот, из Тироля, я тебе уже не раз рассказывал о нем, заядлый охотник. Посещает все собачьи выставки. Покупает за очень большие деньги и щенков и уже готовых гончих псов. А знаешь, как он приручает купленных взрослых борзых? Да очень просто, Артур! Он вначале безжалостно морит их голодом, ну, так, недельки полторы, а потом лично, со своей руки, начинает понемногу подкармливать. И нет потом преданней псов! Забери у любого живого существа пищу, измори его голодом, а потом брось ему маленькую обглоданную кость – и это существо навек твое! Ты – для него спаситель! Голод – не тетка, как говорят сами русские.
–Пока это случится, старина, эти миллионы просто вымрут без еды и лекарств! А вообще, конечно, против Иванов эти мягкотелые томми никогда бы не устояли, это уж бесспорно. Видел я их в сороковом во Франции.
Курт, начальник лагеря, что-то вдруг вспомнив, сосредоточенно роется у себя в коричневом потертом портфеле, достает лист бумаги, озаглавленный черным хищным орлом с мелко набранным на печатной машинке текстом. Протягивает Артуру:
–Прочти. Это приказ командующего нашей шестой армии. Либерализм Паулюса иногда перехлестывает через край. Он просто гуманист какой-то! То ли дело, покойный старина Рейхенау! Виселицы и только виселицы при нем стояли от Варшавы и до Харькова. Сам фюрер стоял у его гроба…
Артур, не спеша и очень внимательно читает приказ. Его лицо светлеет, кажется, он не верит своим глазам, и он начинает негромко повторять вслух:
–« освобождать пленных, в первую очередь лиц украинской и других местных национальностей, рядовой и сержантский состав, за исключением состава, принадлежащего к ВКП(б) и еврейской национальности при условии их возвращения к крестьянскому или ремесленному труду под поручительство сельских старост…– он поднимает блестящие мигающие глаза, секунду смотрит на Курта и снова склоняется над бумагой: …-и полицейских. Указанное мероприятие охранным частям осуществить с соблюдением мер учета и предосторожности до начала сельскохозяйственных осенних посевных работ». Да-а-а…
–Я, дорогой Артур, вначале тоже не поверил своим глазам, -Курт, заметно прихрамывая, прошелся по комнате, налил из графина воды в стакан, постоял и поставил его на стол, – а потом стал думать. Оно ведь иногда полезно –пошевелить мозгами, пока их тебе не вышибла русская пуля… Во-первых, тут не Белоруссия, партизанить особо негде и по лесам они не разбегутся. Во-вторых, на дворе не сорок первый год и перед нами не морально устойчивая кадровая Красная Армия, погибшая еще до Днепра, а наспех сколоченные дивизии из местных крестьян среднего возраста и имеющих семьи, жен и детей, то есть, тяготеющих к дому. А дома надо эти сожженные поля уже сейчас вспахать и посеять, чтобы прокормить свои семьи, так? Так. В общем, освобожденный от неминуемой смерти на фронте и такой же гарантированной смерти в лагере, Иван никуда, кроме как к себе домой, к семье, не пойдет, даже под влиянием еврейского комиссара.
–Согласен. Пусть идут, кормят и себя и нас? Поля без пахарей Рейху не нужны?
–Не нужны, унтерштандартенфюрер. Но есть и еще один резон, и, наверное, самый главный.
Курт ловко притушил сигарету о край скамьи и задумчиво уставился в окно.
–Тот же мой престарелый дядюшка Йозеф не только прирожденный охотник, но он же и потомственный солдат! Кстати, генерал Артур Шмидт, твой тезка и заодно –начштаба нашей доблестной шестой армии, является его кузеном, да-да… И вот дядюшка-то как раз дрался с Иванами с четырнадцатого по семнадцатый год. Я после ранения на Шелони, будучи в отпуске, гостил у него неделю. И ты знаешь, Артур, что он мне сказал? – с легкой ироничной улыбкой на тонких губах гауптштурмфюрер подошел к запыленному окошку и пристально всмотрелся в копошащийся под августовским солнцем лагерь, – вы, говорит, никогда не одолеете Россию! И злобные, разъяренные Иваны, в конце-концов, заявятся в Рейх, если…– тут он сузил глубокие глаза и поднял вверх указательный палец, – вы не натравите, как следует, русских друг на друга! Победа возможна, если только сцепятся старая традиционная Россия, которая еще далеко не мертва, с новой, сталинской Россией! Идея на идею! Брат на брата! Сын на отца! Так же, как их стравил в свое время Вильгельм, выпустивший в Россию человека, искренне желавшего поражения своей стране, Ленина! Но, продолжал дядюшка Йозеф, если только Сталину удастся повернуть войну в русло войны отечественной, а не гражданской, объединив весь народ в борьбе с нами, все! Дело наше не стоит тухлого яйца и пьяные казаки опять рано или поздно припрутся в Берлин, прямо в пивную на Фридрихштрассе!