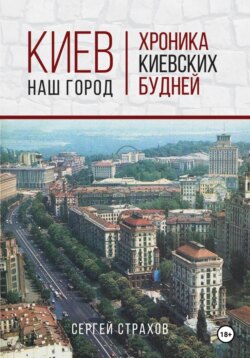Читать книгу Киев – наш город - Сергей Олегович Страхов - Страница 1
ОглавлениеГлава 1
Наш район усиленно расстраивается за счет прилегающих к городу сел Михайловская Борщаговка и Беличи. Сносится и застраивается частный сектор на Святошино – дома еще царской постройки, раньше бывшие загородными дачами, в отдельных местах сохранивших еще эти дачные и лесные названия: Первая просека, Вторая просека, Третья просека, Четвертая просека, Пятая просека. Вот на Четвертой просеке я и родился.
В этом месте, окруженном дубами в три обхвата, вековыми соснами и огромными киевскими каштанами стояла наша хибара – такая же деревянная бывшая дача постройки XIX века с резными филенками, разноцветными ставнями, ранее сдающаяся городским дачникам на лето. После того, как в прошлом веке произошел Октябрьский переворот, дачи у владельцев забрали, кое-кого, на всякий случай, расстреляли. Но хозяев этого дачного городка родовитых тетю Таню и дядю Колю, как их в этом поселении все называли, пожалели, и даже выделили две комнатки с отдельным входом в этом самом дачном комплексе, где они всю оставшуюся жизнь и прожили. Хорошие, спокойные, воспитанные люди. Моя мама их любила и уважала.
Как и всё у нас, неожиданно началась чудовищная война, и началась она не в нашу пользу. Немцы наступали, наши отступали. Через пару месяцев война вплотную приблизилась к Городу. Среди мирного населения началась паника. Первыми, естественно, начали тотальное бегство из города вглубь страны самые большие патриоты, партийные горлопаны и их обслуга. Опустели целые кварталы, в основном на Печерске. Липки, полностью заселенные семьями НКВДистов, стояли совершенно пустые. К тому же тринадцатого сентября пришел приказ о тотальной мобилизации. В этот день в армию забрали более двухсот тысяч мужчин. Город совсем опустел.
У защитников города были талантливые высокие и высшие командиры, которые молниеносно привели своих подчиненных к ужасной катастрофе, несмотря на героизм и самопожертвование рядовых красноармейцев и младших командиров.
Несмотря на фантастическую доблесть моряков Пинской флотилии и Киевского отряда, вынужденных затопить свои суда и сражавшихся, как голодные львы, на суше. Их освободители боялись больше всех остальных.
В боях в Голосеево, в Жулянах, Мышеловке, Гостомеле наши солдаты и матросы оказывали бешеное сопротивление освободителям от коммунизма. Видя, что в лоб город не взять, европейцы спокойно обошли его с юга и северо-востока. Кольцо окружения быстро сжималось.
И тогда решено было бросить город, оставив прикрывать свое бегство… ополченцев – штатских людей в возрасте и комсомольцев – практически детей. Теперь драпали главари защитников так, что побросали даже своих раненных в госпиталях, заведомо зная, что с ними произойдет.
А произошло вот что: Когда немцы заняли город, то в районе «шелкостроевской слободки», где стоял кпп на выезде из города, они набрели на госпиталь с раненными красноармейцами. Решили приспособить госпиталь для своих нужд. А что делать с его обитателями? Долго не думали. За госпиталем вырыли две большие канавы силами самих же раненных. В одну побросали тяжелых, да и забросали землей. Возле второй канавы построили более легких раненных и расстреляли. Даже не добивали – тоже забросали землей. Киевляне, проживающие тогда рядом, рассказывали, что там еще несколько дней шевелилась земля. Когда вернулись сбежавшие защитники города, то на месте этих канав построили жилой дом!
И захватчики, и вернувшиеся затем защитники так запугали местное население, что правду удалось узнать только через пятьдесят лет и то только тем, кто этим интересовался.
Во время Киевской операции в плен к фашистам попало около полумиллиона красноармейцев. Они умирали от голода, непосильной работы, издевательств и избиений в концентрационных лагерях на Керосинной; в Дарнице, где погибло не менее сто двадцати тысяч красноармейцев; на Сырце, где погибло двадцать пять тысяч наших солдат.
Справедливости ради заметим, что не все так быстро драпали от немцев. Героическая 5-я армия, под командованием генерала Потапова, погибала под Киевом в окружении, но продолжала сражаться до тех пор, пока немцы не вышли к самой Москве, а раненного генерала Потапова немцы взяли в плен.
Когда доблестная Красная армия отступила из Киева, то на произвол судьбы было оставлено и около четырехсот тысяч мирных граждан, не успевших эвакуироваться. Брошенными оказались те, кто не работал на важных предприятиях и не был квалифицированным рабочим выше третьего разряда, не являлся членом семей работников НКВД, ЦК, командного состава и партийных органов, не имел возможности выехать самостоятельно. Ведь советская пропаганда с утра до вечера трезвонила одурманенным людям, что Киев ни при каких обстоятельствах не сдадут – вот люди и досидели в городе до последнего, надеясь на доблестных защитников.
Эвакуация происходила на пяти железнодорожных станциях: «Дарница», «Киев-Пассажирский», «Киев-Московский», «Киев-Товарный», «Киев-Лукьяновка». Желающих уехать было много, но не все могли. На вокзалах было все оцеплено и функционировали специальные пропускные пункты. За ограждение пропускали только тех, у кого была бронь, в общей сложности выехали триста двадцать пять тысяч человек.
Правда, многие жители и сами не хотели выезжать из Киева, надеясь на манну небесную от новой немецкой власти. Им очень не повезло. Ведь вместо диких нецивилизованных коммунистов-тиранов в город вошли цивилизованные европейцы….
До войны наша семья проживала на Подоле. Потом европейские друзья в 1941 году наш дом разбомбили. 19 сентября 1941 года, немецкие войска заняли Киев.
Городская управа, наспех собранная из всевозможных предателей, садистов и шпионов, сжалилась над нашей семьей – погорельцами. Вместо разбомбленной квартиры бабушке с двумя дочерями – моей мамой и ее сестрой Тамарой – выделили квартиру на Евбазе, таком же старом Киевском районе, как и Подол. И на том спасибо.
Еды нет, воды нет, денег нет, туалет на улице, но для того чтобы попасть в него, нужно пройти через двор, кишащий голодными злобными крысами, размером с кошку. Питались одним лишь хлебом из каштанов. Управа распорядилась, чтобы жители собирали каштаны и сдавали их на хлебозаводы. Там из них делали хлеб, похожий на мыло, горький, рассыпавшийся, как только затвердеет, и выдавали его по талонам три раза в неделю по двести граммов. Такая вот жизнь. А выживать нужно.
Бабушка вышла замуж за полицая и перебралась к нему на Святошино, в одну из тех самых конфискованных у буржуев дач. Там был приусадебный участок и какая-никакая подкормёжка. Может, оно и неправильно и не патриотично, да и вообще, граничит с предательством. Кто знает? Кто может судить? Те, кто сбежали, бросив сотни тысяч солдат на погибель и столько же мирного населения на голодное вымирание? Я – не могу.
Когда вернулись сбежавшие защитники, то бабушку за это чуть не посадили, а полицая Гончаренко отправили в Сибирь, так как хоть человеком он был и неважным, но участия в карательных зверствах не принимал – все больше пьянствовал.
Полицай Гончаренко сразу же невзлюбил двух бабушкиных дочерей. Одну – мою маму – заставил сдать в детдом на Соломенке, организованный в период оккупации городской управой. А ее старшую сестру Тамару вообще выгнал из дому, не пустив даже на порог. Отправил обратно на Евбаз, в пустую квартиру. Бабушка была от него уже беременна и не особенно могла противиться.
Можно представить, что такое детдом в тяжелое военное время? Думаю, что и в послевоенное, и в совсем нетяжелое, жизнь там медом не казалась никому, да еще и для девочки, которой только-только сравнялось десять.… В детдоме кормили три раза в день: утром и вечером теплой водичкой коричневого цвета (отвар мелассы), а днем жиденьким кандером, и по кусочку эрзац-хлеба из каштанов. А весной, когда появилась первая крапива, варили зеленый борщ. И это было спасением от голодной смерти.
Мама никогда не рассказывала, как она пережила это время. Я некоторое время даже не знал о такой «страничке» в ее биографии, да, честно говоря, не особо и интересовался. А потом к нам как-то зашла в гости мамина старая подруга, бывшая в Киеве проездом. Мне, в ту пору подростку, совсем не хотелось сидеть за столом с непонятной теткой, которую я видел в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни. Но пришлось: такие вопросы у нас в семье не обсуждались – гости есть гости, и принять их надо как следует.
После пары рюмок мамина подруга, которую звали Катей, вдруг подперла щеку рукой и, уставившись на меня блестящими, немного пьяными глазами, сказала:
– А знаешь, Сереженька, что именно благодаря твоей маме я сейчас вот тут сижу?
Я ничего не понял, а мама нахмурилась.
– Что, она тебе ничего не рассказывала? – удивилась тетя Катя.
Я покачал головой.
– Хлеб у нас забрали, – сказала тетя Катя. – Пацаны. Они постарше были, и посильнее.… Ну и, понятное дело, жрать еще сильнее нас хотели. Мужики, они менее выносливые…
– Кать, не надо, – как мне показалось, сердито ска
зала мама Мужики, они менее выносливые…
Тетя Катя качнула головой:
– Нет, Зоя, надо. Плохо, что наши дети ничего о нас, своих родителях, не знают…
И, махнув рукой, продолжила. Перед моими глазами, как живая, встала картинка. Две девочки в одинаковых казенных платьях непонятного цвета – не то линяло-горчичного, не то грязно-серого. Одна – постарше, повыше, но – очень болезненного вида. Она постоянно кашляет и, вытираясь платком, испуганно заглядывает в него: кто-то сказал, что, возможно, у нее чахотка, и она до спазмов в животе боится увидеть на платке кровь. Вторая – поменьше, тоже очень худенькая, но более жилистая, чем подруга. Она постоянно хмурится.
На улице сумрачно. Девочки, прячась и ежесекундно оглядываясь, перебегают двор – от тени, отбрасываемой домом, в тень, отбрасываемую старым колодцем, оттуда – под старый скрипучий вяз с толстым стволом. Перемещаясь от тени к тени, они добираются до полуразрушенного сарайчика на противоположном конце двора и, еще раз оглядевшись, ныряют в дыру.
В сарайчик в свое время попала бомба и, разумеется, его никто не восстанавливал. Мало того, детдомовские боятся сюда лазить: есть поверье, что здесь «водятся» привидения – женщина с мальчиком, которые погибли в этом сарае в момент той самой бомбежки. Кое-кто даже утверждает, что видел этих призраков своими глазами: дородную женщину и худенького мальчика, которого она таскает за руку. Говорят, даже, что мальчик, как только увидит человека, начинает плакать и просить есть.
Но младшая девочка сделала именно здесь свой маленький тайник. Она прячет здесь неведомо, где найденные цветные стеклышки, два цветных лоскута, найденных здесь же, в этом подвале, и большую стеклянную бусину дымчато-голубого цвета. Бусину она захватила из дому – прямо перед тем, как ненавистный отчим взял ее за руку, чтобы везти сюда. Бусина напоминала о маме. Девочка некоторое время носила эту бусину на шее, но позже поняла: если она хочет ее сберечь – надо спрятать, а то старшие отнимут.
Сюда же, в этот тайник, которым она пользовалась уже более двух месяцев, она приносила и хлеб. Где она брала его – старшая девочка не знала, и боялась спросить. Она, эта старшая девочка, вообще была боязлива.
А тайна «лишнего хлеба» была проста: младшая обратила внимание, что работницы кухни вечерами выносят в сумках еду – даже при том скудном рационе, который полагался воспитанникам, они ухитрялись что-то стырить. «Отложенные на вынос» продукты складывались отдельно – но в общей каморке: на всякий случай. А вдруг кому в голову придёт проверить расход продуктов.
О том, что из кладовки есть выход в подвал никто, кроме младшей девочки, пожалуй, и не знал: детдом переселили в это здание экстренно, после того, как бомбежкой было разрушено прежнее. А младшая девочка, до появления в детдоме старшей, несчастной и растерянной, не слишком-то общалась с кем-то, предпочитая одиночество. Вот и обнаружила – сперва подвал, а потом и проход.
Правда, для того, чтобы забраться в люк, приходилось карабкаться по стене, выделывая чудеса акробатики. Но на что только ни способен голодный ребенок, зная, что вот еще немного усилий – и можно будет сунуть в рот мягкие терпкие крошки… или кусочек сырой свеклы… или, на худой конец, лепешку из очисток и свекольной ботвы.
Она не зарывалась: брала только чуть-чуть. Так, чтобы никому в голову даже не пришло заподозрить пропажу. Это чуть-чуть помогло ей выжить – паек был настолько скуден, что каждую неделю число воспитанников детдома уменьшалось, как минимум, на один. Она берегла свою тайну, и никто о ней так и не узнал – кроме этой самой старшей девочки, Кати, единственной подруги, которая хоть и была старше и выше, но воспринималась
– Ешь здесь, – строго сказала младшая девочка, протягивая старшей кусочек хлеба и судорожно сглатывая: ей и самой есть хотелось так, что желудок, казалось, свернулся в трубочку.
Старшая жадно сжевала половину и, глубоко вздохнув, протянула остаток младшей:
– Это уже сама… Младшая, заложив руки за спину, категорично покачала головой:
– Ешь, я сказала. Завтра еще будет.
Старшая смотрела на жалкий остаток хлеба.
– А можно.… А можно, я его с собой заберу? Я перед сном съем.
Младшая покачала головой:
– Кто-то увидит…
– Никто, никто не увидит! – горячо зашептала Катя. – Я вот в карманчик… а потом в постели съем, когда уже свет погасят! У меня, когда ложусь – сильнее всего живот крутит!
Младшая вздохнула: она была уверена, что – и обнаружат, и заберут, и почти не сомневалась в том, что подруга, припугни ее кто-то из воспитателей, обязательно выдаст, откуда взяла хлеб. Но… но жалость оказалась сильнее, и она кивнула:
– Можно…
Все получилось еще хуже, чем предполагала младшая: Катя, не выдержав спазмов в голодном животе, решила «оприходовать» хлеб раньше, и была замечена, но не воспитателем и не нянькой, а – старшими мальчишками, которые славились тем, что отбирали хлеб у тех, кто был послабее.
Они не только хотели есть – они хотели знать, откуда взялся «лишний» хлеб. А может, просто хотели поиздеваться – рабы часто мечтают завести собственного раба, а те, над которыми издеваются – отвести душу и сорваться на еще более слабом. Катя успела сообщить, что хлеб – ее, просто от обеда остался, но мальчишки не поверили. В принципе – правильно: невозможно представить, чтобы кто-то сумел оставить «на потом» ту скудную пайку, которая выдавалась за обедом.
Но это было не главное. Главное – что перед ними была добыча, испуганная, едва трепыхающаяся, боящаяся до коликов в животе, до синих кругов перед глазами…
– Сейчас ты нам все расскажешь… где хлебушек воруешь… и как совесть позволяет жрать от пуза, когда другие голодают…
Старший из парней, «белоглазый», как его между собой назвали младшие, медленно приближался к едва стоящей на ногах жертве, когда вдруг рядом возникло еще одно существо с косичками – маленькое, насупленное и с большим ножом в руках.
– Отвали, – замороженным голосом сказала младшая девочка.
«Белоглазый» заржал. Эта кроха с ножом – что-то более нелепое себе даже сложно было представить. Да он сейчас одним пальцем…
– Эй, пацаны, вы слыхали?
– Ты знаешь, что меня при живой матери сюда заперли? – ровным тоном произнесла младшая девочка. – Знаешь, почему? Потому что меня друган отчима дорогого изнасиловать попытался… а я ему все хозяйство отрезала. Ножик, правда, не этот был, другой, но и этот тоже ничего, острый. Хочешь попробовать?
Что-то в тоне маленькой девочки было такое, что заставило «белоглазого» отступить. К его счастью, кто-то из его банды крикнул:
– Бодя, да оставь ты ее! Я что-то такое слыхал! Она и вправду… того… няньки говорили…
Бросив какую-то фразу типа «мы еще с тобой поквитаемся, паскуда малолетняя», белоглазый и его крысюки ретировались. А младшая, выронив нож, долго рыдала в объятиях старшей, и Кате впервые пришлось утешать свою младшую подружку – до сих пор всегда бывало наоборот.
– Вот так вот она мне жизнь спасла. И больше, знаешь, никто нас не трогал, – отхлебнув из чашки, тетя Катя завершила свой рассказ.
Я во все глаза смотрел на мать. Так не бывает! Это неправдоподобно! Но мама, убирая со стола тарелки, даже не попыталась опровергнуть слова своей подруги.
– Мам… это что – правда?
Мама вздохнула:
– Зря ты, Катька, ему все рассказала. Он хоть и взрослый уже… почти… но впечатлителен сверх всякой меры. Забудь, сынок, времена тогда лихие были… много всякого разного происходило…
И только спустя несколько дней я решился и задал ей вопрос:
– А что, правда, что ты мужику… ну, приятелю отчима… отрезала?
Мама пожала плечами:
– Ох, Сережка, нельзя быть таким легковерным! Мне десять едва сравнялось, когда меня в детдом определили. А выглядела и того младше. Во-первых, кто бы позарился? Во-вторых, – как ты думаешь, способен ребенок со взрослым мужиком управиться? Ну, сказала, что первое в голову пришло – у нас тогда любили всякие страшилки на ночь рассказывать, и у меня самые страшные придумывались, девчонки аж пищали. А в такой стрессовой ситуации – тоже придумалось. Главное – я и в самом деле готова была его пырнуть… куда попаду. И, думаю, именно это его и испугало. А не испугайся «белоглазый» – он и в самом деле мог бы у меня нож за пару секунд отобрать. Запомни: что бы ты ни делал, главное – не бояться. Если ты не боишься и готов идти до конца – ты уже сильнее своего противника.
Эти мамины слова я запомнил навсегда.
Тамара имела шестнадцать лет от роду и не имела ровным счетом никаких средств к существованию. В тех условиях нужно было как-то выживать. Поэтому пошла и записалась на работу в Германию. Уехала. Германия встретила ее спокойно и даже весело. По приезду всех вновь прибывших определили в фильтрационный лагерь, где, впрочем, никто долго не задерживался.
Каждый день в лагере появлялись, как их называли наши, «покупатели», и не спеша выбирали себе работников по своему вкусу. Чем уж им приглянулась Тамара, неизвестно, но после стольких лет мытарств по белу свету она вытянула счастливый билет в лотерее жизни. Тетя попала на ферму к совершенно приличным людям. Это были прибалтийские немцы, и они старались набирать к себе работников, язык которых понимали.
Понятно, что денег им там не платили, но кормили, одевали и относились не как скотине, а были и такие хозяева, а как к людям, попавшим в беду. Но немцы есть немцы – даже попавшие в беду должны целый день работать. Тамара была крепкая девушка, работы не боялась и работала.
Ко времени появления Тамары на ферме там обосновалась разношерстная интернациональная компания работников. Там был восемнадцатилетний поляк Витольд Потоцкий, принудительно вывезенный в Германию после немецкой облавы в родном городе Пётрков-Трыбунальский. Витольд – среднего роста, русый, с огромным носом-клювом и жесткими колючими глазами. Никто и никогда бы не назвал Витэка красавцем, но фамилию он представлял славную, и поэтому был хорошо воспитан, что делало его очень привлекательным в глазах Тамары. Человек крайних левых взглядов, он мечтал избавиться от этой фамилии, – как он говорил, «бандитской».
Там работала ослепительная красавица-киевлянка Мария, всеми способами пытавшаяся припрятать свою красоту, поскольку уже начинала страдать от довольно конкретных попыток хозяйского сына затащить ее в постель.
Заведовал хозяйством фермы, бывший итальянский офицер, граф Марко Антонио Кучинотта. И хоть он скрывался здесь под чужим именем, но за версту было видно, что человек он не простой.
Марк закончил Королевскую военно-морскую академию в Ливорно в 1928 году. Еще обучаясь в рядах академии, Марко Антонио сдружился с князем Юнио Валерио Боргезе. Князь был старше Кучинотты на два года и поэтому часто был заводилой в их похождениях. Как все военные курсанты, эти двое любили выпить в недорогом кабачке, поволочиться за каждой первой юбкой, подраться с первым встречным, косо посмотревшим на них гражданским. Военная молодежь, она и в Италии военная молодежь.
Все эти забавы совершенно не мешали этим двоим с утра до вечера на равных спорить о дальнейшей судьбе Отечества, попавшего к началу 30-х годов в затруднительное положение и растерявшее былой авторитет в мире. Взгляды у будущих офицеров королевского флота были прямо противоположные. У них буквально на все в жизни были различные взгляды.
Юнио Валерио был убежденный фашист и считал необходимостью установление диктатуры Муссолини. Марко Антонио придерживался демократических взглядов и был противником дуче.
Бесконечные споры, иногда доходившие, по несколько раз в день, и до полного разрыва отношений, с лихвой погашала фанатичная преданность друзей идее возвеличивания, буквально на днях, родной Италии.
Для того, чтобы хоть кто-то помог разрешить их спор, Боргезе познакомил его со своим старшим другом, бароном Элиусом Эволой. Ездить приходилось аж в Рим, но оно того стоило.
Это был тот еще философ, по чем зря критикующий социальные, интеллектуальные, экономические, этические и духовные основы современности. По этому поводу Элиусом Эволой была написана книга-бестселлер «Восстание против современного мира», в которой автор усматривает радикальное отличие современной цивилизации от традиционной.
«Следы, оставленные древними первобытными цивилизациями, нередко таят в себе особый смысл, ускользающий от праздного взгляда. Созерцая остатки древнейшей греко-римской, египетской, персидской, китайской цивилизации, вплоть до загадочных и безмолвных памятников эпохи мегалита, разбросанных среди пустынь, степей и лесов, эти застывшие в камне последние свидетельства давно поглощенных пучиной времени миров, невольно спрашиваешь себя, в чем состоит тайна их упорного сопротивления времени – только ли в счастливом стечении внешних обстоятельств, или же в этом скрыто некое символическое значение».
«В отличие от «цивилизации пространства», которая характерна для современного мира, древние культуры были «цивилизациями времени». Традиционный образ жизни сохранял свою тождественность на протяжении веков и поколений, храня верность одним и тем же принципам, тем же устоям, тому же мировоззрению, которые, разумеется, в чрезвычайных обстоятельствах менялись, но внутренне сохраняли свое «культурно-цивилизационную идентичность». Социальные философы и историки называли такие культуры «застывшими», «неразвитыми», «патриархальными».
Эвола оспаривал этот взгляд. Он называл эти культуры «цивилизациями бытия». «Их сила проявлялась именно в их идентичности, в победе, одерживаемой ими над становлением, над историей, над изменением, бесформенной текучестью». «Они обладали прочной корневой системой, уходящей в глубину, далеко за пределы текущих, переменчивых вод».
«Что же касается современных цивилизаций, то их скорее можно назвать «истребителями пространства». Они производят неисчерпаемый арсенал механических средств, предназначенных для максимального сокращения всякой дистанции, всякого расстояния. Им присущи доведенная до предела потребность иметь, страх перед всем отдаленным, уединенным, глубоким и далеким, стремление повсеместно распространить себя, максимально расширить себя, узнавать себя в чем угодно, обнаруживать себя везде и повсюду, только не в себе самом».
Вот так вот и дальше. Кучинотту во всей этой абракадабре заинтересовала только критика демократии, которая служит, по мнению Эволы, знаком современной «культуры пространства». Юлиус Эвола характеризует ее как «опускание жемчуга власти в придорожную грязь. Иерархический центр, которому придает огромное значение Эвола, смещается и растворяется в бескрайнем море периферии. Чуждые культуры и расы становятся более равными в правах, чем коренное население тех стран, куда они были завезены или иммигрировали. Охрана их «естественных прав» становится основной заботой правительства, с достойным уважения упорством пестующего все чужеродное в ущерб коренным гражданам, что уже приняло характер физического насилия».
Спор не разрешил и Юлиус Эвола. Он критиковал и фашистов, и демократов. В его понимании в современном мире возникли два наиболее страшных и апокалиптических, вырожденческих лика – Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Ни много, ни мало. Его признавали своим и фашисты, и антифашисты.
Эвола был человек элитарный и даже космический. И хотя спор друзей он не разрешил, но видя патриотический запал обоих, направил их к Корнелиу Зеля Кодряну – основателю Ордена «Легион Михаила Архангела», известного в мире как «Железная гвардия».
Это было уже слишком, и друзья решили немного отойти от изотерических умозаключений и окунуться в мир развлечений. Это оказалось проще и приятнее, чем идеологический спор. Свободное время опять стали проводить в обществе всяких дам, да поколачивая встающих у них на пути штатских. Что характерно, находясь в увольнении, любили они посиживать именно в том кабачке, где и познакомились.
Даже внешне эти два товарища были полная противоположность друг другу. Боргезе – темно русый, коренастый, круглолицый с мясистыми губами, безвольным подбородком на всегда чисто выбритом лице, с, на удивление, покатым лбом и недобрым прищуром темных, как ночь, глаз, всегда был спокоен. Кучинотта – черноволосый, высокий, широкоплечий с волевым квадратным подбородком, тонким правильно очерченным ртом, очень часто улыбался, отчего его черные, коротко остриженные черные усы постоянно взлетали вверх и обратно, и спорил эмоционально, постоянно жестикулируя руками.
И хотя оба были весьма неординарными личностями, но их дружба дала трещину весьма тривиально. Сразу по окончании академии оба друга были представлены семье Олсуфьевых, приходившейся родственниками самому русскому, царю Александру I, известной на всю Италию своими дочерями – девицами на выданье.
В 1915 году семья, включая мать и четверых детей, переехала к воюющему с турками отцу в Тифлис. Видимо, не очень отец себя утруждал военными действиями. А в 1919-м году Олсуфьевы спокойно себе перебрались через Батуми в Италию. Здесь у них был свой огромный дом. Деньги они всегда держали за границей в немецких банках, так что устроились безбедно – те еще патриоты России, о чем они всю свою жизнь кричали на всех углах. Отец к тому времени уже вольготно расположился там же – ушел раньше вместе с отступающими белогвардейскими частями.
К тридцатому году сестры выросли и пошли смотрины женихов.
Кучинотта влюбился в среднюю – Дарью. И хотя она обладала резким, мерзопакостным характером, но в нее влюбился и князь Боргезе. Дарья, сообразив, что дело её в шляпе (оба жениха были достойная аристократическая партия) устроила аукцион. Задание претендентам на ее руку было не простое.
Когда семья выехала из Москвы, то всех богатств она забрать не сумела, а соорудила клад в их доме на Поварской. Дом известный. Туда захаживали и Александр III, и Коровин с
Бегемотом, и Берлиоз, а позже – Лоллобриджида, Шкловский… – те еще экземпляры. Многие там бывали.
Именно в этом особняке собиралась самая влиятельная в России масонская ложа, ведь граф Василий Олсуфьев – отец семейства был известным масоном. Здесь же хранились и секретные документы, старинные рукописи, золотые сакральные предметы, принадлежащие Ложе. Тут же скопились и фамильные богатства, еще не вывезенные из России этими патриотами.
Вот в этом известном всей Москве особняке, между первым этажом и подвалом, находилась потаенная комнатка, где и были спрятаны сокровища.
Задание такое: кто первым доберется до клада и сумеет вывести его в Италию, тот и жених! Все эту было высказано, естественно, в завуалированной форме.
После окончания военной академии, Кучинотта в компании двух инженеров, с головой ушел в разработку нового перспективного оружия – человеко-торпеды, в чем, безусловно, преуспел, и без всякого понимания отнесся к чудачествам, как он считал, Дарьи Олсуфьевой.
Боргезе же сразу определился в боевой флот. Еще в стенах академии он увлекся всевозможными разработками диверсионной деятельности. Предложение Дарьи князь воспринял всерьез как получение надлежащего опыта в шпионско-диверсионной работе.
Как бы там ни было, но князь Юнио Валерио Боргезе организовал похищение из-под самого носа советской власти этого бесценного клада.
Поутру, в один из солнечных дней 1931 года, когда новые обитатели дома на Поварской проснулись, то они увидели только разобранный пол в одной из кладовых, пустой огромный сундук под полом и разрытый подземный ход, ведущий из подвала во двор и выходящий на поверхность прямо посреди большой цветочной клумбы.
Графиня Дарья Олсуфьева вышла замуж за князя Боргезе. Нельзя сказать, чтобы это событие способствовало укреплению дружбы двух офицеров. Дальше – больше.
В 1935 году разразилась Вторая эфиопская война. Муссолини решил таким способом возвеличить просыпающийся дух нации. Боргезе едет воевать, Дарья – тут как тут – сестра милосердия. Какое милосердие может быть в захватнической войне?
Кучинотта трудится в Италии над созданием чудо-оружия
для своей страны.
В 1937 году – Боргезе участвует в гражданской войне в Испании, естественно на стороне Франко, сопровождает итальянские конвои в Средиземном море.
Кучинотта бросает все и едет воевать на стороне Республики. Здесь уж нужно было точно выбирать с кем ты по жизни! Раненным Марко попадает в плен и его выдают в Италию. По выздоровлению Кучинотта без суда и следствия сидит в темнице и ждет приговора, ни много ни мало, за измену Родине.
По возвращении из Испании, где Боргезе был также легко ранен, его в первый раз принимает сам дуче и собирается вручить медаль «За военную доблесть», но Юнио все-таки князь, а не какой-нибудь простой безродный карьерист, и Боргезе просит Муссолини вместо медали себе помиловать офицера королевского флота Кучинотту. Дуче поморщившись, соглашается – князь уже ходит у него в любимчиках.
В 1940 году Боргезе, уже имевший опыт подводной войны, стал командиром подводной лодки «Ширё», которая стала тут же плавучей базой для морских диверсантов.
Все это время, после женитьбы Юнио Боргезе на Дарье Олсуфьевой, приятели не виделись ни разу. Только слышали об успехах друг друга.
Муссолини не только простил нашего Кучинотту, но и вернул его в королевский флот помощником командира подлодки «Прована».
Подводная лодка участвовала в боевых операциях против англичан, но 17 июня 1940 года французский тральщик «Ла-Курьез» заставил всплыть и протаранил всплывшую подлодку. Лодка затонула в районе Орана. «Прована» стала единственной итальянской подводной лодкой, потопленной французским флотом.
В это время территория Орана контролировалась вишистами. Поэтому спасшемуся Кучинотте было оказано уважение и разрешено свободное перемещение по всему берегу. Подлечившись, Марко Антонио недолго думал и был таков. Сотрудничать ни с Муссолини, ни с Петеном у него даже в мыслях не было.
Марко бежал в горы и оказался в рядах маки. Особо ничем отряд не выделялся. Здесь в основном собрались те, кто уклонялся от отправки в Германию в составе рабочих отрядов. Из вооружения – охотничьи ружья. Не удивительно, что через несколько месяцев месторасположение отряда было выдано вишистской полиции предателем. Все партизаны были арестованы и без особого разбирательства отправлены на работу в Германию.
Тогда еще у хозяев фермы не было работников, и они очень даже быстро договорились с местным фюрером о направлении к ним одного из французов, за которого себя выдавал наш герой. Кучинотта мечтал сбежать и отсюда, вступить в ряды настоящего Сопротивления и наконец-то начать приносить полноценную пользу Италии, а не смотреть, как полудурочный дуче ведет его родину к полному краху.
Совершенно естественно, что между высоким статным красавцем, хоть и прикидывавшимся простачком, и простоватой, но очень красивой Марией беззаботно ярко вспыхнула искра любви. Война войной, а итальянский темперамент еще никто не отменял. Мария забеременела, и ровно через девять месяцев у этой пары родилась дочь. Назвали ее Лиза.
Нужно заметить, что все работники фермы переживали за эту пару и заверили очень недовольных хозяев фермы, что работа от этого не пострадает, и все разделят обязанности Марии между собой. Больше всех взвалил на себя Марко – спал по четыре часа в сутки, совмещая обязанности управляющего с обязанностями Марии. Хозяева фермы хоть и были недовольны всем этим, но настояли на том, чтобы пара обвенчалась в церкви. Марк был католик, как и хозяева фермы, а Мария тогда еще была, как и все наши, – нехристь. Так что ей было все равно, где венчаться.
Когда в 1943 половина Италии была оккупирована Германией, граф Кучинотта не счел возможным дальше оставаться в стороне от таких судьбоносных для его страны событий. Как уж Марко договорился с хозяевами, не ведомо никому, даже самой Марии, но бравый офицер собрался и тайно отбыл, заверив свою законную супругу, что после войны разыщет ее непременно. Как бы там ни было, но в Лигурии, действовало целых два итало-русских диверсионных отряда. В отличие от соратников Кучинотты по маки бойцы отрядов по-настоящему боролись с оккупантами: они устраивали диверсии, взрывы мостов, шоссейных и железных дорог, нападали на колонны немецких войск. Один из отрядов возглавлял Марко Антонио Кручинотта.
Ох уж эти мужчины, и особенно – высокородные. Долг, честь, имя у них всегда на первом месте. Знал бы граф, чем обернется вся эта история для его новой семьи – тысячу раз бы еще подумал.
Не так бурно, зато очень надежно развивался роман у Тамары с Витольдом. Тамара – высокая, русая, как и Витэк, девушка с круглым лицом, здоровым румянцем, пухлыми губами и большими зелеными глазами. Она была даже несколько выше Витольда. Такая и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Наша пара, в отличие от предыдущей, красотой не блистала, зато молодые люди спокойно любили друг друга, помогали один другому и, в отличие от вспыльчивого итальянца и не менее вспыльчивой Марии, никогда даже не ругались между собой.
Когда закончилась война, то молодожены решили ехать на родину к Витольду – очень он волновался за своих родителей. В Польше выяснилось, что отец Витэка – начальник поезда – погиб на службе при бомбежке немцами старинного пётрковского вокзала.
Витольд, наконец-то, избавился от ненавистной своей древней фамилии, взяв нейтральную фамилию матери – Вечорек.
Работали на ферме еще два поляка и несколько девушек, приехавших добровольно вместе с Тамарой – все очень молодые люди.
Конечно, всем обитателям фермы повезло. Союзники сразу же предложили всем на выбор и Штаты, и Канаду, и остаться в их зоне ответственности. Работники, недолго думая, сразу же разъехались. Осталась одна Мария с дочерью. Лиза постоянно болела, и нужно было переждать. На ферме все-таки были коровы и молоко. Мария прекрасно понимала, что ничего хорошего на Родине ее не ждет. Там не будет ни коровы, ни молока для ребенка, а дальше она ехать сама боялась.
– Буду ждать мужа здесь, – ответила Мария каким-то людям в добротных штатских костюмах.
Эти люди не раз приезжали на ферму и уговаривали всех побыстрее оформлять документы для выезда за океан. Видимо они что-то знали.
Мария не уехала. Союзники между собой договорились и выдали всех советских граждан нашим родным долгожданным освободителям. Те особенно не церемонились, а рассовав всех по теплушкам, отправили народ домой для разбирательства, каким образом они оказались в Германии.
Во время войны хозяйский сын – активный участник гитлерюгенда успел вступить в ряды НСДАП и оказаться в войсках СС, где и попал в плен, успев немало напакостить советским войскам. Хозяева фермы усиленно пытались освободить свое чадо, для чего сами завербовались информаторами советского СМЕРША. Конечно же, доложили, что Мария замужем за итальянским офицером.
Разбираться не стали. Мария отправилась прямиком сначала в лагерь для перемещенных лиц в Поволжье, а оттуда, с детским сроком в десять лет и поражением в правах, прямиком в Сибирь. Италия воевала на стороне Германии, а стало быть, жена итальянского офицера, да еще и по собственной воле отправившаяся на работу в Германию – предательница Родины.
Здесь уже нужно выживать. Пришлось сожительствовать и со следователем, и с начальником следственного отдела, и с начальником конвоя, и с начальником отряда, и с кумом, который любезно уступил ее начмеду, которому проигрался в пух и прах в буру. Мария подписывала все бумажки, которые ей подсовывали все эти негодяи. Нужно было выживать. Эти поступки позволили пристроить Лизу в детскую комнату при лагере, а не отдавать ребенка в незнакомый детский дом по дороге.
Десять лет длились всю жизнь. За это время поменялось три начальника лагеря. Самый первый для Марии был расстрелян, но начмед успел после пятилетней Марииной отсидки оформить ее как умершую, а вместо умершей Анны Океевой отправить Марию, теперь уже Окееву, на поселение рядом с лагерем. Изменения не большие, но позволявшие забрать подростка дочь из такого же, но детского лагеря. Пришлось терять документы девочки и выписывать новые уже на фамилию Океева, но это прошло легко – кто там за ними следил за этими детьми. Все эти манипуляции почти гарантировали от повторного срока ни за что потому, что повторный пятилетний срок Океева уже отбыла.
Пришлось опять сожительствовать с кумом поселения Хвосты и заслуживать перевод в такое же поседение Зима, но в Пермском крае. Нужно было, как можно тщательнее, путать следы.
На поселении Мария-Анна, чувствовавшая, что дело идет к ее концу, и пока ее былая красота окончательно не померкла, успела окрутить такого же, как она поселенца Яниса Круминьша – ювелира из Риги и, путая следы, сменила фамилию. Янис же и оформил на себя отцовство Лизы и дал ей свою фамилию.
Отбыв свой срок, супружеская пара отправилась в Ригу. Здесь бы и зажить, забыв все невзгоды, но годы ужасных скитаний по лагерям и бремя общения с плохими людьми быстро свели Марию с белого света. Сорока лет от роду мученица Мария скончалась, успев шесть лет перед этим выдать Лизу замуж за племянника своего мужа Юриса Круминьша. Родственники они были не родные, поэтому ничего в этом не было страшного. И только перед самой смертью Мария рассказала Лизе кто ее настоящий отец, но заклинала ее не проговориться об этом пятилетней внучке Галине и, упаси Боже, не искать его. Да Лиза и сама была так напугана этим Пермским краем, что даже думать об Италии боялась.
Жизнь не сложилась и у Лизы. Муж постоянно попрекал ее лагерным прошлым, будто она в чем-то была виновата. Пытался даже поднять на нее руку, но в лагерном детдоме она и не такое видала. Юрис получил бутылкой по голове и был предупрежден, что в следующий раз его вообще убьют. Их малолетняя дочь Галина стояла рядом с матерью и даже пыталась толкнуть ненавистного папаню, обижающего ее любимую маму.
Муженек не на шутку испугался. Дело даже не в Лизином отпоре, а в том, что после смерти дяди, который скончался сразу же за Марией, остались огромные, как для нашей страны, припрятанные еще до ареста, богатства в виде золотишка и драгоценных камней. Дядя все же был один из самых известных в Латвии ювелиров. Именно благодаря своим запасам он сумел отправиться на поселение, а не в лагерь и окончательно выкупить затем и Марию. Очень он ее любил.
И тогда струхнувший Юрис стал действовать старым проверенным советским способом. В КГБ пошли анонимки об антисоветских высказываниях Елизаветы Круминьш, судимой за измену Родине и дочери эсэсовца. Лизу вызвали, поговорили, предупредили, пуганули, что так недолго и опять в Пермский край отправиться, а дочери – в детдом. Лиза поклялась, что это все наветы пьяницы мужа. Да ее никто в этом бреде и не подозревал – в деле же все есть: и не она судима, а мать и про эсэсовца в деле ни слова. Допросили так, для галочки.
Но Лиза все поняла. Пермского края она боялась до истерики, до мелкой дрожи в руках и ногах. Поэтому ничего никому не рассказала: ни про настоящего отца, ни про богатства отчима, а собрала дочку Галину и дернула в Киев к бабушке, которую до этого ни разу не видела. Лиза путем нехитрых махинаций с документами и небольшой взятки изменила фамилию с Круминьш на Кручинину. Так, якобы, она звучит на русском языке.
Сразу же после войны Тамара приехала из Польши и разыскала мою маму, находящуюся почти в таком же шоке, как и Лиза, после пребывания в детском доме. Каждодневные избиения, плохое питание хорошего самочувствия не приносят, но делают характер резким и злобным. Драться приходилось каждый день и с девчонками, и с мальчишками, и со старшими, и с младшими. Друзей там не было. Была одна злость и полное бесправие.
На удивление мама окончила это, прямо скажем, почти исправительное заведение на четыре-пять, но дальше учиться у нее не было никаких моральных сил. А тут и бабушку, находящуюся больше года под следствием, освободили.
Семья со скрипом воссоединилась. Тамара смогла уехать к мужу в Польшу.
Неудивительно, что после всего этого кошмара мама, как только повстречала на танцах бравого летчика-испытателя, лейтенанта Олега Страхова, то влюбилась в него с первого взгляда и сразу же вышла за него замуж. Она подсознательно теперь хотела иметь хоть одного защитника в жизни. И хотя она была красавицей, но беззаветно любила всю свою жизнь этого лейтенанта, больше ни на кого не заглядывая. Что же касается Страхова, то любил ли он маму, я точно сказать не могу.
Олег Страхов был родом из старинного русского города Старица – вотчине царской семьи Ивана Грозного. Он приехал в Киев по направлению, по окончании военного училища, на работу на авиапредприятие Антонова.
Пока Олег Николаевич летал, он был образцовым офицером и с достоинством представлял наш древний дворянский род, ведущий от опричника Ивана Грозного – Ивана Страхова. В любой компании отец был первый; в баскетбольной команде, несмотря на свой невысокий рост – лучший разыгрывающий; отлетавшись и перейдя на строительство самолетов – первый в своем цеху; серьезно увлекшись фигурным катанием, заделался одним из самых авторитетных спортивных судей в городе по этому самому катанию.
Но спирт, льющийся на таких предприятиях рекой, сделал свое дрянное дело – батя стал выпивать. Из благополучной семьи летчика-испытателя мы потихоньку стали дрейфовать в сторону бедности, но мама пока еще не работала. Мы довольно быстро получили комнату в общей квартире на Святошино и перебрались поближе к цивилизации.
Самолеты строились, все друзья отца шли в гору и переезжали в Москву на руководящие должности, а мы все беднели. Батя успел еще получить земельный участок. Затем, как очень ценный, хотя и пьющий специалист, получил, наконец, полноценную квартиру на новом жилом массиве Борщаговка, на улице имени того самого, героя – генерала Потапова Михаила Ивановича, который, когда немцы были уже под Москвой, в полном окружении сражался с ними еще под Киевом. И это была лебединая песня отца. Маме пришлось идти работать.
С этого и начинается наше повествование в первой книге. Там я и познакомился со всеми персонажами этой саги.