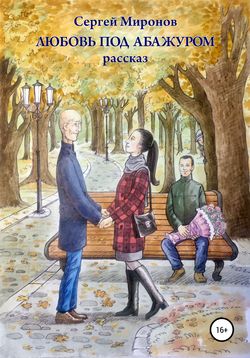Читать книгу Любовь под абажуром - Сергей Юрьевич Миронов - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
На нашем курсе было шесть «матерей». В университет их зачислили с рабфака без вступительных экзаменов. На лекциях они сидели сплоченной группой в конце аудитории, по факультетским коридорам передвигались по двое, по трое; на переменах дружно курили на лестничных клетках. Рвения к учебе не проявляли, изощренно шпорили на экзаменах. Габаритами они тоже отличались от нас, вчерашних десятиклассников. Плечистые, широкие в бедрах, косматые (в конце восьмидесятых модно было ходить с небрежным взрывом на голове), они посматривали на сокурсников свысока, возомнив себя безоговорочными лидерами филфака.
Жили «матери» так же кучно, как и сидели на занятиях: занимали две комнаты в общежитии по соседству с факультетом. Возглавляла рабфаковский коллектив вездесущая Неделюк. Она быстро выбилась в старосты курса, все обо всех знала, а если не знала, то придумывала для преподавателей невероятные истории о прогульщиках, в которые ученые мужи охотно верили. Фантазией она обладала неуемной, была остра и резка на язык.
Неделюк всегда сопровождала застенчивая Люда Воронкова. Баскетбольного роста, худая, плоскогрудая Люда максимум тянула на третьекурсницу, в компании ворчливых «мамаш» выглядела откровенной малолеткой.
Воронкова превосходила «матерей» не только ростом, но и умом. Ее познания в языках, особенно латинском, нещадно эксплуатировались обособленным дамским контингентом. На немецком Люда тоже охотно раздавала консультации соседкам. На самостоятельных и контрольных в душных аудиториях щеки ее покрывались горячим румянцем. Она работала сразу на нескольких человек. На переменах жадно курила, делая частые, мелкие затяжки, и напряженно улыбалась, словно витала еще в заоблачных лингвистических высях. В окружении воспитанниц рабфака она оставалась на удивление совестливой. Списывать на экзаменах, засунув шпаргалку под резинку чулка, было не в ее правилах. К литературе Люда интереса не проявляла. Она без труда отличала ямб от хорея, порой цитировала Вергилия, но глубоких мыслей по поводу прочитанных книг, коими блистали отличники с первых рядов, не имела.
– Ей надо было идти на точные науки, – однажды сказала мне Неделюк, получив «четыре» по старославянскому не без помощи Люды. – С другой стороны, как бы мы без нее учились?
В маленькой «материнской» комнате на четвертом этаже панельного общежития всегда было чисто, по-домашнему уютно. В центре студенческой обители стоял круглый стол под клеенчатой скатертью. Под столом, прикрывая дощатый облупленный пол, лежал выгоревший ковер с бахромчатой грязно-серой оборкой. На комоде, на кружевной салфетке, потрескивая вещал радиоприемник ВЭФ. За ним, на полке у стены, завешанной мешковатым покрывалом, в хаотичном порядке хранилось разноцветное содержимое дамской косметички. Но главное, над столом, в опасной близости от голов висел ярко-красный матерчатый абажур, склеенный в местах разрыва коричневым скотчем.
Вечерами в эту комнатку набивалось человек десять-пятнадцать. Приходили студенты с нижних этажей и из ближнего общежития. Общество было преимущественно женским.
Как-то после одного такого заседания под абажуром Неделюк посетовала на нехватку мужчин в их тесной компании. Я понял ее намек и задумался, кого бы заслать к ним в гости, помня про почтенный возраст подруг и крутой нрав старосты курса.
Подходящий вариант у меня все же нашелся. В те годы я общался с Матвеем. В народе его звали Фомой. Помешанный на заумных текстах Гребенщикова, он всегда ходил с флейтой и гармошкой. Таскал их в собственноручно сшитом вещевом мешке. Тогда я тоже был повернут на «Аквариуме». На почве этой болезни мы и сошлись.
Фома учился в Институте рыбной промышленности и хозяйства. Был жаден до общения. Пребывал в перманентном состоянии духовного единства с окружающими. Мог ненароком обнять бомжеватого прохожего и в сердцах бросить ему: «Брат! Дык елы-палы!» С дамами он предпочитал игривый стиль общения, бравировал цитатами из Хармса. Близко к тексту пересказывал «Вываливающихся старух», чем вызывал у слабого пола длительные приступы спазматического хохота. Бронебойным оружием Фомы был Хтей. С ним он и пожаловал в комнату под абажуром.
Хтей работал оформителем в драматическом театре. Изготавливал декорации, расписывал сценические панно. Иногда проводил нас без билета на премьеры. Я посмотрел несколько постановок и понял, что в скором будущем любовь к театру мне не грозит. Тогда мы слушали рок и упивались свободой самовыражения. В одночасье мир вокруг нас оказался удивительно многообразным. Мы разбирали его по слоям, проникая в гущу непонятной начинки, докапывались до самых глубин, в которых в свободном доступе, как на библиотечной полке, маячили произведения теперь уже разрешенных писателей, художников, музыкантов. Нужно было только дотянуться до их творений.
Хтей выражал себя в акварели. Точной, крепкой рукой в мельчайших деталях он выводил своих героев на маленьких листах альбомной бумаги. В каллиграфических миниатюрах завсегдатаям комнаты № 43 он явил доисторических птиц, экзотических рыб, подводных каракатистых существ в панцирях с оттисками большого пальца, что добавляло правдоподобия обитателям морских бездн. Создавал он и тонкие человеческие образы: хитрый псарь, веселый пастух, мечтающий о славе скрипач…
Обычно Хтей сидел за столом, попивая жидкий чай, а перед ним лежала стопка рисунков. Будто карты, он раздавал нам миниатюры, сопровождая быстрые действия причудливыми смешками. Рисунки он клал лицевой стороной на скатерть, а взявший карту должен был перевернуть ее и придумать название миниатюре. Я тоже участвовал в этой забаве, но несколько отстраненно. Мне нравилось наблюдать за тем, как творческий процесс охватывал ленивую поначалу аудиторию, которая в умственном состязании постепенно возвышалась до поэтических образов, а к концу карточного сеанса скатывалась к дешевым коридорным пошлостям.
Хтей спокойно относился к противоречивой оценке своего таланта. Он смотрел в стол и мелко, как бы про себя посмеивался, периодически поглядывая на скромную Наташу с романо-германского отделения. С ней у него вскоре завязались отношения. Хтей зачастил в общежитие. Появлялся в угловой комнате не только вечером, но и днем. Да еще со своим знакомым Чадиным.
В отличие от Хтея Чадин был серьезным, задумчивым интеллигентом. (Впоследствии он стал довольно известным в городе культурологом, автором нескольких познавательных книг и гуманитарных проектов.) Но той теплой весной глобальные идеи только зарождались в его светлой голове наряду с нежными чувствами к подруге Наташи – Ольге.
К концу сессии отношения этой четвертки вырвались за пределы общежитской комнаты.
Ко мне судьба тоже проявила благосклонность. Я перевелся в Санкт-Петербургский университет на факультет журналистики. Через год ко мне приехал Фома. Увлеченный свежими веяниями в музыке и искусстве, художествами и сленгом Митьков, он давно мечтал погрузиться в колоритную атмосферу Петербурга. А тут еще кстати в здании Двенадцати коллегий намечался бесплатный акустический концерт Гребенщикова, в ту пору окрашенного в белый цвет и походившего на Дэвида Боуи. Вместе со мной Фома проник на концерт в актовый зал, перевоплотившись в студента Санкт-Петербургского университета. После выступления божества, остыв от восторженных эмоций, он между делом сказал, что недавно побывал на двух свадьбах, и это благодаря мне.
Сначала на Наташе женился Хтей, а следом, преодолев психологические барьеры, Чадин сделал предложение Ольге. Долго она не думала.
– Старик, ты отлично умеешь создавать семьи, – посмеивался надо мной Фома. – Тебе пора открывать брачное агентство. Журналистика когда-нибудь отомрет, а институт семьи вечен. Тут есть над чем поработать.
– Интересная мысль, – улыбнулся я в ответ. – А ты там никого себе не присмотрел?
– Где?
– В комнате под абажуром.
– Нет, – категорически махнул рукой Фома. – «Матери» не для меня.
– А Люда? Умная и очень даже ничего, – скромно поинтересовался я.
– Она симпатичная. – Фома остановился. – Ты знаешь, какой у нее рост?
– Сто восемьдесят пять, – сымпровизировал я.
– Сто восемьдесят девять, – уточнил он. – Я – пигмей, а она – дылда. С таким ростом ей еще долго маяться на пару с безнадежной Неделюк.
Воодушевленный встречей с Гребенщиковым, Фома улетел в Калининград. Я же был приятно удивлен тем, что, сам того не подозревая, принял негласное участие в основании двух брачных союзов.
Университет я закончил в 93-м. С пятого курса за мной уже числилось место в «Вечернем Петербурге». Я сотрудничал с отделом информации. Постепенно сходился с коллективом редакции, регулярно публиковал статьи и заметки. После университета я собирался продолжить работу в «Вечерке» штатным сотрудником, но планы мои изменились после того, как мне предложили поехать на полгода в Германию и поучить немецкий в Гамбургском университете, да еще за счет спонсоров.
В начале 90-х Западом болели многие. Знакомые и студенты из моего окружения придумывали всевозможные трюки, чтобы рвануть в Европу. Некоторым удавалось заключать фиктивные браки с возрастными иностранками. Двое художников с Невского уехали на лето в Италию в молодежный лагерь и не вернулись, третий – осел в горном шале у подножий швейцарских Альп, найдя в лесистой местности чудну́ю поклонницу своих пейзажей.
Тогда было много подобных историй. Я не собирался следовать примеру знакомых. Мне хотелось посмотреть, как там живут.
С одной стороны желание, как и решение, вполне объяснимое, с другой – опрометчивое, если учесть, что места в «Вечерке» после долгого отсутствия мне никто не гарантировал. Понимая это, в редакции я больше не появился.
В Гамбург я поехал автобусом из Калининграда. Перед отъездом навестил родителей, встретился с Фомой. Хтея увидеть не удалось. Он продолжал работать в театре. Создавал первые арт-объекты из янтаря, а вечерами вступал в роль молодого отца. У него родился глазастый улыбчивый малыш с вьющимися поэтичными бакенбардами. Сына назвали Кимом. Фотографию младенца мне показал Фома. Чадин потомством пока не обзавелся, а Люда и Неделюк не вышли замуж.
Подруги переехали в другое общежитие. Без приглашения я заглянул к ним в гости. Меня встретили приветливо, как старого знакомого. Нынешнее жилище молодых учителей было еще меньше студенческого. В центре комнаты по старой традиции стоял обеденный стол, застеленный белой клеенкой. С потолка свисал тот же красный абажур. Его ветхая ткань, кое-где прошитая нитками, пестрела росписями тех, кому в лихие студенческие годы довелось под ним выпить не один стакан горячительных напитков.
Заметив, что я разглядываю размашистые художества дипломированных филологов, Люда протянула мне черный фломастер:
– Распишись!
Я поставил краткую подпись на качнувшемся абажуре рядом с замысловатым иероглифом Хтея.
– Это он придумал?
– А кто же…
Люда внимательно смотрела на меня из-за абажура.
– Ты вообще не изменился. Все такой же гордый и интересный. – Она достала из серванта бутылку красного вина. – Значит, в Германию?
– Ага, – кивнул я в сторону воображаемого Запада. – Немецкий учить.
Тут в разговор вступила Неделюк. Она лежала с температурой под двумя одеялами.
– Саша, привези Люсе немца!
Староста поправила очки и окинула меня критическим взглядом, будто пыталась понять, способен ли я выполнить ее поручение.
– Город кишит туристами, а мы снова паримся в общаге!
Неделюк хлебнула вина.
– По-твоему, немец – банка пива? Вот так просто взять его и привезти? – осадила подругу Люда.
– Может, вам проще здесь познакомиться? – спросил я неуверенно.
– Ну-ну, с ними у нас познакомишься, – перевернулась на бок Неделюк. – Она заметно поправилась за последние три года. – К ним не подступишься. Ходят группами в сопровождении гидов. Да и с кем знакомиться? Со стариками?
– Молодежь приезжает по обмену, – попытался я ее успокоить. – В конце концов, есть Немецко-русский дом.
Неделюк заворочалась, протерла платком очки и снова потянулась к бокалу.
– Саша, ну какая мы молодежь? – Она недовольно уставилась на Люду. – Молодежью мы были на первом курсе, да проболтали драгоценное время. Теперь вот расхлебываем… Привези немца, – приказным тоном напутствовала меня староста. – Можем дать фотографии.
Я ничего ей не обещал, но фотографии взял.
2
В лингвотеке Гамбургского университета меня встретили настороженным шепотом. Русские сюда еще не проникали. В статусе пришельца с недружественной планеты я просуществовал неделю. Потом со мной начали тихо разговаривать. Последней из преподавателей ко мне смилостивилась пожилая Гертрауде. К своему удивлению, она обнаружила, что я не опасен, общителен и весел.
Вслед за Гертрауде симпатией ко мне прониклась стайка американцев во главе с веснушчатой, похожей на медвежонка Патрис. Видя, что я с трудом вхожу в их сумбурный групповой щебет, Патрис дала команду говорить со мной разборчивее. Сама же перешла к активной жестикуляции в кафетерии на большой перемене, пока не выбрала языком общения начальный немецкий.
Патрис была до назойливости болтливой и удивительно прожорливой. В обед она съедала по два больших йогурта. Сначала пробовала йогурт на кефире, а распробовав, – картинно морщилась, обсасывая пластмассовую ложечку. После недолгих раздумий она быстро расправлялась с малокалорийным продуктом и придвигала к себе йогурт на сливках. Завершался полдник мощным американо с молоком и двумя бананами, которые быстро уничтожались под кофе.
В лингвотеку Патрис приходила с кипой американских газет. Читала она в основном последние полосы. Ее интересовали погода, светская хроника и спорт. Как и все американцы, она была не в меру шумной и беспардонной. По утрам на всю аудиторию от нее пахло зубной пастой и стиральными порошками.
В конце учебного курса Патрис устроила прощальную вечеринку. Она пригласила нас в дом своего немецкого друга и попросила, чтобы каждый пришел с каким-нибудь блюдом. Я принес пиццу, Моника приготовила спагетти, Ивона – бигос. На десерт Патрис подала мороженое с кусочками банана, посыпанное тертым шоколадом и политое вишневым вареньем.