Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой
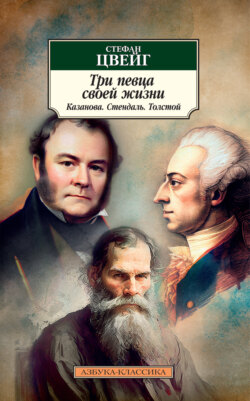
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Стефан Цвейг. Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой
Предисловие
Казанова
Портрет юного Казановы
Авантюристы
Образование и одаренность
Философия легкомыслия
Homo eroticus
Годы во мраке
Портрет Казановы в старости
Гений самоизображения
Стендаль
Лживость и правдолюбие
Портрет
Кинолента его жизни
«Я» и вселенная
Художник
De voluptate psychologica[69]
Самоизображение
Стендаль в современности
Толстой
Прелюдия
Портрет
Жизненная сила и ее сопротивляемость
Художник
Самоизображение
Кризис и преображение
Искусственный христианин
Учение и его несостоятельность
Борьба за осуществление
День из жизни Толстого
Решение и просветление
Побег к Богу
Финал
Отрывок из книги
В ряду изображений «Строители мира», в котором я пытаюсь пояснить творческие устремления духа самыми яркими типами, а типы, в свою очередь, образами, этот том противопоставляется двум другим и дополняет их. В «Борьбе с демоном» показаны Гёльдерлин, Клейст и Ницше как три различных воплощения гонимой демоном трагической душевной природы, переступающей в борьбе с беспредельным границы, положенные как ей самой, так и реальному миру. «Три мастера» показывают Бальзака, Диккенса и Достоевского как типы мировых эпических изобразителей, создавших в космосе своих романов вторую действительность наряду с существующей. Путь «Трех певцов своей жизни» ведет не в беспредельный мир, как у первых, и не в реальный, как у вторых, а обратно – к собственному «я». Важнейшей задачей своего искусства они невольно считают не отражение макрокосма, то есть полноты существования, – а демонстрирование перед миром микрокосма собственного «я»: для них нет реальности более значительной, чем реальность их собственного существования. В то время как создающий мир поэт, extroverte[2], как его называет психология, то есть обращенный к миру, растворяет свое «я» в объективности произведения до полного исчезновения личности (совершеннее всех Шекспир – как человек, ставший мифом), – субъективно чувствующий, introverte[3], обращенный к себе, сосредоточивает весь мир в своем «я» и становится прежде всего изобразителем своей собственной жизни. Какую бы форму он ни избрал – драму, эпос, лирику или автобиографию, он всегда бессознательно в центр своего произведения ставит свое «я», в каждом изображении он прежде всего изображает себя. Задачей этого тома является попытка продемонстрировать на трех образах – Казановы, Стендаля и Толстого – этот тип поглощенного собой субъективного художника и характернейшую для него художественную форму – автобиографию.
Казанова, Стендаль, Толстой, – я знаю, сопоставление этих трех имен звучит скорее неожиданно, чем убедительно, и трудно себе представить плоскость, где беспутный, аморальный жулик и сомнительный художник Казанова встречается с таким героическим поборником нравственности и совершенным изобразителем, как Толстой. В действительности же и на этот раз совмещение в одной книге не указывает на размещение их в пределах одной и той же духовной плоскости; наоборот, эти три имени символизируют три ступени – одну выше другой, ряд восходящих проявлений однородной формы; они являются, повторяю, не тремя равноценными формами, а тремя ступенями в пределах одной и той же творческой функции: самоизображения. Казанова, разумеется, представляет только первую, самую низкую, самую примитивную ступень, – наивное самоизображение, в котором человек рассматривает жизнь как совокупность внешних чувственных и фактических переживаний и простодушно знакомит с течением и событиями своей жизни, не оценивая их, не углубляясь в свой внутренний мир. У Стендаля самоизображение уже стоит на более высокой ступени – психологической. Оно не удовлетворяется простым рапортом, голым curriculum vitae[4], тут собственное «я» заинтересовалось самим собой; оно рассматривает механизм своих побуждений, ищет мотивы своих действий и своего бездействия, драматические элементы в области душевного. Это открывает новую перспективу – двойного рассмотрения своего «я» как субъекта и объекта, двойной биографии: внешней и внутренней. Наблюдающий наблюдает себя, переживающий проверяет свои переживания, – не только внешняя, но и психическая жизнь попала в поле зрения изобразителя. В Толстом – как типе – это самонаблюдение достигает высшей ступени: оно становится уже этически-религиозным самоизображением. Точный наблюдатель описывает свою жизнь, меткий психолог – разъединенные рефлексы переживаний; за ними, в свою очередь, следит новый элемент самонаблюдения – неутомимый глаз совести; он наблюдает за правдивостью каждого слова, за чистотой каждого воззрения, за действенной силой каждого чувства: самоизображение, вышедшее за пределы любопытствующего самоисследования, является самоиспытанием, самосудилищем. Художник, изображая себя, интересуется не только методом и формой, но и смыслом и ценностью своего земного пути.
.....
Самосозерцание – лишь подготовительный, пока еще не возбуждающий сомнений шаг: всякой истине легко оставаться правдивой, пока она принадлежит себе. Лишь приступив к ее передаче, начинает художник терзаться; тогда только каждому самоизобразителю нужен настоящий героизм правдивости. Наряду с исконным непреоборимым стремлением к общению, заставляющим нас братски делиться неповторимостью нашей личности, в человеке живет и обратное побуждение – столь же стихийное стремление к сохранению себя, к умалчиванию о себе; оно является продуктом стыда. Как женщина, побуждаемая волнением крови и уже готовая отдаться мужчине телом, в то же время, под действием бодрствующего инстинкта противоположного чувства, хочет уберечь себя, – так в области духовной желание исповедаться, довериться миру борется со стыдливостью души, советующей нам умолчать о сокровенном. Самый тщеславный (и, главным образом, он) не ощущает себя совершенным, каким он хотел бы казаться перед другими; поэтому он хочет похоронить с собой свои некрасивые тайны, недостатки и свою мелочность, вместе с тем лелея желание, чтобы образ его жил среди людей. Стыд, таким образом, является вечным врагом искренней автобиографии; он льстиво старается соблазнить нас, представить себя не такими, как мы есть, а какими мы хотели бы казаться. Коварством и кошачьими уловками он соблазнит честно стремящегося к искреннему признанию художника скрыть самое интимное, затушевать самое опасное, прикрыть самое тайное; бессознательно он учит созидающую руку опустить или лживо разукрасить обезображивающие мелочи (самые существенные в психологическом отношении!), ловким распределением света и тени – ретушировать характерные черты, превратив их в идеальные. И кто по слабости воли уступит его льстивому настоянию, тот придет не к самоизображению, а к самоапофеозу или самообороне. Поэтому каждая честная автобиография вместо простого и беззаботного повествования требует постоянной настороженности перед возможным нападением тщеславия, упорной защиты от неудержимого стремления земной природы оправдать себя в изображении пред лицом мира; тут, кроме честности художника, нужно еще особенное, встречающееся у одного среди миллионов мужество, ибо никто не может проконтролировать и дать очную ставку правдивости собственного «я»; свидетель и судья, обвинитель и защитник соединяются в одном лице.
Для этой неизбежной борьбы с самообманом нет совершенной брони. Как в каждом военном ремесле для самой крепкой кирасы находится еще более крепкая, пробивающая ее пуля, так при каждом познавании сердца совершенствуется и ложь. Если человек решительно захлопывает дверь перед ней, она станет увертливой, как змея, и пролезет в щель. Если он психологически проанализирует ее козни и ухищрения, чтобы дать им отпор, она несомненно научится новым, более ловким уверткам и контратакам; как пантера, она вероломно прячется в темноте, чтобы коварно выскочить при первой же неосторожности; вместе с ростом способности познания и психологического нюансирования в человеке утончается и возвышается искусство самообмана. Пока с истиной обращаются грубо и неуклюже, и ложь остается неуклюжей и легко уловимой; только у человека, стремящегося к тонкостям познавания, она становится изощренной, и распознать ее сумеет лишь много познавший, ибо она прячется в запутаннейшие, отважнейшие формы обмана, и самая опасная ее личина – это искренность. Как змеи охотнее всего прячутся под камнями и скалами, так и самая опасная ложь чаще всего гнездится в великих, патетических, мнимогероических признаниях; в каждой автобиографии, именно в тех местах, где повествователь особенно смело и неожиданно обнажается и нападает на себя, приходится быть настороже, – не пытается ли эта бурная исповедь спрятать за покаянными ударами в грудь утаенное признание: в исповеди бывает иногда некоторая крикливость, почти всегда указывающая на тайную слабость. К основным тайнам стыда надо отнести свойство человека охотнее обнажать самое ужасное и самое отвратительное, чем ничтожнейшую черточку характера, выставляющую его в смешном виде: страх перед иронической улыбкой является всегда и везде самым опасным соблазном для каждой автобиографии. Даже такой проникнутый стремлением к истине автобиограф, как Жан-Жак Руссо, с подозрительной основательностью выложит все свои сексуальные извращения и будет искренне раскаиваться в том, что он, автор «Эмиля», знаменитого трактата о воспитании, дал своим детям погибнуть в приюте, в действительности же за этим мнимогероическим признанием скрывается более человечное, но и более трудное, – что у него, вероятно, никогда не было детей, ибо он не способен был их прижить. Толстой охотнее назовет себя в своей исповеди блудником, разбойником, вором, изменником, чем хоть одним словом сознается, что всю свою жизнь не признавал своего великого соперника Достоевского и невеликодушно поступал по отношению к нему. Спрятаться за раскаянием, умалчивать, признаваясь, – это самый ловкий, самый лживый трюк самообмана в самоизображении. Готфрид Келлер однажды зло посмеялся над этим обходным маневром всех автобиографов: «Один сознавался во всех семи смертных грехах и скрыл, что у него на левой руке только четыре пальца; другой описывает и перечисляет все пятна и родинки на своей спине, но молчит, как могила, о том, что лжесвидетельство отягощает его совесть. Если я подобным образом сравню их всех с их правдивостью, которую они считали кристально чистой, я должен буду спросить себя: „Существует ли правдивый человек и может ли он существовать?“»
.....