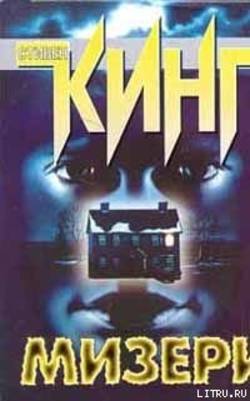Читать книгу Мизери - Стивен Кинг - Страница 1
ОглавлениеКогда ты заглядываешь в бездну, сама бездна заглядывает в тебя.
Фридрих Ницше
1
Коричневый ухмнннн
Йерннн коричневый ухмнннн
Фэйунннн
Вот такие звуки: даже в дымке.
2
Но иногда звуки – как и боль – отступали, и оставалась только дымка. Он помнил темноту: дымке предшествовала плотная темнота. Означает ли это, что состояние его улучшается? Он видит свет (пускай сквозь дымку), а свет – это хорошо, и т. д, и т. п., так? А во тьме были эти звуки? Он не знал ответов на эти вопросы. Есть ли смысл спрашивать? И на этот вопрос он не знал ответа.
Боль помещалась глубже, под звуками. К востоку от солнца и к югу от его ушей. Вот и все, что ему было известно.
В течение какого-то времени, очень долгого, как ему казалось (и в самом, деле долгого, так как существовали только боль и дрожащая, как будто от ветра, дымка), внешняя вселенная состояла только из этих звуков. Он не знал, кто он и где находится, да и знать не хотел. Хорошо было бы умереть, но сквозь болевую дымку, окутавшую его сознание подобно летней грозовой туче, он не отдавал себе отчета, желает ли он смерти.
Время шло, и он усвоил, что боль периодически оставляет его. Когда он в самый первый раз вынырнул из непроглядной черноты, которая предшествовала дымке, к нему пришла мысль, не имевшая никакого отношения к его теперешнему положению. Мысль об обломке деревянного столба, торчавшем из песка на пляже Ривер-Бич. Когда он был маленьким, отец с матерью часто брали его с собой на Ривер-Бич, и он всякий раз настаивал, чтобы родители разложили плед так, чтобы можно было лежать на нем и смотреть на этот обломок, который казался мальчику клыком погребенного под песком чудовища. Ему нравилось сидеть и смотреть, как прилив наступает на берег и в конце концов накрывает деревяшку целиком. А потом, несколько часов спустя, когда уже съедены все сандвичи и весь картофельный салат, когда в отцовском термосе не осталось ни капли и когда мама уже готова сказать, что пора собираться домой, обломанная верхушка полусгнившего дерева вновь показывалась над поверхностью воды. Сначала выглядывал только острый край, и его накрывало прибоем, потом дерево все больше и больше высовывалось из воды. К тому времени, как его родители выбрасывали мусор в большую круглую урну с надписью СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ НА ПЛЯЖЕ, собирали игрушки Поли
(это меня зовут Поли я – Поли я сегодня обгорел и вечером ма смажет меня маслом «Джонсонз бэби» – пронеслась мысль в той темной грозовой туче, внутри которой он сейчас жил)
и складывали плед, деревянный столб, почерневший и скользкий, уже почти целиком торчал из воды, и на его боках там и сям белела пена. Отец пытался тогда объяснить, что это прилив, но он-то всегда знал, что это столб. Прилив приходит и уходит, а столб остается. Просто иногда его не видно. Без столба прилива не бывает.
Воспоминание ползало по кругу, как сонная муха, и сводило его с ума. Он принялся было отыскивать в нем смысл, но тут вмешались звуки.
Фэйунннн
Крррасное все крррасннное
Коричневый ухмнннн
Время от времени звуки прекращались. Время от времени прекращался он.
Первое его явственное воспоминание о нынешнем времени, о времени, проведенном в грозовой туче, было воспоминанием о прекращении, о мгновениях, когда он сознавал, что не может сделать вдох, и в этом нет ничего страшного, так и должно быть, так и полагается, собственно говоря: он только рад выйти из игры.
А потом над ним возник чей-то рот, несомненно, женский, хотя губы были жесткие, сухие, и этот рот принялся дуть в его рот, накачивая воздух ему в легкие, и когда эти чужие губы отодвинулись, он впервые почувствовал запах своей тюремщицы, почувствовал запах ее дыхания, запах воздуха, который она вдыхала в него против его воли; с такой вот силой мужчина проникает в женщину, которая не желает соития. Этот запах сложился из жуткой смеси ароматов ванильного печенья, мороженого в шоколаде, жареного цыпленка и арахисового масла.
Ее голос заорал над его ухом:
– Дыши, черт побери! Дыши, Пол! И те губы опять сомкнулись с его губами. В его горло снова потекла струя воздуха. Влажная струя, такая несется вслед за мчащимся поездом и тащит за собой обрывки газет и конфетные обертки: потом губы отпрянули, и он подумал: Господи, не надо больше, мой нос не выдержит, но он ничего не мог поделать, и некуда было деваться от этого смрада, смрада, от этого проклятого СМРАДА.
– Дыши, черт тебя подери! – кричал невидимый голос, и он думал: Хорошо, я буду дышать, все, что угодно, пожалуйста, только не делай этого больше, не заражай меня, и он даже попытался вдохнуть, но не успел, потому что ее губы, сухие и холодные, как кусок подсоленной кожи, опять соединились с его губами и выдыхаемый ею воздух снова наполнил его.
Когда она в очередной раз убрала губы, он не просто выпустил воздух из легких, а вытолкнул его и тут же самостоятельно сделал глубокий вдох. Выдохнул. И замер в ожидании, что его грудь (он пока не мог ее видеть) поднимется сама, как поднималась всю жизнь безо всяких усилий с его стороны. Но грудь не поднялась, и тогда он снова набрал в легкие воздуха и задышал сам, как можно чаще, чтобы ее запах выветрился поскорее из его тела.
Никогда прежде обыкновенный воздух не казался ему таким чудесным.
Он опять стал проваливаться в туман, но пока окружающий мир окончательно не скрылся во мгле, услышал, как какая-то женщина сказала:
– Ух! А ведь совсем близко был.
Не так, уж и близко, подумал он и уснул. Ему снился обломок деревянного столба, настолько настоящий, что он, пожалуй, смог бы дотянуться до него и прикоснуться ладонью к зеленовато-черному шершавому боку.
Снова возвратившись в прежнее состояние полусознания, он сумел обнаружить связь между обломком столба и своим нынешним положением – боль тоже наплывала на него. Впрочем, его боль похожа не на морской прилив. Он извлек урок из сновидения, которое на самом деле было воспоминанием. Ему только казалось, что боль накатывает и уходит. Боль похожа на тот столб, который всегда на месте, его лишь не видно время от времени. Когда боль не погружала его сознание в каменно-серое облако, он молча благодарил ее, но теперь его уже нельзя обмануть: она все еще здесь и скоро покажется. И столбов теперь два, вместо одного; боль – это два столба, и какая-то частица его разума давно знала тот факт, который лишь много позже стал достоянием основной части сознания: два поломанных столба – это две его искалеченные ноги.
Лишь спустя долгое время ему удалось освободиться от засохшей на губах чужой слюны и прохрипеть:
– Где я?
У его кровати сидела женщина с книжкой в руках. На обложке стояло имя автора – Пол Шелдон. Ему удалось вспомнить, что это имя – его собственное, и он не удивился такому открытию.
Когда он наконец выговорил свой вопрос, женщина ответила:
– Сайдвиндер, штат Колорадо. – И добавила:
– Меня зовут Энни Уилкс. Я…
– Знаю, – перебил он. – Вы – моя самая большая поклонница.
– Да, – подтвердила она, улыбаясь. – Именно так.
3
Темнота. За ней – боль и туман. А потом – осознание того, что боль хотя и не прекращается, зато время от времени как будто нехотя идет на перемирие и прячется, и тогда наступает облегчение. Первое истинное воспоминание: задержка, а затем – насильственное возвращение в жизнь при посредстве пакостного женского дыхания.
И следующее подлинное воспоминание: ее пальцы время от времени проталкивают ему в рот что-то вроде капсул «контака», а воды не дают, и капсулы эти тают во рту: они очень горькие, вкус их отдаленно напоминает вкус аспирина. Хорошо было бы эту горечь выплюнуть, но он понимал, что все же не стоит этого делать. Потому что горькие капсулы и были тем приливом, который заливал черный столб
(нет СТОЛБЫ их ДВА ладно их два хорошо теперь ты помолчишь ш-ш-ш)
и вроде бы заставлял его исчезнуть на время. Боль теперь не прекращалась, а как бы стачивалась через большие промежутки времени (так же, должно быть, постепенно стачивался и тот столб на пляже Ревир-Бич, ибо ничто на Земле не вечно, хотя маленький мальчик, каким он тогда был, наверняка посмеялся бы над столь дикой мыслью), и окружающие предметы стали быстро приобретать привычный облик, и наконец весь внешний мир, а также собственные воспоминания, опыт, предрассудки снова заняли свое место в его сознании. Его зовут Пол Шелдон, он писатель, пишет романы двух сортов: хорошие романы и бестселлеры. Он дважды был женат и дважды разводился. Он слишком много курит (точнее, курил до последних событий, в чем бы эти «последние события» ни заключались). С ним случилось что-то очень плохое, но он все-таки жив. И это темное облако тает. Еще не скоро его самая большая поклонница принесет ему старую механическую пишущую машинку «Ройал», которая, как ему покажется, ухмыльнется и заговорит с ним голосом Дакки Дэддлса. Но задолго до этого Пол поймет, что чертовски влип.
4
Какая-то часть его мозга, способная к предвидению, позволила ему разглядеть ее еще до того, как он ее увидел, и где-то в подсознании он понял ее раньше, чем стал понимать разумом, – иначе с чего бы у него возникли такие жуткие, даже зловещие ассоциации? Когда она входила в комнату, перед ним тут же возникали образы африканских языческих идолов, описанных в романах Генри Райдера Хаггарда,[1] он думал о каменных гробницах, о неумолимом роке.
Нелепо было уподоблять Энни Уилкс языческой богине из романов «Она» и «Копи царя Соломона», но в то же время сравнение почему-то представлялось уместным. В фигуре этой крупной женщины, казалось, не было ни единой плавной линии – ни округлостей бедер, ни очертаний ягодиц, ни даже икр ниже ее вечных шерстяных юбок, которые она неизменно носила в помещении (а прежде чем выйти на улицу, уходила в свою невидимую спальню и там натягивала джинсы). Обширное, но скудное тело. При взгляде на нее невольно приходили в голову мысли об узелках и шишках, а не о соблазнительных пространствах женской плоти.
Его раздражало, что она представлялась ему твердой, словно в ней не было кровеносных сосудов, а может быть, и внутренних органов; она казалась ему цельной, как бы высеченной из единой глыбы фигурой по имени Энни Уилкс. В нем постепенно крепла уверенность, что ее глаза нарисованы и не движутся вовсе, как глаза портрета, которые словно наблюдают за тобой, в какой бы точке комнаты ты ни находился. Ему приходила в голову мысль, что, если он выставит два пальца рогаткой и ткнет ими в ее ноздри, пальцы его пройдут внутрь разве что на одну восьмую дюйма, а потом соприкоснутся с твердым (ну, чуть-чуть упругим) препятствием: даже ее серый шерстяной джемпер и старушечьи юбки составляли одно целое с твердым, жилистым телом. Потому и неудивительно, что она казалась ему похожей на языческого идола из приключенческого романа. Как идол она внушала только одно: смущение, постепенно переходящее в ужас. При виде идола все прочие чувства пропадают.
Впрочем, постойте, не совсем так. Он получал от нее кое-что еще. Таблетки, помогавшие волне захлестнуть те столбы.
Таблетки – это волна; Энни Уилкс – луна, чьи передвижения вызывают прилив. Она приносит ему по две капсулы каждые шесть часов. Сначала он ощущал лишь, как два пальца проталкивают капсулы ему в рот (и очень скоро понял, что лучше охотно глотать то, что ему дают эти пальцы, несмотря на горький вкус во рту), потом научился воспринимать ее джемпер и каждую из полудюжины юбок; он заметил, что под мышкой у нее, как правило, бывал зажат один из его романов в мягкой обложке. По ночам она являлась в розовом пушистом халате – и лицо ее блестело от крема (ему ни разу не приходилось видеть баночку, но он мог бы с легкостью назвать основной ингредиент этого крема: резкий запах ланолина был очень красноречив) – расталкивала его, выдергивала из мутной, отягощенной сновидениями дремоты и протягивала на ладони таблетки, а из-за ее массивного плеча в окно заглядывала безносая луна.
Спустя некоторое время – когда тревога приобрела такие масштабы, что стало невозможно не обращать на нее внимания, – он сумел узнать, чем она его кормит. Обезболивающее на кодеиновой основе. Называется – новрил. Подкладывать ему судно чаще, чем раз в шесть часов, не имело смысла не только потому, что его рацион состоял исключительно из жидких и желеобразных продуктов (ранее, когда он существовал внутри черного облака, его питание осуществлялось при помощи внутривенных инъекций), но и из-за того же новрила: запор был побочным эффектом этого лекарства. Имелся и другой, более серьезный побочный эффект: препарат мог вызвать у особо чувствительных больных затрудненное дыхание. Пол не относился к числу особо чувствительных больных, но он очень много курил на протяжении почти восемнадцати лет, и по крайней мере один раз его дыхание остановилось: возможно, были и еще случаи, которых он, пребывая в густом мареве, не запомнил. А в тот раз ей пришлось делать ему искусственное дыхание рот в рот. Возможно, в тот раз просто проявился побочный эффект, но сам он впоследствии стал подозревать, что она дала ему лишнюю дозу. Она думала, будто всегда знает, что делает, но это не всегда соответствовало истине. И в этом заключалась одна из причин, по которым он боялся Энни.
Приблизительно через десять дней после исчезновения темного облака он обнаружил (почти одновременно) три обстоятельства. Первое: у Энни Уилкс имеется большой запас новрила (и всяких других лекарств у нее хватает). Второе: у него развилась зависимость от этого препарата. И третье: Энни Уилкс помешанна и опасна.
5
Боли и грозовой туче предшествовала мгла: когда Энни рассказала ему о том, что с ним случилось, он начал припоминать, что же предшествовало мгле. Произошло это вскоре после того, как он задал вопрос, традиционный для всех, кто приходит в сознание после долгого перерыва, и она ответила, что он находится в маленьком городке Сайдвиндер, штат Колорадо. Затем она добавила, что прочла все восемь его романов, а самые любимые романы из серии о Мизери прочла четыре, пять, а то и шесть раз. Ей бы очень хотелось, чтобы он писал быстрее. Она сказала, что едва поверила, что ее пациентом является тот самый Пол Шелдон, даже после того, как своими глазами увидела удостоверение личности, лежавшее у него в бумажнике.
– Кстати, а где мой бумажник? – спросил он.
– Я взяла его на хранение. – Ее улыбка внезапно исчезла, и появившееся на лице настороженное выражение совсем ему не понравилось; оно было похоже на глубокую расселину, которой почти не видно среди травы и цветов. – Вы думаете, я оттуда что-нибудь украла?
– Что вы, конечно, нет. Дело в том, что… – Дело в том, подумал он, что там сейчас все, что осталось от моей жизни. Там моя жизнь вне этой комнаты. Вне боли. Вне этого времени, что тянется, как длинная розовая жвачка. Потому что до таблеток остался всего час или около того.
– Так в чем же дело, мистер? – настойчиво переспросила она, и он с тревогой заметил, что взгляд ее узких глаз становится мрачнее. Расселина делалась шире, словно в ее голове в эту минуту происходило землетрясение. За окном пронзительно завывал ветер, и ему вдруг представилась картина: она поднимает его с кровати, швыряет через плечо, он падает на пол возле стены, как мешок с картошкой, а потом она выволакивает его на улицу и бросает в сугроб. Он, конечно, замерзнет, но прежде, чем он умрет, острая пульсирующая боль охватит его ноги.
– Дело в том, что отец всегда советовал мне держать бумажник при себе, – произнес он, удивляясь, с какой легкостью ему удалось солгать. В свое время отец виртуозно научился не замечать Пола – за исключением тех случаев, когда было просто необходимо обратить на него внимание. Насколько Пол мог припомнить, отец лишь однажды соизволил дать ему совет. Когда Полу исполнилось четырнадцать лет, отец подарил ему на день рождения презерватив «Красный дьявол» в упаковке из фольги. «Положи это в бумажник, – сказал Роджер Шелдон, – и если окажется, что ты чувствуешь возбуждение, когда вставляешь, выбери мгновение, когда ты уже достаточно возбужден, чтобы хотеть, и недостаточно возбужден, чтобы плюнуть на последствия. В этом мире и так хватает ублюдков, и мне не хотелось бы, чтобы ты в шестнадцать лет мог назвать себя отцом». Вслух Пол добавил:
– Я думаю, он столько раз повторял мне, чтобы я держал бумажник при себе, что эта фраза навсегда отпечаталась в моем сознании. Очень прошу меня простить, если я вас оскорбил.
Она успокоилась. Улыбнулась. Расселина исчезла. На ее месте вновь кивали головками яркие полевые цветы. Он подумал, что если сейчас ощупать ее лицо, то под улыбкой обнаружится упругая темная масса.
– Вы меня не обидели. Бумажник в надежном месте. Подождите-ка, у меня для вас кое-что есть.
Она вышла и тут же вернулась с миской дымящегося овощного супа. Он не мог сейчас много есть, но в этот раз съел больше, чем ожидал. Она кормила его с ложки и рассказывала о том, что произошло, и пока она говорила, он все припоминал. Он решил: если уж приходится валяться с переломанными ногами, не мешает знать, что его к этому привело. Но вот способ получения информации его раздражал: как будто он – персонаж книги или пьесы и события его жизни представляют собой не реальную историю, а чей-то вымысел.
Итак, примерно две недели назад эта женщина отправилась на машине в Сайдвиндер, чтобы обзавестись кое-какими продуктами и кормом для скота… и посмотреть новые книжки в аптеке Уилсона[2] – дело было в среду, а книжки привозят по вторникам.
– Я как раз думала о вас, – сказала она и ловким профессиональным движением промокнула уголки его рта салфеткой. – Представляете, какое интересное совпадение! Я надеялась, что «Сын Мизери» уже вышел, но мне не повезло.
Она сказала, что в пути ее застигла гроза, хотя до самого полудня метеорологи уверенно утверждали, что гроза должна разразиться южнее, в районе Нью-Мексико и Сангре-де-Кристо.[3]
– Да-да, – сказал он и вспомнил тот день. – По радио твердили, что гроза пройдет стороной. Я главным образом потому и поехал.
Он попытался шевельнуть ногой. Ногу немедленно пронзила вспышка боли, и он застонал.
– Не надо, – сказала она. – Пол, если ваши ноги сейчас заговорят, вам уже не удастся заставить их замолчать… А таблетки я вам смогу дать только через два часа. Я и так вам даю слишком много.
Почему я не в больнице? Этот вопрос напрашивался, но Полу казалось, что ни ему, ни ей не хочется, чтобы он был задан вслух. По крайней мере сейчас.
– Когда я зашла в магазин за кормом, Тони Роберте сказал, чтобы я шевелилась, если хочу вернуться домой до грозы, и я ответила…
– Далеко отсюда до города? – перебил он.
– Прилично, – неопределенно ответила она, глядя в окно. В наступившем молчании Пол взглянул на ее лицо и испугался, ибо увидел пустоту на ее лице: черная расселина затаилась на альпийском лугу – черное ничто, где не растут цветы; если упасть в эту черноту, то лететь, вероятно, придется долго. Перед ним было лицо женщины, которая внезапно утратила всякую связь с собственным прошлым: лицо женщины, которая не просто забыла то, что необходимо помнить, а безнадежно утратила память как таковую. Однажды ему довелось посетить лечебницу для душевнобольных – это было много лет назад, когда он собирал материал для «Мизери значит несчастье», первой из четырех книг, которые в последние восемь лет служили основным источником его доходов, – там-то он и видел подобное выражение… точнее, отсутствие выражения. Такое состояние называется термином кататония, но то, что пугало его, не имело точного названия, пожалуй, у него было лишь смутное ощущение, что ее разум стал таким, каким он представлял себе ее тело: твердым, жилистым, лишенным каких-либо каналов или полостей.
Затем ее лицо начало медленно проясняться. Мысли как будто стали вплывать обратно. Неожиданно он осознал, что слово вплывать не совсем верное. Она не наполнилось чем-то, как резервуар или пруд, она, скорее, разогрелась. Да-да, она разогревается, как какой-нибудь электроприбор. Как тостер или, скажем, электрообогреватель.
– И я сказала Тони, что гроза уйдет к югу.
Сначала она говорила очень медленно, как в полусне, а потом ее речь обрела нормальный темп и нормальные разговорные интонации. Но теперь он был начеку. Все, что она говорила, казалось немного не правильным. Речь Энни можно было сравнить с мелодией, сыгранной в неверном ключе.
– Но он ответил: «Нет, она передумала». Я говорю: «Ах черт! Тогда я запрягаю тачку и еду». А он: «На вашем месте я бы лучше в городе остался, мисс Уилкс. По радио говорят, будет настоящий буран». Но мне, конечно, надо было возвращаться – иначе кто покормит скотину? Ближайшие соседи – Ройдманы, и от них досюда несколько миль. Кстати, Ройдманы меня и не любят…
Сказав последнюю фразу, Энни глянула на него в упор, но так как он промолчал, она властным жестом положила ложку на край миски.
– Вы наелись?
– Да, спасибо, я уже сыт. Было очень вкусно. А много у вас животных?
Это важно, думал он, потому что если скотины, много, значит, тебе нужна помощь. По крайней мере приходящий работник. Помощь – вот главное слово. Он заметил, что обручального кольца у нее нет.
– Не то чтобы очень, – ответила она. – Полдюжины кур-несушек. Две коровы. И Мизери. Он моргнул. Она рассмеялась:
– Вам я, должно быть, кажусь сволочью, раз назвала свинью именем той замечательной женщины, которую вы описали. Но так уж ее зовут, и я никого не хотела обидеть. – Подумав, она добавила:
– И она такая ласковая. – Потом Энни сморщила нос и на мгновение превратилась в свинью: он даже заметил у нее на подбородке несколько жестких щетинок. Она хрюкнула. Пол в изумлении уставился на нее. Она ни на что не обращала внимания. Она снова испарилась, глаза ее сделались мутными, и только свет торшера, стоящего у кровати, слабо отражался в них.
Наконец она пришла в себя и тихо заговорила вновь:
– Я проехала миль пять, а потом повалил снег. Все очень быстро занесло, в этих краях так всегда бывает. Я ехала вперед и вдруг увидела у дороги вашу перевернутую машину. – Она с укором взглянула на него. – Вы даже фары не включили.
– Это случилось неожиданно, – сказал он, так как именно в этот момент вспомнил, что это случилось неожиданно. Он пока не помнил, что был тогда здорово пьян.
– Я остановилась. – продолжала она. – Если бы в том месте был подъем, я могла бы и не остановиться. Понимаю, это не по-христиански, но на дорогу намело уже три дюйма снега, и если остановиться, то легко можно застрять. Гораздо проще сказать себе: «Ну, они, наверное, выбрались из машины, уехали на попутной», и так далее. Но ваша машина была уже за Ройдманами, а там идет ровный участок. Так что я подошла и сразу услышала стон. Это вы стонали. Пол.
Она одарила его странной, материнской улыбкой.
И в первый раз в мозгу Пола Шелдона отчетливо возникла мысль: Я в беде. С этой женщиной не все в порядке.
6
Она сидела рядом с ним в просторной комнате, вероятно, спальне, еще минут двадцать и говорила. По мере того как его организм усваивал съеденный суп, боль в ногах просыпалась. Он старался сосредоточиться на том, что она говорит, но это ему удавалось не в полной мере. Его разум как будто раздвоился. С одной стороны, он слушал ее рассказ о том, как она выволокла его из разбитого «Камаро-74», и одновременно чувствовал, как пульсирующая боль – два старых деревянных столба – выходит на поверхность воды в час отлива. С другой стороны, он представлял себя в номере отеля «Боулдерадо», где он заканчивал новый роман, на сей раз – хвала Создателю за Его маленькие милости – не посвященный Мизери Честейн.
У него имелось множество причин не писать больше о Мизери, но среди этих причин была одна, затмевающая все прочие, железная и безусловная. Мизери – хвала Создателю за Его великие милости – умерла за пять страниц до конца романа «Сын Мизери». Когда это произошло, все были в слезах, в том числе и сам Пол, правда, он плакал от истерического хохота.
Заканчивая новую книгу, роман об угонщике автомобилей, он вспоминал, как печатал последнюю фразу «Сына Мизери»: «Так Йен и Джеффри покинули Литтл-Данторп, поддерживая друг друга в печали, исполненные решимости вновь обрести собственную жизнь». Когда он печатал эту фразу, то так смеялся, что ему трудно было находить нужные клавиши на клавиатуре машинки, и несколько раз пришлось исправлять ошибки. Хвала Создателю за то, что фирма Ай-би-эм разработала специальные приспособления для быстрой замены текста.
Затем Пол напечатал слово КОНЕЦ и заметался по комнате (дело происходило все в том же номере отеля «Боулдерадо»), выделывая антраша и вопя:
– Свободен! Наконец-то свободен! Господи Всемогущий, наконец-то я свободен! Эта дура наконец купила ферму!
Новый роман носил название «Быстрые автомобили», и, завершив его. Пол не смеялся. Он лишь просидел несколько секунд за машинкой, думая: На будущий год ты, друг мой, вполне можешь получить Литературную премию Америки. А потом он поднял…
– …шрам на правом виске, но это ничего. А вот ваши ноги… Уже темнело, но я даже не наклоняясь увидела, что ваши ноги не…
…трубку и заказал в номер бутылку «Дом Периньон». Он вспомнил, как, дожидаясь шампанского, вышагивал тогда взад и вперед по комнате, в которой писал все свои книги начиная с 1974 года; вспомнил, что дал коридорному на чай купюру в пятьдесят долларов и спросил его, не слышал ли тот прогноза погоды; вспомнил, как довольный, польщенный, ухмыляющийся коридорный сказал, что ожидалась гроза, но тучи должны сместиться к югу, в сторону Нью-Мексико; вспомнил прохладную бутылку, сухой хлопок пробки; вспомнил, как отхлебнул кисловато-терпкое вино, открыл дорожную сумку и нашел авиабилет до Нью-Йорка; и еще вспомнил, как внезапно, в то самое мгновение, он решил…
– …что я лучше отвезу вас к себе! Тащить вас было трудновато, но я женщина крупная – вы, должно быть, сами заметили, – а на заднем сиденье у меня как раз лежали одеяла. Я втащила вас в машину, завернула в них, и уже тогда, хоть и в сумерках, мне показалось, что я вас знаю! Я подумала, может…
…он просто выведет свой «камаро» из гаража и поедет на запад, и черт с ним, с самолетом. Да и что он забыл в Нью-Йорке? В городском доме сейчас тоскливо, пусто, холодно, мрачно, а может, туда уже и воры забирались. Хрен с ним, подумал он и выпил еще шампанского. На запад, парень, гони на запад! Безумная идея, а значит, что-то в ней есть. Значит, остается только переодеться, взять…
– …сумку я нашла и тоже положила к себе в машину, а больше ничего не разглядела, и еще я боялась, что вы тут у меня на руках умрете, так что я завела старушку Бесси и…
…рукопись «Быстрых автомобилей» и ехать в Вегас, Рино или даже в Город Ангелов.[4] Он вспомнил, что вначале эта мысль показалась ему довольно дикой – в такое путешествие мог бы, пожалуй, отправиться двадцатичетырехлетний мальчишка, каким он был, когда продал издателю свой первый роман, а не мужчина, которому два года назад исполнилось сорок. Но после нескольких бокалов шампанского эта идея уже не казалась дикой. Скорее, она казалась благородной. Великая Одиссея Куда-Нибудь, способ вернуться к реальной жизни из царства вымысла. И он отправился…
–..как молния! Я была уверена, что вы умираете… Ну то есть совершенно уверена! Так что я достала у вас из заднего кармана бумажник, посмотрела на ваши водительские права, прочитала имя – Пол Шелдон – и подумала: вот совпадение. Но фотография была похожа на вас, и я тогда так перепугалась, что пошла в кухню и присела у стола. Я сначала думала, в обморок упаду. А потом все же решила, что фотография – тоже, наверное, совпадение, ведь на этих фотографиях, что лепят на документы, вообще никого узнать нельзя, но потом мне попались ваш членский билет писательской ассоциации и карточка ПЕН-клуба, и тогда я поняла, что вы…
…неприятности, когда пойдет снег, но сначала он зашел в бар в «Боулдерадо», дал Джорджу на чай двадцать баксов, и тот принес ему еще бутылку «Дом Периньон», которую он и выпил, двигаясь по шоссе И-70 под серым, цвета ружейной стали, небом, и где-то к востоку от туннеля Эйзенхауэра свернул с главной магистрали, так как все дороги были сухими, грозовые тучи двигались на юг, да и въезжать в чертов туннель не хотелось. Он врубил старую запись Бо Диддли и не включал радио: однако мало-помалу машину стало все сильнее заносить, и наконец он понял, что дело не в случайных порывах ветра, что положение гораздо серьезнее; тучи, вероятно, не ушли на юг; вероятно, они оказались как раз над его головой, и теперь у него могут возникнуть проблемы,
(как раз теперь у него полно проблем)
но он был уже достаточно пьян и потому решил, что справится. Поэтому он не остановил «камаро» в Кане и не стал искать убежища, а поехал дальше. Он вспомнил, как надвинулись тускло-серые, как бы хромированные сумерки. Вспомнил, как шампанское вроде бы начало выветриваться. Вспомнил, как наклонился вперед, чтобы достать сигарету, и именно тогда машину стало заносить в последний раз; он вывернул руль, но с управлением не справился; еще он вспомнил сильный тупой удар, и мир перевернулся. Он начал…
–..кричать! И когда я услыхала, как вы кричите, то поняла, что вы будете жить. Умирающие почти никогда не кричат. У них сил нет. Я знаю. И я решила, что заставлю вас жить. Так что я нашла обезболивающее и заставила вас проглотить. Потом вы заснули. А когда проснулись и опять стали кричать, я дала вам еще дозу лекарства. У вас поднялась температура, но я ее быстро сбила. Я вам давала кефлекс. Раз или два вы были на грани, но теперь все прошло. – Она поднялась. – А теперь. Пол, вам пора отдыхать. Надо набираться сил.
– Ноги болят.
– Правильно. Через час можно будет принять лекарство.
– Нет, сейчас. Пожалуйста. – Ему было стыдно умолять ее, но он не мог сдержать себя. Настал отлив, море отступило, прогнившие столбы, до жути реальные, торчали над берегом, и с их существованием невозможно было не считаться.
– Через час. – Она не дрогнула. Просто пошла к двери с миской и ложкой в руке.
– Подождите!
Она обернулась и поглядела на него сурово и в то же время нежно. Ему не понравилось выражение ее лица. Совсем не понравилось.
– Так вы меня подобрали две недели назад?
Теперь у нее снова было опустошенное и злое лицо. Ему еще придется узнать, что она плохо ориентируется во времени.
– Вроде того.
– И я был без сознания?
– Почти все время.
– Что же я ел?
– Внутривенно, – пристально посмотрев на него, коротко ответила она.
– Внутривенно? – переспросил он, и она решила, что его тон выражает не удивление, а непонимание.
– Я вводила вам пищу в вену, – объяснила она. – По трубкам. У вас следы на руках. – Она смотрела на него, и взгляд ее вдруг стал острым и оценивающим. – Вы обязаны мне жизнью, Пол. Надеюсь, вы будете об этом помнить. Надеюсь, это останется в вашей памяти.
И она вышла из комнаты.
7
Час прошел. Так или иначе, но этот час прошел. Он лежал в постели, обливался потом и в то же время дрожал. Из соседней комнаты доносилась мелодия «Ястребиного глаза», затем ее сменили «Жаркие губы», а потом он услышал голоса диск-жокеев с WKRP, бешеной радиостанции Цинциннати. После этого голос диктора известил всех жителей Колорадо, мечтающих о наборе первоклассных ножей, что их звонков С Нетерпением Ожидают по телефону 800.
Пол Шелдон тоже С Нетерпением Ожидал. Как только часы в соседней комнате пробили восемь, появилась Энни с двумя капсулами лекарства и стаканом воды.
Она присела на его кровать, а он нетерпеливо приподнялся на локтях.
– Два дня назад я наконец-то получила вашу новую книжку, – сообщила она. В стакане звякнули кубики льда. От этого звука можно сойти с ума. – «Сын Мизери». Она мне очень нравится… как и все остальные. Она даже лучше. Лучше всех!
– Благодарю, – с трудом выговорил он. Пот стекал по лбу, и он это чувствовал. – Пожалуйста… Ноги… Очень больно…
– Я так и знало, что она выйдет замуж за Йена, – произнесла она, мечтательно улыбаясь, – и я думаю, что Джеффри и Йен должны опять стать друзьями. Ведь так и будет? – И тут же перебила себя:
– Нет-нет, не говорите! Я хочу узнать сама. Каждый раз приходится очень долго ждать, пока появится продолжение.
Пульсирующая боль поднималась вверх, и в пах словно впился железный крюк. Он уже успел убедиться, что мошонка не пострадала, но ощущения были таковы, как будто ее скрутили и долго мяли. А ниже колен, похоже, не осталось живого места. Он даже не хотел смотреть. С него хватало того, что он видел: кривые неровные очертания под одеялом.
– Пожалуйста, мисс Уилкс. Больно…
– Зовите меня Энни. Меня так все друзья называют.
Она протянула ему запотевший от холода стакан. А капсулы остались у нее. Она была для него луной, чье притяжение вызывает прилив, который накроет гнилые столбы. Она поднесла лекарство к его лицу (он немедленно раскрыл рот)… и тут же убрала.
– Я позволила себе заглянуть в ваш портфель. Вы ведь не стали бы возражать?
– Нет. Конечно, нет. Лекарство…
Капли пота на лбу казались ему и холодными, и горячими. Наверное, очень скоро он закричит.
– Я увидела, что там у вас лежит рукопись, – продолжала она, медленно наклоняя раскрытую правую ладонь. Капсулы наконец соскользнули с нее и упали в левую руку. – Она называется «Быстрые автомобили». Это не о Мизери, я поняла. – Она взглянула на него с легким неодобрением, впрочем, смешанном, как и в прошлый раз, с любовью. Она смотрела на него, как мать. – В девятнадцатом веке не было автомобилей, ни быстрых, ни любых других. – Собственная незамысловатая шутка понравилась ей, и она хихикнула. – И еще я позволила себе просмотреть ее… Вы не возражаете?
– Прошу вас, – взмолился он. – Не возражаю, но…
Ее раскрытая левая ладонь наклонилась, и капсулы с тихим щелчком перекатились на правую.
– А что, если я ее прочту? Вы не возражаете, если я почитаю?
– Нет… – Кости его разбились вдребезги, и в ноги вонзились бесчисленные осколки битого стекла. – Нет… – Он попытался улыбнуться, отчаянно надеясь, что ему это удастся. – Нет, конечно, нет.
– Дело в том, что я никогда бы не решилась так поступить без вашего позволения, – серьезно произнесла она. – Я слишком вас уважаю. По правде говоря, Пол, я ведь вас люблю. – Внезапно ее щеки вспыхнули тревожным малиновым цветом. Одна капсула упала с ее руки на одеяло. Пол потянулся за ней, но Энни оказалась проворнее. Он застонал, но она не обратила на это внимания, только подобрала капсулу и вновь посмотрела в окно отсутствующим взглядом. – Вашу фантазию, – сказала она. – Ваше творчество. Я только это имела в виду.
Он пробормотал в отчаянии, хотя думать мог лишь об одном:
– Я знаю. Вы – моя самая большая поклонница.
Она не просто разогрелась на сей раз: она вспыхнула.
– Точно! – выкрикнула она. – Вот именно! И вы не будете возражать, если такая… такая любящая поклонница почитает вашу новую книгу? Правда, ваши книги про Мизери нравятся мне больше других.
– Не возражаю. – проговорил он и прикрыл глаза. Не возражаю, хоть наделай из рукописи бумажных шляп, только… пожалуйста… я умираю.
– Вы очень добры, – мягко сказала она. – Я знала, что вы такой. Я вас таким и представляла, когда читала ваши книги. Человек, который придумал Мизери Честейн, то есть сначала придумал, а потом вдохнул в нее жизнь, не может быть другим.
Тут ее пальцы, такие невероятно близкие теперь и до отвращения желанные, оказались у него во рту. Он втянул в себя обе капсулы и проглотил их еще до того, как успел поднести к губам стакан с водой.
– Как маленький мальчик, – произнесла она; он не видел ее, так как до сих пор не открыл глаза, к которым уже подступили жгучие слезы. – Хороший мальчик. Я у вас столько всего хочу спросить… столько всего хочу узнать…
Она поднялась, и пружины кровати скрипнули.
– Нам будет хорошо здесь, – сказала она, но Пол так и не открыл глаза, хотя сердце его заколотилось в ужасе.
8
Он поплыл. Прилив вернулся, и он поплыл. Какое-то время в соседней комнате работал телевизор, а потом умолк. Время от времени били часы, и он старался сосчитать удары, но в промежутках проваливался в забытье. IV. Внутривенно. По трубкам! У вас следы на руках.
Он приподнялся на локте, потянулся к лампе и в конце концов сумел зажечь ее. Он взглянул на свои руки и увидел бледные розовато-коричневые пятна на локтевых сгибах, а в центре каждого пятна запеклась черная кровь.
Он снова лег и стал глядеть в потолок и прислушиваться к завываниям ветра. Итак, посреди зимы он оказался на пороге смерти наедине с женщиной, у которой не в порядке голова, которая вводила ему питательный раствор в вены, пока он лежал без сознания, и которая обладает, похоже, бесконечным запасом одурманивающих таблеток, и эта женщина не сообщила ни одной живой душе о том, что он находится здесь.
Все это важно, но он уже начинал понимать, что есть кое-что еще более важное: начинается отлив. Он принялся ждать звонка ее будильника.
Будильник наверху прозвонит очень не скоро, но уже пора ждать.
Она помешанна, но она нужна ему. В какое же неприятное положение я попал, подумал он и уставился невидящими глазами в потолок, а на лбу у него опять выступили капельки пота.
9
На следующее утро она снова принесла ему суп и сказала, что прочитала сорок страниц «книги-рукописи». Еще она сказала, что эта книга показалась ей хуже других.
– Тяжело следить за сюжетом. Рассказ скачет взад-вперед во времени.
– Это такой прием, – ответил Пол. Он находился где-то на полпути между настоящей болью и ее полным отсутствием, поэтому мог чуть лучше вникнуть в смысл ее слов. – Просто литературный прием. Персонаж… персонаж определяет форму повествования. – Он смутно предполагал, что рассказ о литературных приемах может заинтересовать ее, даже увлечь. Бог свидетель, когда он был помоложе, ему случалось читать лекции, и слушателей необыкновенно интересовала литературная кухня. – Понимаете, сознание мальчика взбудоражено, и вот…
– Вот именно! Он очень взбудоражен и из-за этого не так интересен. Не то чтобы он совсем неинтересен – я уверена, у вас не может быть неинтересных героев, – но не так интересен. А сколько грубостей! Ругательства попадаются через слово! В нем нет…
Она замолчала, подбирая слово и продолжая в то же время кормить его супом. При этом она регулярно вытирала ему рот, когда в углах скапливалась слюна. Делала она это почти не глядя, как опытная машинистка, печатая, почти не смотрит на клавиатуру, поэтому он догадался, что в свое время она была медсестрой. Не врачом, нет: врач не чувствует с такой точностью, в какой момент у пациента начинает течь слюна.
Если бы метеоролог, сказавший тогда в прогнозе, что гроза пройдет стороной, был таким же профессионалом в своем деле, как Энни Уилкс в своем, я не попал бы в эту проклятую дыру, с горечью подумал он.
– В нем нет благородства! – неожиданно выкрикнула она, подскочила на месте и чуть не пролила говяжий суп с перловой крупой ему на лицо.
– Согласен, – покорно произнес он. – Энни, я понимаю, что вы имеете в виду. Верно, благородства в Тони Бонасаро нет. Он – парень из трущоб и старается вырваться из дурного окружения, а эти слова… как вам сказать… их все говорят в той…
– Да нет же! – перебила она и метнула на него яростный взгляд. – Когда я приезжаю в город и иду в магазин, как вы думаете, что я там делаю? Что я, по-вашему, говорю? «Ну-ка, Тони, дай мне своего гребаного свиного корма, долбаной кукурузы и дерьмовых таблеток»? А он что должен ответить? «Хрен с тобой, Энни, вовремя ты пришла»?
Она снова взглянула на него; лицо ее было похоже на небо перед ураганом. Он испуганно откинулся на подушку. Суповая миска дрожала в ее руках. Одна капля упала на одеяло, за ней вторая.
– А потом я пойду в банк и скажу миссис Боллингер: «Тут у меня, бес его знает, какой-то чек, так что валяй, задница, выкладывай капусту, пятьдесят баксов, ну, шевелись»? И что, вы думаете, когда меня приводили к присяге в Ден…
Мутная струя говяжьего бульона хлынула на одеяло. Женщина молча наблюдала за ней, потом перевела взгляд на Пола, и лицо ее перекосилось.
– Эй! Поглядите, до чего вы меня довели!
– Я виноват…
– Конечно! Вы! Виноваты! – заорала она и швырнула миску в угол. Миска разбилась. Суп выплеснулся на стену. Шелдон ахнул.
Энни отвернулась. Она сидела молча секунд, наверное, тридцать, и в течение этого времени сердце Пола Шелдона, кажется, не билось вовсе.
Наконец она приподнялась и вдруг хихикнула.
– Такой вот у меня характер, – сказала она.
– Я виноват, – повторил он. Внезапно у него пересохло горло.
– И правильно. – Напряжение исчезло с ее лица, и она мрачно посмотрела в угол. Он решил, что сейчас она опять потеряет самообладание, но она только вздохнула и тяжело поднялась на ноги.
– В книгах про Мизери у вас не было необходимости употреблять такие слова, потому что люди в то время вообще так не говорили. Этих слов даже не знали тогда. Время волчье – и язык волчий, так я считаю, а тогда было хорошее время. Вы, Пол, обязаны вернуться к книгам про Мизери. Искренне вам говорю. Как ваша самая большая поклонница.
Она подошла к двери и обернулась:
– Я сейчас уберу вашу книгу-рукопись в ваш портфель и дочитаю «Сына Мизери». А потом, когда закончу, всегда смогу вернуться к той.
– Не надо, если она настолько выводит вас из себя, – возразил он и попытался улыбнуться. – Мне не хотелось бы, чтобы вы выходили из себя. Я вроде бы завишу от вас.
Она не улыбнулась в ответ!
– Да, – сказала она. – Вы от меня зависите. Вы зависите от меня. Пол, верно?
И она вышла из комнаты.
10
Наступила пора отлива. Столбы снова были здесь. Он уже ждал, когда пробьют часы. Когда часы пробьют два раза. Его голова покоилась на подушке, и он смотрел на дверь. Энни вошла. Поверх свитера и одной из своих обычных юбок она надела фартук. В руке у нее было пластмассовое ведро.
– Полагаю, вы бы не отказались от вашего любимого лекарства, – проговорила она.
– Да, прошу вас. – Он попытался заискивающе улыбнуться, и к нему вернулось дурацкое ощущение – он казался нелепым, чуждым самому себе.
– Оно у меня, – отозвалась она, – но сначала я должна убрать вот этот беспорядок в углу. Беспорядок, который устроили вы. Вам придется подождать, пока я не приберу.
Ноги под одеялом казались скрюченными ветками, а по щекам медленно стекали холодные струйки пота. Он лежал и смотрел, как она прошла в злополучный угол, поставила на пол ведро, собрала осколки суповой миски и выбросила их, затем выудила из ведра намыленную тряпку и начала отмывать стену от засохших остатков супа. Он лежал и смотрел, и вскоре его стала бить дрожь, а от дрожи усилилась боль. Один раз она оглянулась и увидела, что он дрожит и простыни промокли от пота. Тогда она одарила его слабой понимающей улыбкой, за которую он с радостью зарезал бы ее.
– Все засохло, – сказала она, снова поворачиваясь к нему спиной. – Боюсь, вам придется набраться терпения, Пол.
Она продолжала оттирать стену. Грязное пятно медленно исчезало с обоев, но она упорно мочила тряпку, выжимала и снова терла. Он не мог видеть ее лица, но мысль – уверенность, – что она отключилась и, возможно, будет мыть стену следующие несколько часов, сводила его с ума.
Наконец – как раз когда часы ударили один раз, отбивая половину третьего, – она поднялась и бросила тряпку в воду, затем, ни слова не говоря, вышла из комнаты с ведром в руках. А он все лежал и прислушивался к скрипу деревянного пола под ее тяжелыми, уверенными шагами. Вот она вылила воду из ведра, вот – невероятно, но факт – открыла кран, как будто захотела налить еще воды для продолжения уборки. Он принялся беззвучно плакать. Еще ни разу вода не отступала так далеко; ему ничего не было видно, кроме засыхающих комьев грязи и двух вечных изломанных столбов.
Она вернулась в комнату и помедлила на пороге, разглядывая его мокрое лицо все с тем же смешанным выражением строгости и материнской любви. Затем ее взор упал на стену, на которой не осталось ни единого пятнышка от пролитого супа.
– Теперь надо прополоскать, – заявила она, – иначе останется пятно. Я должна все привести в порядок. Если я живу одна, это еще не причина отлынивать от работы. Знаете, Пол, какое у моей матери было любимое выражение? Это и мой девиз. Она часто повторяла: «Раз оставишь грязь – чистоты не будет».
– Пожалуйста, – простонал он. – Я умираю… от боли.
– Не правда. Вы не умираете.
– Я закричу. – Он действительно был готов кричать, настолько ему было больно. Боль пронизывала ноги и доходила до сердца. – Я не смогу удержаться.
– Ну кричите, – невозмутимо ответила она. – Только не забывайте, что этот беспорядок устроили вы. А не я. Это целиком ваша вина.
Каким-то образом ему удалось сдержать крик. Он наблюдал за тем, как она мочила тряпку, отжимала ее и протирала стену, мочила, отжимала и протирала. И наконец, когда часы (в гостиной, как он полагал) пробили три, она выпрямилась и взяла в руки ведро.
Сейчас она уйдет. Уйдет, и я услышу, как она наполняет ведро, и она не вернется, может быть, еще несколько часов, потому что, наверное, срок наказания еще не закончился.
Но она не ушла, а подошла к его изголовью, запустила руку в карман фартука и извлекла оттуда не две капсулы, а три.
– Вот, – нежно произнесла она.
Он затолкал капсулы в рот, а когда поднял глаза, то увидел, что она подносит к его лицу желтое пластмассовое ведро. Как падающая с неба луна, оно закрыло ему все поле зрения. С края ведра на одеяло закапала серая вода.
– Запейте, – сказала она. В ее голосе по-прежнему слышалась нежность.
Он лежал и смотрел на нее во все глаза.
– Давайте пейте, – настаивала она. – Я понимаю, их можно проглотить и без воды, но поверьте, пожалуйста, что я смогу заставить их выйти обратно. В конце концов, я здесь только полоскала тряпку. Хуже вам от этой воды не будет.
Она нависла над ним, как скала, слегка наклоняя ведро. Он даже видел плавающую внутри тряпку: видел тонкий слой мыльной пены на поверхности воды. Он быстро сделал глоток, и капсулы скользнули по пищеводу. Такой же вкус он ощущал в детстве, когда мать заставляла его чистить зубы мылом.
Вода достигла желудка, и он громко рыгнул.
– Пол, я не стану выводить их наружу. И больше до девяти часов вы не получите.
Мгновение она смотрела на него совершенно пустыми глазами, затем ее лицо осветилось, и она улыбнулась:
– Вы больше не будете выводить меня из себя, правда?
– Не буду, – прошептал он. Навлекать на себя гнев луны, которая вызывает прилив? Что за чушь! Что за дикая чушь!
– Я люблю вас, – сказала она и поцеловала его в щеку. И вышла, не оглядываясь, держа ведро так, как мощная деревенская женщина могла бы держать подойник с молоком – слегка отведя в сторону, так, чтобы ни капли не пролилось.
А он откинулся на подушку. Во рту и в глотке остался вкус грязи и пластмассы. Вкус мыла.
Я не буду… не буду… не буду…
Но вскоре эти слова стали отдаляться, и он понял, что засыпает. Прошло уже достаточно времени, и лекарство начало действовать. Он победил.
На этот раз.
11
Ему приснилось, что его пожирает какая-то птица. Нехороший сон. Потом раздался выстрел, и он подумал: Да, правильно, так ее! Стреляй! Застрели поскорее эту сволочь!
А затем он проснулся и сразу понял, что Энни Уилкс всего лишь захлопнула дверь черного хода. Вышла, чтобы сделать что-то по хозяйству. Он слышал скрип снега под ее подошвами, когда она проходила мимо окна. На ней была эскимосская парка с поднятым капюшоном. При каждом выдохе из-под капюшона вылетало облачко пара. Она не взглянула в его сторону, по-видимому, думая о делах, ожидавших ее в сарае. Ей надо покормить скотину, вычистить стойла, да мало ли какие могут быть у нее дела. Небо уже сделалось темно-багровым – закат. Пять тридцать, а то и шесть часов!
Время отлива еще не настало, и он мог бы еще поспать – ах, как ему хотелось еще поспать! – но нужно было обдумать сложившуюся дикую ситуацию, пока он еще в состоянии более или менее связно мыслить.
Как выяснилось, хуже всего было то, что он не хотел думать даже когда мог, хотя и сознавал, что выбраться из этой ситуации невозможно, не обдумав ее. Его разум стремился вытолкнуть мысли об этом, в точности как ребенок отпихивает тарелку с едой, прекрасно зная, что ему не позволят выйти из-за стола, пока он не съест все.
Ему не хотелось обдумывать ситуацию, так как даже просто находиться в ней было невыносимо. Ему не хотелось ничего обдумывать, потому что стоило все-таки начать думать, как перед ним возникали весьма неприятные картины: вот лицо женщины делается пустым, вот при виде ее ему на ум приходят каменные идолы; теперь ко всем этим образам прибавился новый – к его лицу приближается, как стремительно падающая луна, желтое пластмассовое ведро. Если он будет думать об этом, то тем самым все равно не изменит ситуацию: думать об этом, возможно, еще хуже, чем не думать вовсе. И все же стоило ему подумать об Энни Уилкс и о своем собственном положении в ее доме, как именно эти картины представали перед ним и вытесняли все прочие. Его сердце начинало биться чересчур быстро, конечно, от страха, но отчасти и от стыда. Он мысленно видел, как его губы тянутся к краю ведра, видел мыльную пленку на поверхности грязной воды, видел плавающую в ведре тряпку, он видел все это и тем не менее без всяких колебаний сделал глоток этой воды. Никогда и никому он об этом не расскажет (если предположить, что ему удастся отсюда выбраться): может быть, он будет пытаться лгать самому себе, но он никогда не сможет полностью убедить себя, что все происходило иначе.
Но, в каком бы плачевном положении он ни находился (а он считал, что его положение крайне плачевно), ему хотелось жить.
Думай же, черт, тебя подери! Господи, неужели, ты настолько боишься, что не хочешь даже попытаться?
Нет – но почти настолько.
И вдруг ему в голову пришла нелепая злобная мысль: Ей не понравилась новая книга, потому что она слишком тупа, чтобы понять, в чем там суть.
Мысль более чем нелепая; в данных обстоятельствах ее мнение о «Быстрых автомобилях» не имело совершенно никакого значения. Но обдумать ее слова – это по крайней мере шаг в новом направлении, а злиться на нее – лучше, чем бояться ее. Поэтому он продолжал думать.
Слишком тупа? Нет. Слишком уперта. Она не просто не желает перемен, ей противна сама идея перемены!
Да. Пусть она сумасшедшая, но разве ее оценки так уж отличаются от оценок, которые дали этой книге сотни тысяч читателей (на девяносто процентов – читательниц) во всей стране, с нетерпением дожидавшихся очередной пятисотстраничной порции приключений юной сироты, вышедшей замуж за пэра Англии? Вовсе нет. Всем им нужна Мизери, Мизери и еще раз Мизери. Каждый раз, когда он год или два занимался другой книгой (по его собственному определению, «серьезной» работой), уверенность в успехе сменялась надеждой на успех, и наконец приходило горькое разочарование, а тем временем женщины, многие из которых подписывались как «ваша самая большая поклонница», засыпали его гневными письмами. В одних письмах сквозило смущение (и эти письма почему-то ранили писателя сильнее всего), в других было полно упреков, а то и прямого недовольства, но смысл всегда был один и тот же: Мы не этого ждали, мы не этого хотели. Пожалуйста, вернитесь к Мизери. Мы желаем знать, что делает Мизери. Он мог написать новую «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»[5] или «Шум и ярость»;[6] это не изменило бы положения. Они все равно жаждали бы Мизери, Мизери, Мизери.
Тяжело следить за сюжетом. Он не так интересен… А сколько грубости!
Гнев стал опять вскипать в нем. Гнев на ее дубовую тупость, гнев на то, что она смогла удержать его в своей власти, как узника, поставить перед выбором – пить грязную воду из ведра или умирать от боли в переломанных ногах, а потом, в довершение всех унижений, найти его самое уязвимое место и раскритиковать его лучшую книгу.
– Черт тебя побери, сука, всех ругательств, вместе взятых, для тебя мало, – сказал он вслух и вдруг почувствовал себя лучше, как будто снова стал самим собой; правда, он знал при этом, как убог и бесполезен его бунт – она все равно в сарае, она его не слышит, а час отлива не наступил, и обломанные столбы еще скрыты под водой. И все же…
Он вспомнил, как она пришла к нему с таблетками, шантажируя его, чтобы получить разрешение прочесть «Быстрые автомобили». Он почувствовал, что щеки заливает краска стыда и унижения, но теперь к этим чувствам примешивался неподдельный гнев: маленькая искра полыхнула неярким языком пламени. Никогда в жизни никому он не показывал рукопись, не выправленную им самим и не перепечатанную. Никогда. Даже Брайсу, своему агенту. Никогда. Да что говорить, он даже…
На мгновение мысли оборвались. До него донеслось отдаленное коровье мычание.
Да что говорить, он даже копий не делал, пока не был готов беловой вариант.
Рукопись «Быстрых автомобилей», находящаяся сейчас в распоряжении Энни Уилкс, – это единственный в мире экземпляр. Пол сжег даже свои черновые заметки.
Два года тяжкого труда. Ей книга не нравится, и она помешанна.
Она любит романы о Мизери. Она любит Мизери, а вовсе не какого-то маленького мексиканского сквернослова из Испанского Гарлема, промышляющего кражами автомобилей.
Он вспомнил, как подумал недавно: хоть наделай из рукописи бумажных шляп, только… пожалуйста…
Чувство гнева и унижения опять поднялось в нем, отдавшись первой вспышкой тупой боли в ногах. Да. Труд, гордость своим трудом, качество этого труда… Когда боль усиливается до определенного предела, все это становится не более чем тенью из волшебного фонаря. И она сделает это – она может это сделать и оттого кажется ему, который большую часть своей сознательной жизни считал, что из всех возможных определений ему больше всего подходит слово писатель, чудовищем, от которого необходимо держаться как можно дальше. Она действительно каменный идол, и пусть она и не убила его, она способна убить то, что в нем.
Из сарая послышалось нетерпеливое повизгивание свиньи. Энни оправдывалась, но сам он считал, что Мизери – самое подходящее имя для свиньи. Он вспомнил, как Энни изображала свинью, как ее верхняя губа сморщилась и задралась к носу, щеки сделались плоскими, и она в самом деле стала похожа на свинью и захрюкала.
Голос из сарая:
– Свинка, свинка, хрю-хрю!
Он прикрыл глаза ладонью и попробовал удержать свой гнев, так как гнев придавал ему храбрости. Храбрец способен думать. А трус – нет.
Итак, эта женщина когда-то работала медицинской сестрой, в этом он уверен. А сейчас она работает? Нет, так как на работу не ходит. Почему же она оставила профессиональную деятельность? Кое-какие шарики у нее крутятся не так, как надо. Если он разглядел это, несмотря на застилающую глаза боль, ее коллеги тем более должны были разглядеть.
Впрочем, у него есть определенная информация, показывающая, насколько не так вертятся ее шарики. Она выволокла его из разбитой машины и, вместо того чтобы вызвать полицию или «скорую помощь», отвезла к себе домой, уложила в комнате для гостей и вводила ему по трубкам в вены пищу и хрен знает сколько наркотической дряни. Достаточно, чтобы вызвать у него как минимум один раз «нарушение дыхания», как она выразилась. Она никому не сказала, что он находится здесь, а раз не сказала до сих пор, следовательно, не намерена говорить и впредь.
Поступила бы она так же, если бы увидела, что в автокатастрофу попал какой-нибудь Джо Блоу из Кокомо? Нет. Скорее всего нет. Она удержала у себя именно его, так как он – Пол Шелдон, а она…
– Она – моя самая большая поклонница, – пробормотал Пол и снова прикрыл глаза рукой.
Из темных глубин всплыло жуткое воспоминание: однажды мама повела его в бостонский зоопарк, и он там увидел огромную птицу. У нее были удивительные перья – красные, пурпурные и ярко-синие, он таких в жизни не встречал. И еще никогда прежде не видел таких грустных глаз. Он спросил тогда маму, где родина этой птицы, и когда та ответила Африка, он понял, что птица эта обречена умереть в клетке далеко-далеко от тех мест, в которых Господь предназначил ей жить. Он расплакался, и мама купила ему рожок мороженого, он перестал плакать, а потом вспомнил и заплакал опять, и тогда мама увела его домой, а пока они ехали в троллейбусе, сказала ему, что он плакса и нюня. Перья. Брюза.
Пульсирующая боль в ногах набирает обороты. Нет. Нет, нет.
Он плотнее прижал руку к глазам. Из сарая доносились редкие глухие удары. Он не мог определить, что там делала Энни, но в воображении
(вашу ФАНТАЗИЮ ваше ТВОРЧЕСТВО я только это имею в виду)
он уже видел, как она стоит на сеновале, расположенном под крышей сарая, и ударами каблука сбрасывает на пол тюки спрессованного сена. Африка. Эта птица из Африки. Из… Затем он почти услышал ее пронзительный, режущий, как нож, взволнованный голос, почти крик: И что, вы думаете, когда меня приводили к присяге в Ден…
К присяге. Когда меня приводили к присяге в Денвере.
Клянетесь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, да поможет вам Бог?
(«Не понимаю, откуда он все это берет».)
Клянусь.
(«Юн вечно что-нибудь записывает».)
Назовите ваше имя.
(«Ни у кого из МОИХ родственников не было такого воображения».)
Энни Уилкс.
(«Такого яркого воображения!»)
Меня зовут Энни Уилкс.
Ему хотелось, чтобы она сказала еще что-нибудь. Но она молчала.
– Говори, – прошептал он, старательно прикрывая рукой глаза: это лучший способ заставить работать воображение. Его мать любила говорить миссис Малвени, когда они стояли у забора, разделявшего их владения, какое у него замечательное воображение, какое оно яркое, какие удивительные истории он постоянно записывает (понятно, она говорила так лишь тогда, когда не называла его плаксой и нюней). – Говори, говори, говори.
Он видел зал заседаний суда в Денвере, видел Энни Уилкс, стоящую у кафедры: на ней были не джинсы, а красно-черное платье и ужасного вида шляпка. Он видел, что в зале очень много народу, а судья лыс и в очках. У судьи белые усы. И родинка под белыми усами. Белые усы почти закрывают родинку, но ее все-таки видно. Энни Уилкс.
(«Вчера он читал до трех ночи! Можешь себе представить?»)
Такая… такая любящая поклонница…
(«Он постоянно что-то записывает, что-то придумывает»).
Теперь надо прополоскать.
(«Африка, Эта птица, из»)
– Продолжай, – прошептал он, но продолжения не последовало. Судебный пристав предлагал ей назвать свое имя, и она раз за разом повторяла, что ее зовут Энни Уилкс, но больше ничего не говорила: ее жилистая твердая зловещая фигура торчала у кафедры, называла свое имя и больше ничего.
Все еще пытаясь вообразить, по какой причине бывшая медсестра, впоследствии захватившая в плен любимого писателя, оказалась в суде в Денвере, Пол погрузился в сон.
12
Он лежал в больничной палате. Громадное облегчение охватило его – настолько громадное, что ему захотелось кричать. Пока он спал, что-то произошло, пришли какие-то люди, а возможно, у Энни переменились планы или настроение. Он уснул в доме женщины-чудовища, а проснулся в больнице.
Но зачем же они поместили его в такую огромную палату? Она же как самолетный ангар! И в ней много-много рядов одинаковых коек, на которых лежат люди, и у всех одинаковые трубки для внутривенного питания подсоединены к одинаковым бутылочкам. Он сел на койке и увидел, что все эти люди тоже одинаковы: все они – это он. Затем он услышал отдаленный бой часов и понял, что звук этот долетел до него сквозь пелену сна. Ему снится сон. На место облегчения пришла печаль.
В дальнем конце гигантской палаты открылась дверь и вошла Энни Уилкс, правда, теперь она надела длинное платье с фартуком, а на голове у нее был чепец: она была одета как Мизери Честейн в романе «Любовь Мизери». Одну руку она согнула в локте, и на ней висела плетеная корзинка, прикрытая полотенцем. Он увидел, что она откинула полотенце, достала из корзинки щепотку чего-то и бросила ее в лицо первого спящего Пола Шелдона. Песок. Оказывается, это Энни Уилкс, которая подражает Мизери Честейн, которая подражает Песочному человеку.[7] Песочная женщина.
Тут же он увидел, что, как только песок коснулся головы первого Пола Шелдона, его лицо сделалось мертвым и белым, и тогда нахлынувший ужас вырвал его из сна и он попал в комнату, где у его постели стояла Энни Уилкс. В руке она держала книжку «Сын Мизери» в бумажной обложке. Судя по закладке, Энни прочитала примерно три четверти.
– Вы стонали, – сказала она.
– Мне приснился плохой сон.
– Что же вам снилось?
В ответ он произнес первое пришедшее в голову слово, которое не отразило бы истины:
– Африка.
13
Она вошла к нему на следующее утро, не слишком рано, и лицо ее было пепельного цвета. Он дремал, но тут же проснулся и приподнялся на локтях:
– Мисс Уилкс? Энни? С вами все в по…
– Нет.
Господи, да у нее инфаркт, подумал он и на мгновение встревожился, но тревога тут же уступила место ликованию. И пусть! Лучше обширный! Пусть ее сердце разорвется ко всем чертям! Он будет более чем счастлив, когда поползет к телефону, и наплевать, что ему будет дьявольски больно. Если понадобится, он поползет к телефону хоть по битому стеклу.
У нее действительно был сердечный приступ… но какой-то не правильный.
Она подошла к нему, даже, скорее, подкатилась, переступая, как моряк, который только что сошел с корабля после долгого плавания.
– Что… – Он попытался отпрянуть от нее, но не было места. Только изголовье кровати, а за ним стена.
– Нет!
Она дошла до кровати, натолкнулась на нее, пошатнулась, и Полу показалось, что она вот-вот рухнет на него. Но она просто стояла и смотрела на него сверху вниз. Лицо ее было белее бумаги, на шее выступили сухожилия, а в центре лба пульсировала маленькая жилка. Руки ее то сжимались в твердые, как будто каменные, кулаки, то разжимались. – Ты… ты… ты грязный подлюга!
– Что… Я не… – Но внезапно он понял. Из него как будто исчезли все внутренние органы. Он вспомнил, где была закладка накануне вечером. Три четверти книги. Теперь она ее дочитала. И ей известно все, что можно было узнать. Она узнала, что не Мизери была бесплодна, а Йен. Да она же сидела в своей все-еще-неувиденной-им гостиной, раскрыв рот и вытаращив глаза, и читала о том, как Мизери узнала правду, приняла решение и украдкой улизнула к Джеффри! Наверное, в ее глазах стояли слезы, когда она читала о том, какое отнюдь не целомудренное дельце провернули Мизери и Джеффри за спиной человека, которого они оба любили, и как сделали этому человеку драгоценный подарок – ребенка, которого тот будет считать своим! И уж конечно, сердце Энни отчаянно заколотилось, когда Мизери объявила Йену, что она беременна, и Йен стиснул ее в объятиях, повторяя: «Дорогая моя, дорогая!» Ей полагалось бы зарыдать от горя, когда Мизери умерла во время родов (ребенка, вероятно, Йен и Джеффри будут воспитывать вместе), но вместо этого она обезумела от ярости.
– Она не может быть мертвой! – завопила Энни Уилкс. Ее кулаки сжимались и разжимались все энергичнее. – Мизери Честейн НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕРТВОЙ!
– Энни… Пожалуйста, Энни…
На столике возле кровати стоял стеклянный кувшин. Энни схватила его и замахнулась. Холодная вода выплеснулась ему в лицо. Кубик льда упал на подушку у левого уха и скользнул вниз, к плечу. В воображении
(«таком ярком!»)
он видел, как кувшин опускается на его лицо, как раскалывается череп, ледяная вода заливает мозг и он умирает, а руки покрываются гусиной кожей.
Она хотела этого – никаких сомнений.
В самое последнее мгновение она отвернулась от него и швырнула кувшин в сторону двери, и он раскололся, как недавно раскололась супница.
Потом она снова посмотрела на него и тыльной стороной ладони откинула волосы с лица.
– Подлюга! – выдохнула она. – Ты мерзавец и грязный подлюга! Как ты мог!
Он торопливо заговорил, глядя ей в глаза и сознавая, что его жизнь, вполне возможно, зависит от того, что он сейчас скажет:
– Энни, в 1871 году женщины часто умирали при родах. Мизери отдала жизнь ради мужа, лучшего друга и ребенка. Душа Мизери навсегда останется…
– Мне не нужна ее душа! – закричала она. Ее скрюченные пальцы готовы были, как когти, вцепиться в него и вырвать ему глаза. – Мне нужна она! Ты убил ее! Ты – ее убийца!
Она опять сжала кулаки и с силой опустила их на подушку, как раз возле его головы. Он подпрыгнул на кровати как кукла, и ноги немедленно отозвались болью.
– Я не убивал ее! – отчаянно крикнул он. Она замерла; на него смотрело пустое черное лицо – уже знакомая черная расселина.
– Ну конечно, нет, – со злым сарказмом отозвалась она. – А если не вы, Пол Шелдон, то кто же это сделал?
– Никто, – ответил он уже спокойнее. – Просто она умерла.
По крайней мере это было правдой. Если бы Мизери Честейн была настоящей женщиной, полиция вполне могла бы предложить ему «оказать содействие в расследовании», как обычно говорят те, кто не привык называть вещи своими именами. Прежде всего у него был мотив – он ненавидел ее. Уже в третьей книге он ее возненавидел. Однажды он написал небольшую книжку, неофициально напечатал ее маленьким тиражом и к первому апреля разослал дюжине своих близких знакомых. Книжка называлась «Увлечение Мизери». В ней рассказывалось о том, как весело Мизери провела выходные в загородном доме, трахаясь с Ворчуном, ирландским сеттером Йена.
Он мог бы убить ее… но не убивал. Ее конец вопреки его отвращению к ней в какой-то мере стал неожиданностью для него самого. До самого конца надоевших ему похождений Мизери он оставался верен себе в искусстве подражания – конечно, бледного подражания – жизни. Мизери умерла совершенно неожиданно. Факт оставался фактом, и счастливый смех автора в конце ничего не менял.
– Вы лжете, – прошептала Энни. – Я думала, вы добрый, но вы не добрый. Вы – старая глупая скотина и грязный подлюга.
– Ее не стало, вот и все. Так бывает. В жизни случается, что человек…
Она опрокинула столик. Единственный неглубокий ящик вылетел. Наручные часы Пола и монеты, которые были в день аварии у него в карманах, раскатились по полу. А он даже и не знал, что они все время лежали здесь. Ему удалось отодвинуться от нее.
– Вы, наверное, думаете, что я вчера родилась, – сказала она. – Я работала и видела десятки – нет, сотни умирающих людей. Иногда человек мучается, иногда умирает во сне; просто был человек – и его не стало, совершенно верно, как вы и говорите.
Но о литературном герое НЕЛЬЗЯ сказать, что его просто не стало! Бог забирает нас, когда, по Его разумению, приходит время, а писатель – это Бог для героев романа, он сотворил их точно так же, как Бог сотворил всех нас. Бога мы не заставляем ничего объяснять, правильно, но про Мизери я тебе, грязный подлюга, одно скажу, я тебе скажу, что ее Бог валяется тут с переломанными ногами, и этот Бог сейчас в МОЕМ доме, он ест МОЮ еду… и…
Энни отключилась. Она выпрямилась, опустив руки по швам, и уставилась на пришпиленную к стене старую фотографию Триумфальной арки. Она просто стояла, а Пол Шелдон лежал и смотрел на нее. На подушке возле ушей остались две круглые вмятины. Он услышал, как по осколкам кувшина стекает на пол вода, и ему вдруг пришло в голову, что он мог бы совершить убийство. И раньше случалось, что он задавался этим вопросом, естественно, в чисто теоретическом плане, но сейчас вопрос перестал быть праздным, и у Пола имелся на него ответ. Не швырни она этот кувшин на пол, он сам бы разбил его и попытался сейчас, пока она стоит неподвижно как пень у его кровати, перерезать ей горло острым осколком.
Он глянул вниз, но возле кровати валялось только то, что упало с перевернутого стола: ручка, несколько монет, расческа и часы. Бумажника не было. И, что важнее, тут не было солдатского перочинного ножа.
Она успела чуть-чуть прийти в себя: по крайней мере ее ярость утихла. Она печально посмотрела на него:
– Думаю, сейчас мне лучше уехать. Некоторое время мне не стоит находиться рядом с вами. Я думаю, это было бы… неразумно.
– Уехать? Куда?
– Не важно. Есть одно место. Если я останусь тут, то могу совершить неразумный поступок. Мне надо подумать. До свидания, Пол.
Она направилась к двери.
– А вы вернетесь и дадите мне лекарство? – тревожно спросил он.
Но она уже взялась за дверную ручку и молча захлопнула за собой дверь. Впервые он услышал, как ключ поворачивается в замке.
Потом он услышал ее удаляющиеся шаги. Он вздрогнул, когда она что-то выкрикнула – он не разобрал слов, потом что-то упало и разбилось. Хлопнула дверь. Двигатель машины издал несколько хлопков и заработал нормально. Громко заскрипел снег под шинами. Звук мотора постепенно удалялся, становясь похожим на тихий храп, потом на жужжание пчелы и наконец пропал.
Он остался один.
Один и заперт в этой комнате в доме Энни Уилкс. Заперт в кровати. Отсюда до Денвера… ну, скажем, как от бостонского зоопарка до Африки.
Через какое-то время часы в гостиной пробили полдень и начался отлив.
14
Пятьдесят один час.
Он знал, сколько времени прошло, благодаря ручке, которая в день аварии оказалась у него в кармане. Он сумел дотянуться до пола и поднять эту ручку. Каждый раз, когда били часы, он делал отметку на руке – четыре вертикальные палочки, пятая перечеркивает их по диагонали. Когда она вернулась, у него на руке было десять таких картинок и еще одна палочка. Сначала палочки получались довольно аккуратные, потом начали становиться все менее ровными – по мере того как его руки дрожали все сильнее и сильнее. Скорее всего он не пропустил ни одного часа. Он дремал, но по-настоящему ни разу не заснул. Часы каждый час будили его своим боем.
Через некоторое время он почувствовал голод и жажду – даже на фоне боли. Началось нечто вроде скачек на ипподроме. В начале забега явным лидером была Царица Боль, а Забывший Покушать отстал мили на полторы. О Мечте о Воде зрители могли бы вовсе позабыть. Затем, приблизительно к утру следующего за отъездом Энни дня, Забывший Покушать приблизился к Царице Боли вплотную, и они шли ноздря в ноздрю.
Всю ночь Пол то начинал дремать, то просыпался в холодном поту, уверенный, что умирает. В какой-то момент он стал надеяться, что умирает. Все, что угодно, лишь бы прочь отсюда. Он никогда не предполагал, что боль может быть такой сильной. А столбы все росли. Он видел облепивших их моллюсков, видел мертвых насекомых, оставшихся на изломах дерева. Насекомым повезло. Им уже не больно.
Около трех часов он сорвался и стал кричать, хотя в этом не было смысла.
В полдень второго дня – Двадцать Четыре Часа – он догадался, что, помимо боли в ногах и пояснице, существует кое-что еще, не менее скверное. Бессилие. Эту лошадку можно было бы назвать Месть Слабакам. Теперь таблетки требовались ему уже не по одной причине.
Он подумал о том, чтобы слезть с кровати, но его остановила мысль о возможном падении и удесятеренной боли. Слишком хорошо он мог представить,
(«но не так ярко!»)
как он будет себя при этом чувствовать. Может быть, он все равно попытался бы, но она заперла дверь. Так что он сможет сделать? Подползти к двери со скоростью улитки и улечься у порога?
В отчаянии он отшвырнул одеяло, надеясь вопреки всякой вероятности, что ноги его не в таком плохом состоянии, как можно было судить по неясным очертаниям под одеялом. В самом деле, они были не в таком плохом состоянии; гораздо хуже. В ужасе он смотрел на то, что оставалось у него ниже колен. В мозгу всплыл возглас героя Рональда Рейгана из фильма «Королевская прогулка»:
«Где же остальное?»
Все остальное здесь, и, возможно, все остальное еще можно восстановить: перспектива выздоровления стала в его представлении еще более отдаленной, и все-таки он предполагал, что технически это возможно… Но, вероятно, он уже никогда не сможет ходить, во всяком случае, не сможет до тех пор, пока его ноги не будут заново переломаны, скорее всего в нескольких местах. Потом в них придется вставить стальные стержни и безжалостно подвергнуть их еще пятидесяти безумно болезненным процедурам.
Она наложила на переломы шины, и, разумеется, он об этом знал, чувствовал жесткие тесные обручи, но до сих пор не знал, при помощи каких материалов она выполнила эту операцию. Обе ноги ниже колен были сжаты тонкими стальными прутьями, похожими на распиленные алюминиевые костыли. Эти прутья были тщательно привязаны. Должно быть, примерно так выглядели ноги древнеегипетского сановника и архитектора Имхотепа в тот день, когда археологи нашли его гробницу. Ноги казались причудливо выкрученными в местах переломов. Левое колено – пульсирующий сгусток боли, – казалось, не существовало вовсе. Бедро, затем – отвратительное вздутие, напоминающее соляной купол. Бедра Пола раздулись и как будто слегка вывернулись наружу. На бедрах, в паху, даже на пенисе все еще были видны многочисленные шрамы.
Раньше он думал, что его кости раздроблены. Как выяснилось, он ошибался. Кости были искрошены.
Со стоном, со слезами на глазах он натянул на себя одеяло. Нет, выползать из постели нельзя. Лучше просто лежать, лучше умереть здесь, лучше смириться с этой болью, она тоже ужасна, лучше лежать и ждать того мгновения, когда никакая боль уже не будет беспокоить.
Около четырех часов второго дня дала о себе знать Мечта о Воде. Он давно чувствовал сухость во рту и в горле, но теперь жажда заметно усилилась. Язык распух. Стало больно глотать. Он вспомнил о кувшине с водой, который Энни швырнула на пол.
Он задремал, очнулся, задремал опять.
День окончился. Наступила ночь.
Возникла необходимость помочиться. Он обернул пенис простыней, надеясь, что из нее получится более или менее эффективный фильтр, и помочился сквозь слой ткани в подставленные дрожащие ладони. Затем выпил то, что сумел донести до рта, стараясь думать об этой жидкости как о воде, прошедшей очистку, после чего облизал влажные пальцы. Вот еще один факт, о котором он никогда никому не расскажет, даже если доживет до того дня, когда ему представится шанс с кем-нибудь заговорить.
Теперь он думал, что она мертва. У нее очень неустойчивая психика, а подобные люди часто кончают самоубийством. Он видел,
(«Так ярко!»)
как она лезет под сиденье «старушки Бесси», достает оттуда револьвер, вкладывает дуло себе в рот и спускает курок. «Если Мизери умерла, я не хочу жить. Прощай, жестокий мир!» И с этими словами заплаканная Энни выстрелила в себя.
Он хихикнул, застонал, закричал. Ветер завыл за окном – и никакого иного ответа.
А может, авария? Могло такое быть? О, вполне, вполне могло! Он теперь видел ее за рулем, видел мрачное лицо, она жмет на газ, затем
(«Ни у кого из МОИХ родственников не было такого воображения».)
отключается и съезжает с дороги. Вниз, вниз, вниз. Удар – и взрыв, огненный шар. Она и не осознала, что умерла.
Если она умерла, то и он умрет здесь, как крыса в ловушке.
Он все еще думал, что вот-вот потеряет сознание, и тогда ему станет легче, но беспамятство не приходило. Вместо него пришел Тридцатый Час, и Сороковой пришел. Царица Боль и Мечта о Воде слились в одну лошадь (Забывший Покушать уже давно остался далеко позади), и он теперь чувствовал себя как насекомое на гладком стекле микроскопа или как червяк на крючке – бессмысленно корчился и ждал лишь смерти.
15
Когда она вошла, он решил, что видит сон, но вскоре реальность – или просто жестокая жизнь – вступила в свои права, и он принялся стонать, просить и умолять, но слова не выговаривались, он проваливался в глубокую пропасть небытия. Лишь одно он видел ясно: на ней темно-синее платье и нелепая шляпа: именно в такого рода наряде она приносила присягу перед судом в Денвере в его воображении.
На ее щеках играл здоровый румянец, и глаза жизнерадостно светились. Энни Уилкс была настолько хороша собой, насколько вообще может быть хороша собой Энни Уилкс. В мозгу Пола Шелдона пронеслась последняя отчетливая и здравая мысль: Она похожа на вдову, которая только что потрахалась после десяти лет полного воздержания.
В руке она держала стакан воды – большой стакан воды.
– Попейте, – произнесла она и приподняла его голову так, чтобы он мог отхлебнуть и не поперхнуться; рука ее еще не успела согреться после мороза. Он торопливо сделал три больших глотка, острая сухая боль обожгла язык, вода потекла по подбородку на рубашку, и тогда она убрала стакан.
Он трясущимися руками потянулся к стакану.
– Нет, – сказала она. – Нет, Пол. Сначала понемногу, не то вас вырвет.
Чуть погодя она снова поднесла стакан к его губам и позволила сделать еще два глотка.
– Хорошо, – пробормотал он и слизнул каплю с губ. Ему смутно вспомнился солоноватый вкус горячей мочи. – Капсулы… больно… пожалуйста, Энни, пожалуйста, помогите ради Бога – мне так больно…
– Я все знаю, но сначала вы должны меня выслушать, – возразила она и взглянула на него сурово, но в то же время по-матерински нежно. – Мне нужно было уехать отсюда и подумать. Я думала долго и, надеюсь, придумала то, что надо. Я не была вполне уверена; у меня иногда путается в голове. Я это знаю. И с этим мирюсь. Именно поэтому я и не могла вспомнить, где была, когда меня об этом много раз спрашивали. Так вот, я помолилась. Вы знаете, Пол, Бог есть и Он слышит наши молитвы. Всегда слышит. И я помолилась Ему. Я сказала: «Милосердный Боже, когда я вернусь домой, Пол Шелдон, возможно, будет уже мертв». Но Бог ответил: «Он не умрет. Я сохранил его, и ты сможешь наставить его на путь, по которому ему следует пойти».
Вместо «наставить» она сказала что-то вроде «настоять», но Пол все равно почти не слышал ее; его взгляд был прикован к стакану с водой. Она дала ему еще три глотка. Он шумно глотнул, как жеребец на водопое, рыгнул и вскрикнул, когда по телу прошла судорога.
Она же тем временем продолжала добродушно смотреть на него.
– Я дам вам лекарство, и боль пройдет, но сначала вам нужно кое-что сделать, – сказала она. – Сейчас я приду.
Энни встала и направилась к двери.
– Нет! – закричал он.
Она не отреагировала. Он остался лежать в коконе боли, стараясь не стонать и не в силах сдержать стон.
16
В первое мгновение он подумал, что у него начался бред. То, что он увидел, было слишком дико, чтобы происходить на самом деле. Энни вернулась, неся в руках маленькую жаровню для барбекю.
– Энни, мне очень больно. – Слезы катились у него по щекам.
– Я знаю, милый. – Она поцеловала его в щеку – легко, как будто коснувшись пером. – Уже скоро.
Она вышла, а он лежал и тупо смотрел на жаровню для барбекю; такими обычно пользуются во дворе, а эта почему-то стоит в комнате и вызывает в памяти образы безжалостных идолов, требующих жертвоприношений.
Разумеется, Энни и задумала совершить жертвоприношение – потому что, когда она вошла в комнату, в одной руке у нее была рукопись «Быстрых автомобилей», единственный в мире вещественный результат его двухлетних трудов. В другой руке она держала коробок спичек.
17
– Нет, – сказал он и вздрогнул. Его как кислотой обожгло при мысли, что меньше чем за сотню баксов он мог бы изготовить в Боулдере ксерокопию рукописи. Разные люди – Брайс, обе бывшие жены, черт возьми, даже мама – постоянно твердили, что только идиот способен не сделать на всякий случай лишнюю копию. В «Боулдерадо» или в его нью-йоркском доме может случиться пожар: может налететь смерч, может произойти наводнение или еще какое-нибудь стихийное бедствие. Но он всегда отказывался по совершенно нелепой причине: будто бы изготовление лишних копий может принести несчастье.
И вот несчастье произошло. Даже стихийное бедствие. Ураган «Энни».[8] Простодушной женщине даже в голову не пришло, что где-то может существовать копия «Быстрых автомобилей», и если бы он послушался, если бы не пожалел поганую сотню долларов…
– Да, – возразила она и протянула ему спички. Роман, отпечатанный на белой бумаге «Хаммермилл Бонд», лежал у нее на коленях. Лицо ее оставалось безмятежным.
– Нет, – сказал он, отворачиваясь: щеки его пылали.
– Да. Это мерзость. Она вас до добра не доведет.
– Да пропади оно пропадом, ваше добро! – заорал он; ему было уже все равно.
Она тихо рассмеялась. Ее темперамент явно решил отдохнуть. Но Пол достаточно хорошо знал Энни Уилкс и понимал, что темперамент может вернуться в любую минуту и крикнуть с порога: Я не могу оставаться в стороне! Как вы тут без меня?
– Прежде всего, – заговорила Энни, – добро не пропадет пропадом. Зло – да, но не добро. И второе: я знаю, что такое добро. Вы добрый, Пол. Вам только бывает нужна помощь. А теперь возьмите спички.
Он упрямо помотал головой:
– Нет.
– Да.
– Нет!
– Да.
– Нет, черт поберииии!
– Ругайтесь сколько хотите. Мне уже приходилось слышать брань.
– Я этого не сделаю. – Он закрыл глаза. Когда он открыл их, то увидел в ее руке картонный квадратик, на котором ярко-синими буквами было написано слово НОВРИЛ. Дальше шли слова, напечатанные красными буквами:
ОБРАЗЕЦ. НЕ ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ ПРЕДПИСАНИЯ ВРАЧА. Ниже располагались четыре капсулы, запечатанные пластиковой пленкой. Он попытался схватить их. Энни отвела руку подальше.
– Когда сожжете, – сказала она. – Как только сожжете, я дам вам их – пожалуй, все четыре, – и боль отступит. Вы опять почувствуете себя хорошо и сможете взять себя в руки, я поменяю вам постельное белье – вижу, что вы его намочили, и вам, должно быть, неудобно, – и кроме того, я поменяю вас. К тому времени вы проголодаетесь, и я покормлю вас супом. И тостик поджарю без масла. Но я ничего не могу для вас сделать, пока вы не сожгли ее. Мне очень жаль, Пол.
Его язык уже был готов сказать: Да! Да, согласен! – поэтому его пришлось прикусить. Пол отодвинулся от нее – от соблазнительных, манящих, до безумия желанных белых капсул в прозрачной упаковке, наклеенной на картонный квадрат.
– Вы дьяволица, – сказал он.
– Ну да! Да! Так думает любой ребенок, когда мама входит на кухню и видит, что он играет флаконом с раствором для мытья раковины. Он, конечно, не говорит так, потому что у него нет вашего образования. Он просто говорит: «Мама, ты плохая!»
Она откинула у него со лба прядь волос. Ее пальцы погладили его по щеке, по шее и на мгновение сочувственно сжали его плечо.
– Маме неприятно, когда сын говорит, что она плохая, или кричит, когда у него что-то отнимают, вот как вы сейчас. Но она-то знает, что поступает правильно и исполняет свой долг. И я исполняю свой долг.
Она постучала по рукописи костяшками пальцев. Сто девяносто тысяч слов, пять живых людей, о которых здоровый, не умирающий от боли Пол Шелдон так заботился, сто девяносто тысяч слов и пять человек, которые с каждым мгновением казались ему все менее важными для него.
Лекарство. Лекарство. Ему необходимо принять это треклятое лекарство. Его герои – это тени, лекарство реально.
– Пол?
– Нет! – хныкнул он.
Легкий шорох капсул под прозрачной оболочкой – тишина – шорох спичек в коробке.
– Пол?
– Нет!
– Я жду, Пол.
Какого хрена ты разыгрываешь из себя героя, ради кого, черт тебя подери, стараешься? Что это, кино или телешоу? Зрителей, которые восхитились бы твоим мужеством, нет. Можешь исполнить ее желание, можешь сопротивляться. Будешь сопротивляться – умрешь, а она все равно сожжет рукопись. И что? Лежать и страдать ради книги, у которой тираж будет вполовину меньше, чем у наименее популярного из романов о Мизери; ради книги, которую Питер Прескотт непременно обгадит – элегантно, это он умеет – в нашем литературном оракуле под названием «Ньюсуик»? Опомнись, парень! Даже Галилей отрекся, когда увидел, что враг настроен серьезно.
– Пол! Я жду. И могу ждать весь день. Правда, я подозреваю, что к концу дня вы впадете в глубокую кому; по-моему, вы уже сейчас в предкоматозном состоянии, а у меня много…
У нее такой монотонный, невыразительный голос…
Да! Давай сюда спички! Давай бикфордов шнур! Давай бомбу и напалм! Я согласен уничтожить ее, мадам, если только вы этого хотите!
Голос соглашателя, задача которого – выжить. Но другая часть его сознания, слабеющая, в предкоматозном состоянии, продолжала твердить: Сто девяносто тысяч слов! Пять персонажей! Два года труда! И самая главная мысль: Истина! Там то, что ты ПО-НАСТОЯЩЕМУ знаешь о жизни!
Она встала, и пружины кровати застонали.
– Хорошо. Должна вам сказать, вы – очень упрямый ребенок, а я не могу сидеть возле вас всю ночь, даже если бы мне этого и хотелось. В конце концов я ехала сюда целый час и отчаянно торопилась. Попозже я загляну к вам – на случай, если вы пере…
– Так сожгите ее! – завопил он. Она обернулась и посмотрела на него.
– Нет, – сказала она, – я не могу сама, хотя и хотела бы сделать это и облегчить ваши страдания.
– Почему?
– Потому, – уверенно ответила она, – что вы должны сделать это по доброй воле.
Тогда он захохотал, а ее лицо помрачнело в первый раз после возвращения, и она вышла из комнаты с рукописью под мышкой.
18
Она вернулась через час, и он взял спички. Она положила титульный лист на жаровню. Он попытался зажечь спичку и не сумел, потому что не мог попасть головкой спички по зажигающей поверхности и потому что спичка выпадала из рук.
Тогда Энни взяла коробок, зажгла спичку и вложила ее в его пальцы, он поднес язычок пламени к утолку листа, бросил спичку в ведро и принялся завороженно наблюдать, как пламя пробует бумагу на вкус и начинает жадно ее пожирать.
– Мы же никогда не закончим, – сказал он. – Я не могу…
– Нет, мы все сделаем быстро, – возразила она. – Пол, вам надо только сжечь несколько страниц – это будет знаком, что вы все понимаете.
Она положила на жаровню первую страницу «Быстрых автомобилей». Он вспомнил, как писал эту страницу месяца двадцать четыре назад у себя в Нью-Йорке. «У меня тачки, нет, да, – говорил Тони Бонасаро, поднимаясь по лестнице, обращаясь к девушке, стоявшей наверху. – и я плохо учусь, но езжу быстро».
Ему вспомнился тот день – как в радиопрограмме «Золотые деньки». Он вспоминал, как бродил по комнатам, когда книга переполняла его, рвалась наружу, и он испытывал родовые схватки. Вспомнил, как нашел в тот день под кроватью лифчик Джоан, который та потеряла три месяца назад, – сразу ясно, как работает женщина, которую наняли для уборки: вспомнил, как прислушивался к гулу автомобилей и как издалека доносился монотонный звон колокола, призывающий верующих к церковной службе.
Вспомнил, как сел за рабочий стол.
Как всегда – благословенное легкое чувство начала, чувство падения в залитую ярким светом пропасть.
Как всегда – мрачная уверенность, что не удастся написать так, как желал.
Как всегда – боязнь не суметь закончить, страх врезаться в стену.
Как всегда – удивительное нервное возбуждение: путешествие начинается.
Он посмотрел на Энни Уилкс и отчетливо, хотя и негромко, сказал:
– Энни, прошу вас, не заставляйте меня это делать.
Она все так же протягивала ему коробок спичек:
– У вас есть выбор.
И он сжег книгу.
19
Она заставила его сжечь первую страницу, последнюю и еще восемнадцать страниц – по две соседних из девяти разных мест, ибо девять, по ее словам, – это число силы, а удвоенная девятка приносит удачу. Он заметил, что она вымарала фломастером все ругательства, по крайней мере на тех страницах, которые успела прочитать.
– Хорошо, – сказала она, когда догорела девятая пара листов. – Вы хорошо себя вели, мужественно, я знаю, что вам было больно, почти так же, как от переломов в ногах, и я не буду больше тянуть.
Она убрала жаровню и положила оставшиеся страницы рукописи в ведро, поверх скорчившихся черных остатков сожженных им страниц. В комнате пахло жженой бумагой. Золах как в сортире дьявола, подумал он. Если бы внутри ссохшейся оболочки, которая некогда была его желудком, что-нибудь оставалось, он бы выблевал все это наружу.
Она зажгла еще одну спичку и вложила в его руку. Каким-то образом ему удалось склониться с кровати и бросить спичку в жаровню. Уже ничто не имело значения. Ничто.
Она слегка толкнула его локтем.
Он открыл измученные глаза.
– Все кончено.
Затем она опять чиркнула спичкой и вложила спичку в его руку.
И он опять сумел склониться к жаровне, пробудив жившие в ногах ржавые бензопилы, а потом прикоснулся пламенем спички к углу толстой рукописи. На этот раз пламя вспыхнуло и охватило всю пачку.
Он откинулся на подушку и прикрыл глаза; он слышал треск горящей бумаги и ощущал волны палящего жара.
– Славно! – взволнованно крикнула она. Он открыл глаза и увидел, что в струях горячего воздуха над жаровней кружатся клочки сгоревшей бумаги.
Энни выбежала из комнаты. Он услышал, как вода льется из крана в ведро. Равнодушно проследил за черным обрывком бумаги, пролетевшим через всю комнату и приземлившимся на тюлевой занавеске. Что-то вспыхнуло – он успел подумать, что в комнате, возможно, вспыхнет пожар, – но огонь тут же погас, и на занавеске осталась лишь небольшая дырка с черными краями, как будто ткань прожгли сигаретой. Пепел оседал на кровати. И на его руках. Ему не было до этого дела.
Вернулась Энни с ведром воды; она как будто старалась одним взглядом уловить все, уследить за траекторией полета каждого обрывка обгоревшей бумаги. Языки пламени в жаровне вспыхивали и гасли.
– Славно! – снова воскликнула она, по-видимому, решая, куда плеснуть водой и нужно ли вообще это делать. Губы ее дрожали. Пол заметил, как она высунула язык и облизнулась. – Славно! Славно! – повторила она. Кажется, других слов у нее не осталось.
Даже несмотря на чудовищную боль, Пол на миг почувствовал что-то вроде настоящей радости – оттого что Энни Уилкс выглядела как будто испуганной. В таком состоянии ему было не так уж неприятно ее видеть.
Еще одна страница взмыла вверх; по ней еще бежали огоньки. Тогда Энни решилась. В очередной раз воскликнув: «Славно!» – она опрокинула ведро с водой на жаровню. Пепел отчаянно зашипел, и комната наполнилась паром и вонью. Воздух сделался влажным и каким-то жирным.
Когда она вышла, он в последний раз сумел приподняться на локте и заглянуть в нижнюю часть жаровни. Увидел он нечто похожее на обуглившийся пень, плавающий в грязном пруду.
Скоро Энни Уилкс возвратилась в комнату.
Невероятно, но она что-то напевала.
Она помогла ему сесть и положила капсулы ему в рот.
Он проглотил их и откинулся на спину, подумав: Я ее убью.
20
– Ешьте. – послышался ее голос откуда-то издалека. Он открыл глаза и увидел, что она сидит около него. Впервые его лицо оказалось на одном уровне с ее лицом, и он мог заглянуть ей в глаза. Он сам удивился, когда начал смутно сознавать, что в первый раз за долгие миллионы лет он сидит… по-настоящему сидит.
Что за черт? – подумал он, и глаза его снова закрылись. Наступил прилив. Столбы скрылись под водой. Наконец настал прилив, а следующий отлив может продолжаться вечно, пока есть возможность, он будет качаться на волнах, о том же, как сел, он сможет подумать и потом…
– Ешьте! – повторила она, и тут возвратилась боль. Она жужжала теперь в левой половине головы: он застонал и попытался отодвинуться.
– Ешьте, Пол! Вам уже не так больно, и вы можете поесть, иначе…
Зззззззз! Висок! Ее голос сдавил его голову клещами.
– Хорошо, – пробормотал он. – Хорошо! Не кричите только, ради Христа.
Он заставил себя открыть глаза. Каждое веко как будто придавила цементная плита. И тут же ложка оказалась у него во рту, и в горло полился горячий суп. Он глотнул, чтобы не захлебнуться.
Внезапно из ниоткуда – самое удивительное воскрешение, какое ваш комментатор, дамы и господа, когда-либо наблюдал! – на дорожку стадиона ворвался Забывший Покушать. Первая ложка супа словно пробудила кишечник Пола после гипнотического транса. Он хлебал и глотал суп так быстро, как только мог, как будто не насыщаясь, а становясь все голоднее.
Он весьма смутно помнил, как она выкатила из комнаты зловеще дымящуюся жаровню, а потом вкатила что-то еще, что показалось его затуманенному, угасающему восприятию тележкой из магазина. Впрочем, он не был ни удивлен, ни заинтересован; в конце концов он имел дело с Энни Уилкс. Сначала жаровня, потом магазинная тележка: завтра, возможно, настанет черед счетчика с автостоянки или ядерной боеголовки. Когда живешь в комнате смеха, можно и привыкнуть к неожиданным эффектам.
Казалось, он отключился, но внезапно понял, что Энни прикатила не тележку, а сложенное инвалидное кресло. И он уже сидел в нем, его ноги беспомощно покоились на подставке; поясница как-то нехорошо распухла, и ему было не очень-то удобно.
Она посадила меня сюда, когда я вырубился, подумал он. Она подняла меня. Мертвый груз. Сильная она, черт возьми.
– Все! – воскликнула она. – Пол, я очень рада тому, как хорошо вы доели суп. По-моему, вы поправляетесь. Не то чтобы вы были уже «как новенький», увы, – но если у нас не будет… никаких недоразумений… думаю, вы скоро поправитесь. Давайте-ка я сменю ваше грязное постельное белье, а потом сменю вашу грязную натуру, а после этого, если вам не будет очень больно и вы еще будете голодны, поджарю для вас тостик.
– Спасибо, Энни, – смиренно ответил он и подумал: Горло. Если смогу, я дам тебе возможность облизнуться и сказать «Славно!». Но только один раз, Энни.
Только один раз.
21
Четыре часа спустя он снова лежал в кровати и думал, что сжег бы все свои книги за одну-единственную капсулу новрила. Когда он сидел в кресле, то чувствовал себя нормально – как-никак в крови у него было столько одурманивающей дряни, что ею можно было усыпить половину прусской армии, зато теперь в нижней части тела как будто метался рой обезумевших пчел.
Пол громко закричал: должно быть, еда помогла – после того как ему удалось выбраться из темного облака, он еще ни разу не был в состоянии закричать так громко.
Он почувствовал ее присутствие за дверью спальни задолго до того, как она вошла – одеревеневшая, выключенная, и ее пустые глаза уставились то ли на дверную ручку, то ли на собственную руку.
– Вот. – Она дала ему лекарство – на этот раз две капсулы.
Он проглотил их, держась за ее запястье, чтобы не опрокинуть стакан с водой.
– Я привезла для вас из города два подарка, – сказала она, поднимаясь.
– Правда? – прохрипел он.
Она указала на инвалидное кресло, стоявшее в углу; его колеса были заблокированы стальными стержнями.
– Второй подарок покажу завтра. А теперь, Пол, вам надо поспать.
22
Однако заснуть не удавалось. Он долго плавал в наркотическом дурмане и размышлял о сложившейся ситуации. Она как будто стала чуть проще. Ему было легче думать о книге, которую он создал и затем отправил в небытие. Факты… отдельные факты похожи на лоскуты, их можно сшить вместе, и тогда получится одеяло. Ближайшие соседи, которые, по словам Энни, ее не любят, живут в нескольких милях отсюда. Как же их фамилия? Бойнтоны. Нет, Ройдманы. Именно. Ройдманы. А до города далеко? Нет, явно не очень далеко. Дом Энни Уилкс, дом Ройдманов и город Сайдвиндер (увы, всего лишь маленький городок) находятся внутри круга диаметром от пятнадцати до сорока пяти миль…
И моя машина. Мой автомобиль «камаро» тоже внутри этого круга. Нашла ли его полиция? По-видимому, нет. Он человек известный; самая элементарная проверка показала бы, что он выехал из Боулдера и пропал. Если бы была обнаружена пустая разбитая машина, зарегистрированная на его имя, началось бы расследование, об этом сообщили бы по телевидению…
Она никогда не смотрит новости, не слушает радио; разве что через наушники.
Ему вспомнился рассказ о Шерлоке Холмсе – про собаку, которая не лаяла. Поскольку полицейские не приходили, значит, его машину не нашли. Если бы ее нашли, полиция проверила бы всех, кто живет внутри пресловутого крута. А сколько людей живет внутри этого крута, вблизи Западного склона Скалистых гор? Ройдманы, Энни Уилкс, может, еще десять – двенадцать человек?
А раз машину не нашли до сих пор, значит, ее и не найдут.
Богатое воображение Пола (какого не было у его родственников со стороны матери) сразу заработало. Полицейский высок, холодно-красив, и у него бачки чуть длиннее, чем следовало бы. На нем темные очки, в стеклах которых допрашиваемый отражается, как в зеркале. Некоторые особенности произношения выдают в нем уроженца Среднего Запада.
На склоне холма мы обнаружили перевернутую машину, которая принадлежит знаменитому писателю Полу Шелдону. На сиденье и приборной доске пятна крови, но самого Шелдона нигде не оказалось. Наверное, он выполз наружу, может быть, даже прошел какое-то расстояние…
Он усмехнулся, вспомнив, в каком состоянии его ноги, но полицейским, конечно, неизвестно, насколько он пострадал в катастрофе. Они должны предположить, что, если в машине его нет, значит, он мог передвигаться. Похищение – мысль настолько не правдоподобная, что она просто не пришла бы им в голову, по крайней мере сразу. А возможно, они бы и никогда до этого не додумались.
Вспомните, не видели ли вы кого-либо вблизи шоссе в день бури? Высокого светловолосого мужчину сорока двух лет? Возможно, на нем были голубые джинсы, фланелевая рубашка и парка. Не исключено, что он получил травмы!
Энни провожает полицейского в кухню и наливает ему кофе. Она позаботилась о том, чтобы все двери между спальней и кухней были закрыты – на случай, если Пол застонет.
Нет-нет, господин офицер, там не было ни души. Вообще-то я ехала из города и очень спешила, потому что Тони Роберте сказал, что эта буря так и не уйдет на юг.
Полицейский допивает кофе и поднимается. Ладно. Если вы, мадам, встретите кого-нибудь похожего, немедленно дайте нам знать. Это известный человек. О нем писал «Пипл».
Ну конечно, господин офицер!
И тот уходит.
Вполне возможно, подобная сцена уже имела место, а он даже не знал о ней. Может быть, коллега или коллеги придуманного им полицейского навестили Энни, пока он находился под действием лекарства. Одному Богу известно, сколько времени его сознание не работало.
Дальнейшие размышления привели его к выводу, что подобное развитие событий маловероятно. Он не Джо Блоу из Кокомо, о ком можно не беспокоиться. О нем писали журналы «Пипл» (о первом бестселлере) и «Мы» (о первом разводе). Вопрос о нем появился в одной из воскресных газетных викторин. Сами полицейские обязательно проверили бы информацию, хотя бы по телефону. Когда исчезает знаменитость – пусть даже псевдознаменитость, например, писатель, – весь мир встает на уши.
Не забывай, это всего лишь догадки.
Может, догадки, а может, логические выводы. В любом случае это лучше, чем лежать и ничего не делать.
А на шоссе было ограждение?
Он попытался вспомнить – тщетно. Он помнил только, как потянулся за сигаретой, а потом земля и небо непонятным образом поменялись местами. Затем – темнота. Однако логическое рассуждение (или обоснованная догадка, будь по-твоему, зануда) привело его к выводу, что ограждения не было. Если бы на каком-то участке дороги было повреждено ограждение, туда рано или поздно прибыла бы ремонтная бригада.
Так что же именно произошло?
Он не справился с управлением, машина съехала под откос и перевернулась. Крутого обрыва в том месте не было; если бы там был крутой обрыв, то стояло бы ограждение. И если бы его машина упала с крутого обрыва, Энни Уилкс едва ли обнаружила бы его, не говоря уж о том, что смогла бы вытащить на дорогу.
Так где же машина? Ясно, погребена под снегом.
Пол прикрыл рукой глаза и увидел снегоочиститель, двигающийся вверх по шоссе мимо того места, где всего два часа назад произошла авария. Машина похожа на оранжевое пятно, смазанное на фоне вечернего снегопада. Водитель обмотал лицо шарфом; на голове у него старомодная сине-белая полотняная спортивная кепка. Справа от обочины, на дне неглубокого оврага, который, несомненно, со временем станет глубже, лежит «камаро» Пола Шелдона; на заднем бампере у него – яркая наклейка с надписью: ХАРТА В ПРЕЗИДЕНТЫ. Но водитель снегоуборочной машины не видит «камаро»: наклейка в сумерках не привлекает внимания, и щетки по бокам машины ограничивают обзор. Водитель устал, он мечтает о том, как проедет в последний раз по маршруту и отправится домой, где его ждет чашка горячего чая.
Снегоуборочные щетки быстро вращаются и поднимают тучи снега, который тут же оседает у ската дороги. «Камаро» теперь занесен по самую крышу. Через некоторое время, когда уже совсем темнеет, в противоположном направлении на той же машине проезжает сменщик первого водителя, и «камаро» окончательно оказывается погребен под снегом.
Пол открыл глаза. По штукатурке потолка идут тонкие трещины, образуя узор, напоминающий три пересекающиеся буквы В. Пол очень хорошо знаком с этими буквами на потолке благодаря бесконечной веренице дней, прошедших с тех пор, как рассеялось темное облако, и все-таки он рассматривает буквы снова и перебирает в уме слова, начинающиеся на В: ведьма, василиск, вампир.
Да.
Так могло быть. Вполне могло.
А она подумала о том, что может произойти, когда его машину найдут?
Может быть, и подумала. Она сумасшедшая, но сумасшествие и глупость не одно и то же.
Хотя ей и в голову не пришло, что у него может быть копия рукописи «Быстрых автомобилей».
Да. И она была права. Эта сука оказалась права. У меня не было копии.
Он снова увидел, как чернеют листы бумаги, как пепел поднимается вверх, услышал треск пламени, ощутил запах уничтожения – и заскрежетал зубами, пытаясь выбросить из головы воспоминание; живое воображение – это не всегда хорошо.
Да, у меня не было копии, но девять писателей из десяти оставили бы копию – обязательно оставили бы, если бы у них были такие же высокие гонорары, как у меня, – даже не за книги о Мизери. А она об этом даже не подумала.
Она – не писатель.
Но и не дура, мы, пожалуй, оба так считаем. Она слишком, гордится собой; у нее не просто большое самомнение. Ее самомнение воистину огромно. Она считала, что сжечь рукопись – это правильно, и ей действительно не пришло в голову, что ее представление о том, что правильно, может опрокинуть такая мелочь, как обыкновенный ксерокс. Так-то, мой друг.
Предыдущие его умозаключения, возможно, были не более чем карточными домиками, но суждения об Энни Уилкс казались прочными, как скала Гибралтара. Благодаря работе над романами о Мизери он узнал о неврозах и психозах больше, чем обычный неспециалист, и он знал, что, хотя у психопата периоды глубокой депрессии могут чередоваться с периодами едва ли не агрессивного веселья и возбуждения, его болезненно раздутое самомнение никогда не исчезает: такая личность всегда уверена, что находится в центре всеобщего внимания, играет главную роль в великой драме, развязки которой затаив дыхание ждут миллионы зрителей.
Такой склад натуры просто не позволяет человеку думать о предметах, ситуациях, людях, находящихся вне его власти (реальной или воображаемой; невротик в состоянии осознать разницу, для психопата реальная и воображаемая власть неразличимы).
Энни Уилкс хотела, чтобы «Быстрые автомобили» были уничтожены, следовательно, для нее существовал всего один экземпляр.
Может, я бы сжечь этот чертов роман, если бы сказал, что есть копии. И она бы поняла, что сожжение одной рукописи ничего не даст. Она…
Только что он дышал ровно и уже засыпал, и вдруг у него перехватило дыхание и расширились зрачки.
Да, она бы поняла, что уничтожать рукопись бесполезно. Ей пришлось бы признать, что существует нечто вне ее досягаемости. Ее самомнению был бы нанесен удар, оно возмутилось бы…
Такой вот у меня характер!
Если поставить ее перед неоспоримым фактом, что она не может уничтожить «грязную книгу», не захочет ли она уничтожить создателя «грязной книги»? Кстати, ксерокопии Пола Шелдона не существует.
Сердце его заколотилось. В соседней комнате пробили часы. Сверху послышались тяжелые шаги. Журчание в туалете. Шум спускаемой воды. Опять тяжелые шаги. Скрип пружин кровати.
Вы больше не будете выводить меня из себя, правда?
Его рассудок вдруг отчаянно рванулся, как застоявшийся жеребец, пытающийся разорвать путы. А что ты, наш доморощенный психоаналитик, скажешь насчет машины? Если ее найдут? Чем это обернется для Пола Шелдона?
– Подождите, – прошептал он в темноту. – Минутку, минутку, не вешайте трубку. Не надо спешить.
Он снова прикрыл глаза рукой, и этот магический жест снова вызвал к жизни полицейского в темных очках и с длинными бакенбардами. На склоне холма мы обнаружили перевернутую машину, и тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
Но на этот раз Энни не пригласила его выпить кофе. Она не будет чувствовать себя в безопасности, пока он не отъедет от ее дома на приличное расстояние. Пусть кухня далеко от спальни, пусть все двери закрыты, пусть постоялец одурманен, все-таки полицейский может услышать стон.
Если машину обнаружат, Энни Уилкс будет знать, что ей угрожает разоблачение, ведь так?
– Да, – прошептал Пол. Из-за нарастающего ужаса он уже не обращал внимания на возобновляющуюся боль в ногах.
Ей будут грозить неприятности не потому, что она отвезла его к себе домой, особенно в том случае, если ее дом ближе к месту катастрофы, чем Сайдвиндер (а Пол полагал, что так оно и есть); за это ее скорее всего наградили бы медалью и вручили бы пожизненный членский билет Клуба любителей Мизери – к крайнему стыду Пола, такой клуб действительно существовал. Проблема в том, что она привезла его к себе, устроила на кровати в спальне для гостей и никому об этом не сообщила. Она не позвонила в местное отделение больницы: «Говорит Энни. Я живу на такой-то-маунтин-роуд, и у меня здесь лежит один парень, и выглядит он так, как будто на нем сплясал Кинг-Конг». Проблема в том, что она накачивает его наркотиком, доступа к которому у нее наверняка не должно быть, – если он хотя бы наполовину прав в своих подозрениях относительно Энни. Проблема в том, что она применяла своеобразный способ лечения: втыкала ему в локти иглы для внутривенного кормления и стискивала его ноги распиленными алюминиевыми костылями. Проблема в том, что Энни Уилкс приводили к присяге в Денвере… и вовсе не в качестве свидетеля защиты, подумал Пол. Готов спорить на собственный дом.
Итак, она наблюдает, как идеально чистая патрульная машина (идеально чистая, если не считать прилипших к колесам комьев грязного снега) удаляется вниз по шоссе… и тогда она чувствует себя в безопасности. Но не в полной безопасности, потому что теперь она похожа на зверя. Разбуженного зверя.
Легавые теперь не перестанут шнырять вокруг, потому что пропал не старина Джо Блоу из Кокомо; пропал Зевс от литературы, из чьей головы вышла рожденная им Мизери Честейн, на которую молятся владельцы книжных магазинов и которую обожают клиенты супермаркетов. Возможно, если они его не найдут, то прекратят поиски или по крайней мере поищут где-нибудь в другом месте, но не исключено, что кто-то из Ройдманов видел, как она проезжала по шоссе в тот вечер, а на заднем сиденье старушки Бесси громоздилось что-то непонятное, отдаленно напоминающее закутанного в одеяло человека. И даже если никто ничего не видел, с Ройдманов станется сочинить что-нибудь, чтобы сделать ей гадость, – они ее не любят.
Легавые могут вернуться, а ее постоялец, может быть, будет вести себя не так тихо.
Он вспомнил, как бесцельно бегал по комнате ее взгляд, когда в любое мгновение мог начаться пожар. Он видел, как она облизывает губы. Он видел, как она расхаживает взад-вперед, сжимая и разжимая кулаки и то и дело заглядывая в комнату, в которой лежит он, окутанный темной дымкой. И то и дело выкрикивает «Славно!» в пустые комнаты дома.
Она похитила редкую птицу с удивительными перьями – редкую африканскую птицу.
А как они поступят, если узнают?
Конечно, опять приведут к присяге. Вновь приведут к присяге в Денвере. И на сей раз она, возможно, не выйдет оттуда без конвоя.
Он убрал руку от глаз и посмотрел на пьяно покачивающиеся переплетенные буквы В на потолке. Чтобы увидеть все остальное, ему уже не понадобилось прикрывать глаза рукой. Она будет цепляться за него еще день или неделю. Может быть, понадобится новый визит или телефонный звонок, чтобы она решилась избавиться от своей гага avis.[9] Но в конце концов она это сделает. Дикая собака, если ее преследуют достаточно упорно, зарывает свою добычу в землю.
Она даст ему пять капсул вместо двух, или придушит подушкой, или просто пристрелит. Наверняка в доме есть ружье – оно есть почти в каждом удаленном от города доме. И – проблемы нет. Нет, не из ружья. Хлопотно. Могут остаться улики.
Пока ничего не произошло, так как машину не нашли. Возможно, его сейчас ищут в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, но никто не станет искать его в Сайдвиндере, штат Колорадо. А весной…
Три В заплясали на потолке. Весна. Видно. Вдруг.
Боль в ногах усилилась. Когда часы пробьют в следующий раз, она придет, но Пол почти боялся ее появления; он боялся, что она прочтет его мысли на лице, как вступление к повести, слишком страшной, чтобы ее написать. Его взгляд скользнул влево. Там на стене висел календарь. Фотография: мальчик съезжает на санках с горки. Календарь был раскрыт на февральской странице, но, если Пол не ошибся в подсчетах, то сейчас было начало марта. Просто Энни Уилкс забыла перевернуть страницу.
Долго еще до того дня, когда из-под тающего снега покажется «камаро», на заднем сиденье которого лежит его чемодан, а в отделении для перчаток – регистрационное свидетельство, где говорится, что владелец машины – Пол Шелдон? Скоро ли начнет таять снег?
Через шесть недель? Или через пять? Вот столько, наверное, мне осталось жить, подумал Пол, и его пробрала дрожь. Но нижняя половина тела проснулась окончательно, и теперь ему не заснуть до прихода Энни, до новой дозы лекарства.
23
На следующий вечер она принесла ему пишущую машинку «Ройал». Кабинетная модель из той эпохи, когда электрические пишущие машинки, цветные телевизоры, кнопочные телефоны существовали только на страницах научно-фантастических романов. Машинка была черная и элегантная, как пара ботинок на пуговицах. За стеклянным кожухом были видны рычаги, пружины, колесики и стержни. Слева торчала, как поднятый вверх палец голосующего на шоссе человека, потускневшая от долгого бездействия рукоятка возврата каретки. Каретка запылилась, на жесткой резине было множество царапин и вмятин. На передней части машинки полукругом расположились буквы: ROYAL. Энни секунду подержала машинку в руках, осматривая ее, затем со вздохом опустила на кровать между ног Пола.
Он не сводил с нее глаз.
Она ухмыляется?
Господи Иисусе, похоже на то.
Как бы то ни было, эта машинка не сулит ему ничего хорошего. У нее двухцветная лента – сверху красная полоса, под ней черная. А он-то уже забыл, что такие ленты существуют. Но приятного чувства ностальгии эта лента у него не вызывала.
– Ну как? – Она радостно улыбалась. – Что скажете?
– Отличная! – быстро ответил он. – Настоящий антиквариат.
Ее улыбка померкла.
– Я покупала не антиквариат. Я покупала подержанную вещь. Подержанную вещь в хорошем состоянии.
Он отреагировал мгновенно:
– Ну-ну! Пишущие машинки вообще нельзя называть антикварными в полном смысле слова. Хорошая машинка служит практически вечно. Эти старые кабинетные машинки – танки!
Он погладил бы машинку, если бы мог до нее дотянуться. Если бы мог, он бы поцеловал ее.
Ее улыбка вернулась. Его сердце стало биться чуть ровнее.
– Я ее купила в «Старых новостях». Правда, идиотское название для магазина? Конечно, Нэнси Дартмонгер, хозяйка, – дура. – Энни слегка помрачнела, но он сразу увидел, что сердится она не на него; пусть инстинкт самосохранения – это всего лишь инстинкт, но, как в последнее время стал понимать Пол, он помогает делать поразительные открытия. Пол начинал привыкать к смене фаз ее настроения, улавливая его изменения, словно прислушиваясь к тиканью ненадежных часов.
– И она не только дура, она дрянь. Дартмонгер! Ей надо бы носить фамилию Дартмонстр. Дважды разводилась, а теперь живет с буфетчиком. Поэтому когда вы сказали «антиквариат»…
– На вид она хорошая, – перебил он. Энни помолчала и затем, как бы извиняясь, сказала:
– Тут нет буквы «н».
– Правда?
– Вот. Видите?
Она повернула машинку так, чтобы он увидел полукруг клавиатуры. На месте буквы «н» оказалась дырка – как дыра от выпавшего зуба, – но все остальные клавиши были в порядке.
– Вижу.
Она опустила машинку. Он ощутил толчок и подумал, что машинка должна весить фунтов пятьдесят. Она пришла из того времени, когда не было сплавов и пластмассы… как и шестизначных сумм авансов за книги, книг по мотивам фильмов, «Ю-Эс-Эй тудэй», «Энтертейнмент тунайт», когда знаменитости не рекламировали кредитные карты или водку.
«Ройал» ухмылялся ему, суля неприятности.
– Она запросила сорок пять долларов, но потом сбавила до сорока. Из-за буквы «н». – Энни хитро улыбнулась. Я-то не дура, казалось, говорила эта улыбка.
Он улыбнулся в ответ. Прилив пришел. Поэтому улыбаться и лгать было легко.
– Сбавила? Так вы не по мелочи торговались!
Энни просияла.
– Я сказала ей, что «н» – важная буква, – сообщила она.
– Здорово это вы! Чертовски здорово!
Еще одно открытие: льстить легко, стоит только начать.
Она лукаво улыбнулась, словно обещая посвятить его в сладостную тайну.
– Я сказала ей, что буква «н» есть в фамилии моего любимого писателя.
– Она встречается дважды в имени моей любимой сиделки.
Ее улыбка теперь сверкала во всю мощь. Невероятно, но даже на каменных щеках вспыхнул румянец. Вот что будет, если в пасти каменного идола из повестей Райдера Хаггарда развести огонь, подумал Пол. Разумеется, ночью.
– Вы надо мной смеетесь! – жеманно произнесла она.
– Нет, – возразил он. – Вовсе нет.
– Отлично!
На мгновение она отвернулась, но выглядела не выключенной, а польщенной, немного взволнованной, и ей надо было собраться с мыслями. Наверное, Пол мог бы порадоваться этой перемене, если бы не машинка, тяжелая и твердая, как сама Энни, и такая же ущербная; она ухмылялась, обнажая дырку, и обещала ему неприятности.
– Кресло на колесах было куда дороже, – заговорила Энни. – У меня же нет доступа к бесплатным товарам для инвалидов, с тех пор как… – Она осеклась, нахмурилась и кашлянула. – Но вам пора начинать садиться, так что я ни капельки не жалею, что потратилась. А вы же не можете писать лежа?
– Нет…
– Я припасла доску… Отпилила подходящий кусок… И бумага… Погодите…
Она, как девочка, выбежала из комнаты, оставив Пола наедине с машинкой. Как только она повернулась к Полу спиной, его улыбка исчезла. Выражение «Ройала» не изменилось. Позднее Пол подумал, что он с самого начала знал, чем все это обернется. Так же как знал заранее, каким будет звук пишущей машинки, когда она будет клацать и ухмыляться.
Энни вернулась с пачкой бумаги «Коррасабль Бонд» в целлофановой упаковке и доской примерно три фута на четыре.
– Глядите!
Она водрузила доску на ручки кресла, которое стояло возле кровати, как некий чопорный костлявый посетитель, пришедший навестить больного друга. Пол уже видел собственный призрак, запертый в этом кресле доской.
Она поставила пишущую машинку на доску лицом к призраку и положила рядом с ней пачку бумаги (Пол больше всего на свете ненавидел «Коррасабль Бонд», так как краска смазывалась на отпечатанных страницах, когда их сдвигали в стопке). Энни создала нечто вроде рабочего кабинета калеки.
– Ну как?
В ответ он с легкостью произнес самую большую ложь в своей жизни:
– Выглядит очень симпатично. – А затем он задал вопрос, ответ на который уже знал:
– Как вы думаете, что я здесь напишу?
– Да что вы, Пол! – воскликнула она, поворачиваясь к нему; ее глаза как будто пустились в пляс от возбуждения, а щеки раскраснелись. – Я не думаю, я знаю! На этой машинке вы напишете новый роман! Ваш лучший роман! «Возвращение Мизери»!
24
«Возвращение Мизери». Он вообще ничего не чувствовал. Наверное, так же ничего не должен чувствовать человек, который только что отрезал себе кисть руки бензопилой и рассматривает теперь забавный тупой обрубок.
– Да! – Она сияла, как прожектор. Сильные руки были сложены на груди. – Пол, это же будет книга для меня! Ваша плата за то, что я выходила вас и возвратила к жизни! Первый и единственный экземпляр последней книги о Мизери! У меня будет что-то такое, чего нет ни у кого в мире и не будет, как ни старайся! Подумайте об этом!
– Энни, Мизери умерла. – Но у него уже мелькнула невероятная мысль: Я мог бы воскресить ее. От этой мысли он почувствовал себя усталым, но удивления не было. В конце концов, человек, который пил воду из ведра, где плавала половая тряпка, наверняка способен написать книгу по заказу.
– Нет, не умерла, – мечтательно сказала Энни. – Даже когда я так… так вышла из себя и рассердилась на вас, я знала, что на самом деле она не умерла. Я знала, что вы не могли окончательно убить ее. Потому что вы добрый.
– Разве? – спросил он и взглянул на пишущую машинку. Она ухмылялась. Сейчас посмотрим, насколько ты добр, приятель, шептала она.
– Да!
– Энни, не знаю, смогу ли я сидеть в кресле. В прошлый раз…
– В прошлый раз было больно, не сомневаюсь. И в следующий раз будет больно. Может быть, даже чуть больнее. Но настанет день – и довольно скоро, хотя вам может показаться, что время тянется медленнее, чем на самом деле, – когда будет чуть-чуть лучше. И еще чуть-чуть лучше. И еще чуть-чуть.
– Энни, можете ответить на один вопрос?
– Конечно, дорогой мой!
– Если я напишу для вас эту повесть…
– Роман! Хороший длинный роман – как все остальные, а то и еще длиннее!
Он прикрыл глаза, затем снова открыл их:
– Хорошо. Если я напишу для вас этот роман, вы меня отпустите, когда он будет готов?
На мгновение по ее липу пробежало беспокойное облачко, потом она внимательно, изучающе посмотрела на него:
– Пол, вы говорите так, как будто я удерживаю вас силой.
Он ничего не ответил, только поднял на нее глаза.
– Я думаю, к тому времени, когда вы его закончите, вы уже будете готовы… готовы снова встречаться с людьми, – сказала она. – Это вы хотели услышать?
– Да, я это и хотел услышать.
– Что ж, так будет честно! Я знаю, считается, что писатели – большие эгоисты, но я никогда не считала, что они обязательно должны быть неблагодарны!
Он продолжал смотреть на нее, и через секунду Энни отвела глаза; она была слегка возбуждена и горела от нетерпения.
Наконец он произнес:
– Если у вас есть все книги о Мизери, они мне понадобятся, потому что при мне нет рабочей тетради.
– Ну конечно, они у меня есть! – воскликнула она и добавила:
– Что такое рабочая тетрадь?
– Ну, такая большая тетрадь, куда можно вставлять листы. У меня там разные материалы по Мизери. В основном имена и географические названия, отсылки к разным эпизодам книг. Временные линии. Исторические факты…
Он видел, что она почти не слушает. Уже во второй раз она не проявила никакого интереса к технологии литературного труда, к теме, которая заставила бы затаить дыхание целую аудиторию людей, желающих стать писателями. Причина, полагал он, заключалась в ее предельной непосредственности. Энни – идеальный читатель; она любит читать, и ей глубоко безразлично, как создается книга. Она – воплощение Постоянного Читателя, условной фигуры в беллетристике викторианской эпохи.[10] Она не желает слушать об отсылках к эпизодам и временных линиях, потому что в ее представлении Мизери и все, кто ее окружает, совершенно реальны. Вероятно, она бы заинтересовалась, если бы он сказал, что у него в тетради данные переписи населения селения Литтл-Данторп.
– Не сомневайтесь, книги у вас будут. Они, конечно, слегка потрепаны, но это же только означает, что книгу любили и не раз перечитывали, правда ведь?
– Да, – сказал он. На сей раз ему не пришлось лгать. – Конечно, правда.
– Буду учиться переплетному делу, – мечтательно проговорила она. – И сама переплету «Возвращение Мизери». Если не считать Библии моей матери, у меня будет единственная по-настоящему моя книга.
– Это хорошо. – сказал он, просто чтобы что-нибудь сказать. У него слегка заныло в животе.
– Теперь я пойду, чтобы вы могли спокойно надеть волшебную шляпу, приносящую вам мысли, – проговорила она. – Это великолепно! Вы так не считаете?
– Энни, я и в самом деле тоже так считаю.
– Через полчаса я принесу вам цыплячью грудку с картофельным пюре и горошком. И даже немножко желе, раз уж вы так хорошо себя ведете. И я позабочусь о том, чтобы вы вовремя приняли лекарство. Даже больше: перед сном, если понадобится, вы получите лишнюю капсулу. Я хочу, чтобы вы как следует выспались, потому что завтра вы возвращаетесь к работе. Клянусь, за работой вы станете поправляться быстрее!
Она дошла до двери, остановилась, повернулась к нему и – самое дикое – послала ему воздушный поцелуй.
Дверь за ней захлопнулась.
Он не хотел смотреть на пишущую машинку, и какое-то время ему это удавалось, но его беспомощный взгляд все же упал на нее. Она стояла на бюро и ухмылялась. Смотреть на нее – все равно что смотреть на орудие пытки: испанский сапог, дыбу… Орудие пытки пока стоит без дела, но только пока…
Я думаю, к тому времени, когда вы его закончите, вы уже будете готовы… готовы снова встречаться с людьми.
Ох, Энни, ты врала и себе, и мне. Я это знаю, и ты тоже знаешь. Я это видел по твоим глазам.
Открывавшиеся перед ним ограниченные перспективы вовсе его не радовали: шесть недель жизни, наполненных болью переломанных костей и продолжением общения с Мизери Честейн, урожденной Кармайкл, а затем – поспешное погребение на заднем дворе. Не исключено, что она скормит его останки свинье по кличке Мизери – в этом будет хоть какая-то, пусть черная и жестокая, но справедливость.
Тогда не делай этого. Выведи ее из себя. Она же – ходячая бутыль нитроглицерина. Потряси ее. Вызови взрыв. Все лучше, чем лежать и страдать.
Он попробовал рассматривать сплетающиеся буквы на потолке, но слишком быстро снова перевел взгляд на пишущую машинку. А она все стояла на бюро, безмолвная, толстая, полная слов, которые он не хотел писать, и ухмылялась, и у нее по-прежнему недоставало одного зуба.
По-моему, приятель, ты сам в это не веришь. По-моему, ты захочешь жить, даже если будет больно. Если ради этого тебе придется вернуть Мизери к жизни – ты на это пойдешь. По крайней мере попытаешься. Но сначала тебе придется иметь дело со мной… А мне не нравится твоя физиономия.
– Взаимно, – прохрипел Пол.
Он попробовал выглянуть в окно – там валил снег. Однако очень скоро он снова уставился на пишущую машинку – с отвращением, но и с вожделением, сам не понимая, в какой момент его настроение изменилось.
25
Пересадка в кресло оказалась менее болезненной процедурой, чем он предполагал, и это было хорошо, так как по прежнему опыту он знал, что потом боли будет достаточно.
Энни поставила поднос с ужином на бюро, затем подкатила кресло вплотную к кровати. Она помогла Полу сесть, вызвав приступ тупой боли в области поясницы; впрочем, боль быстро прошла – и наклонилась над ним, прижав его плечо к своей шее. На долю секунды он почувствовал биение ее пульса, и его лицо перекосила гримаса. Затем ее правая рука твердо обхватила его спину, а левая – ягодицы.
– Постарайтесь не двигать ногами, – попросила она и попросту столкнула его в кресло. Сделала она это так же легко, как если бы вставляла книгу на свободное место на книжной полке. Да, у нее есть сила. Даже при благоприятном стечении обстоятельств исход его схватки с ней был бы под вопросом. А в своем нынешнем состоянии он мало чем отличался от восковой куклы.
Она положила перед ним доску.
– Ну, видите, как хорошо? – осведомилась она и пошла к бюро за подносом.
– Энни!
– Слушаю.
– Не могли бы вы повернуть машинку клавиатурой к стене?
– Зачем вам это нужно, хотела бы я знать? – нахмурилась она.
Затем, чтобы она не ухмылялась мне всю ночь.
– Мой давний предрассудок. Я всегда поворачиваю машинку к стене, когда приступаю к книге, – ответил он и тут же оговорился:
– Точнее, каждый вечер, пока работаю над книгой.
– А-а, вроде того что ступишь на трещину на тротуаре – сломаешь хребет маме, – закивала она. – Никогда не наступаю на трещины, если только это возможно. – Она развернула машинку; пусть теперь та ухмыляется в голую стену. – Так лучше?
– Намного.
– Какой же вы дурачок, – сказала она и принялась кормить его.
26
Ему снилась Энни Уилкс при дворе какого-то арабского калифа из сказок. Она вызывала джиннов и ифритов из старинных сосудов, а потом летала на ковре-самолете. Когда она пролетала мимо него (волосы развевались у нее за спиной, а взгляд был ясный и мужественный, как у стоящего на мостике капитана ледокола), он увидел, что ковер весь бело-зеленый, как фон автомобильных номерных знаков штата Колорадо.
Однажды, рассказывала Энни. Однажды случилось кое-что интересное. Было это в те дни, когда дедушка моего дедушки был маленьким, мальчиком. Эта история повествует о том, как бедный юноша. Мне рассказал об этом человек, который. Однажды. Однажды.
27
Он проснулся оттого, что Энни растолкала его. В окно светило утреннее солнце – снегопад закончился.
– Просыпайтесь, соня! – Энни едва не дрожала от нетерпения. – На завтрак вам йогурт и вкусненькое вареное яичко, и – пора приступать.
Он глянул на ее взволнованное лицо, и в нем неожиданно проснулось новое чувство – надежда. Ему снилось, что Энни Уилкс – Шахразада, ее мускулистое тело закутано в одеяние из прозрачной ткани, на ногах у нее розовые, расшитые золотом туфли с загнутыми носами, она летала на ковре-самолете и нараспев выкликала заклинания, открывающие лучшие повести на свете. Но конечно же, Шахразада – не Энни. Шахразада – это он. И если он напишет хорошо, если она не сумеет убить его, пока он не закончил, как бы громко ни повелевали ей сделать это ее звериные инстинкты, сколько бы ни твердили, что она обязана это сделать…
Наверное, тогда у него есть шанс?
Он взглянул на бюро и увидел, что, прежде чем разбудить его, Энни развернула машинку, которая ухмылялась своей щербатой ухмылкой и говорила ему, что можно надеяться и бороться, но в конце концов всем распоряжается рок.
28
Она подкатила его к окну, и впервые за многие недели его осветило солнце. Он ощутил, как его побелевшая кожа, на которой кое-где появились небольшие пролежни, бормочет от удовольствия и шепчет благодарные слова. С внутренней стороны в углах оконного стекла появилась изморозь; Пол протянул руку и почувствовал, что от окна веет холодом. Это чувство освежило его и напомнило прежнюю жизнь, как будто он получил весточку от старого друга.
Впервые за несколько недель – которые показались ему годами – он видел перед собой другой пейзаж, а не неизменные голубые обои. Триумфальную арку, страничку календаря на долгий, долгий февраль (он подумал, что будет вспоминать лицо мальчика на санках и его вязаную шапочку всякий раз, как наступит февраль, даже если ему суждено встретить еще пятьдесят февралей). Он смотрел на этот новый мир с той же страстью, с какой в детстве в первый раз смотрел кино – фильм «Бемби».
Горизонт не слишком далек, как всегда в Скалистых горах, где обзор неизбежно закрывают вздымающиеся вверх горные склоны. Голубое утреннее небо идеально чистое, ни облачка. Склон ближней горы покрыт зеленым лесным ковром. Между домом и краем леса – полоса голой земли площадью акров в семьдесят и безукоризненно белый снег, блистающий на солнце. Трудно сказать, что там, под снегом, – возделанное поле или луг. Только одно строение на этом фоне: аккуратный сарай. Когда она говорила о своей домашней живности или мрачно плелась мимо окна спальни, он представлял себе ее сарай ветхим, таким, какие рисуют в детских книжках о привидениях: покосившаяся и просевшая под тяжестью снега деревянная крыша, пустые запыленные окна (некоторые из них заколочены досками), двойные двери, перекосившиеся и, может быть, висящие на одной петле. Но эта ухоженная, опрятная постройка, выкрашенная в темно-красный цвет, походила скорее на гараж на пять машин, принадлежащий преуспевающему деревенскому джентльмену, которому захотелось выдать его за сарай. Перед ним стоял джип «чероки» – возможно, ему уже лет пять, но за ним явно хорошо ухаживают. Рядом на самодельной деревянной подставке стоял бульдозерный плуг. Чтобы присоединить плуг к джипу, Энни нужно лишь осторожно подъехать к подставке, так, чтобы крюки на бампере оказались напротив зажимов плуга, и закрепить зажимы рычагом. Очень полезное приспособление для женщины, которая живет одна, без соседей, кого она могла бы попросить о помощи (разумеется, кроме этих грязных подлюг Ройдманов, а от них Энни, даже умирая от голода, наверняка не взяла бы и свиную отбивную). Подъездная дорожка аккуратно расчищена – подтверждение, что она действительно пользуется данным приспособлением. Шоссе из окна не было видно.
– Я вижу, Пол, вам нравится мой сарай.
От неожиданности он обернулся. Из-за неосторожного резкого движения проснулась боль и тут же тупо вгрызлась в остатки голеней и в соляной купол, заменявший ему теперь левое колено, поворочалась там, заползла опять в свое укрытие и там задремала.
Энни несла поднос с завтраком. Жидкая пища, завтрак инвалида… но при виде нее у Пола заурчало в желудке. Когда Энни подошла ближе. Пол увидел, что на ней белые тапочки с матерчатой подошвой.
– Да, – ответил он. – Выглядит превосходно.
Она положила доску на ручки кресла и поставила на нее поднос. Затем пододвинула стул и села рядом с его креслом, чтобы смотреть, как он будет есть.
– Хо-ла! Как сделаешь, так и выглядит – так говорила моя мать. Я поддерживаю порядок, потому что, если махну на него рукой, соседи будут гавкать. Им только дай повод на меня наброситься или слух пустить. Пристойная внешность – это очень, очень важно. Что до сарая, то хлопот с ним немного, если только не запускать. Самое противное – убирать снег с крыши.
Гавкать, отметил он про себя. Надо запоминать лексикон Энни Уилкс для мемуаров – если, конечно, мне суждено когда-нибудь написать мемуары. Еще грязный подлюга, хо-ла. Потом наверняка будут и другие.
– Два года назад Билли Хавершем установил у меня на крыше сарая батареи. Включаешь их, они нагреваются, и снег тает. В эту зиму им уж недолго осталось работать. Видите, как все само тает?
Он не донес до рта ложку с куском яйца всмятку. Рука застыла в воздухе. Он посмотрел на сарай. На крыше висели сосульки, с них капало и капало. Сверкнув на солнце, капли попадали в узкую обледеневшую канавку для стока воды.
– Еще нет девяти часов, а на улице сорок пять градусов![11] – весело болтала Энни, а Пол представлял себе, как из-под тающего снега показывается задний бампер его «камаро», как он блестит. – Ну, пока-то это ненадолго, два-три похолодания еще будет, и буря еще, может, будет, но… Пол, скоро весна! А моя мать всегда говорила: ожидание весны – это как ожидание рая.
Он опустил ложку на тарелку.
– Не хотите доедать? Уже все?
– Все, – согласился Пол: в воображении он видел, как Ройдманы едут из Сайдвиндера в своей машине. Яркий луч бьет в глаз миссис Ройдман, она моргает, заслоняется ладонью… Хэм, что там такое? Не надо, я не сошла с ума, там что-то лежит! Сверкает так, что я чуть не ослепла. Давай вернемся, я хочу посмотреть!
– Тогда я все унесу, – сказала Энни, – а вы можете начинать. – Она тепло и ласково посмотрела на него. – Просто сказать не могу, как я этого жду.
Она вышла, а он остался в кресле у окна; вода все так же капала с сосулек под крышей сарая.
29
– Нельзя ли достать другой бумаги, не такой, как эта? – спросил он, когда она вернулась, поставила перед ним пишущую машинку и положила бумагу.
– Не такой, как эта? – переспросила она и хлопнула ладонью по целлофановой обертке «Коррасабль Бонд». – Но эта самая дорогая! Я специально спросила в писчебумажном магазине!
– А разве мама не говорила вам, что самое дорогое – еще не значит самое лучшее?
Лицо Энни потемнело. Желание оправдаться сменилось раздражением. Пол не сомневался, что вслед за раздражением придет ярость.
– Нет, не говорила. Зато, мистер Умник, она говорила другое: дешево заплатишь – дешевку получишь.
Он давно обнаружил, что климат в ее душе такой же, как весной на Среднем Западе. В ней ждет своего часа множество бурь, и если бы Пол был фермером, который увидел на небе то, что видел он сейчас на лице Энни, то немедленно велел бы своим домашним спуститься в погреб, чтобы переждать бурю. Лоб ее побелел. Ноздри раздувались, как у зверя, почуявшего лесной пожар. Ладони начали сжиматься в кулаки и разжиматься, ловя воздух и снова выпуская его.
Он нуждался в ней и был перед нею беспомощен, поэтому понял, что надо отступить, чтобы умиротворить ее, как племенам в повестях Хаггарда приходилось умиротворять своих богинь и приносить им жертвы, когда те гневались.
Но другая часть его разума, более расчетливая и менее трусливая, говорила ему, что он не сможет сыграть роль Шахразады, если будет бояться и идти на попятный во время вспышек ее гнева. Если отступить, она только сильнее разъярится. Если бы у тебя не было чего-то, что ей крайне необходимо, говорила эта разумная часть его мозга, она бы отвезла тебя в больницу или убила бы, чтобы обезопасить себя от Ройдманов – ведь для Энни весь мир населяют Ройдманы, в ее восприятии они следят за ней из-за каждого куста. Мальчик мой, Поли, если ты не поставишь эту суку на место немедленно, ты уже никогда не сможешь этого сделать.
Ее дыхание участилось, кулаки сжимались и разжимались все быстрее, и он понимал, что мгновение спустя она одолеет его.
Собрав остатки мужества и отчаянно пытаясь изобразить в голосе сильное, но, в сущности, незначительное раздражение, он сказал:
– Не надо. Прекратите. Если вы выйдете из себя, это ничего не изменит.
Она застыла, словно получив пощечину, и оскорбленно взглянула на него.
– Энни, – спокойно проговорил он, – это же ерунда.
– Это ваш трюк, – возразила она. – Вы не хотите писать мою книгу и выдумываете отговорки, чтобы не приступать к ней. Я так и знала. Эх, это не сработает. Это…
– Это же глупо, – подхватил он. – Разве я говорил, что не хочу?
– Нет… Нет, но…
– Вот именно. Потому что я хочу. Сейчас покажу вам, в чем проблема. Принесите, пожалуйста, коробку Уэбстера.
– Что принести?
– Коробочку ручек и карандашей, – пояснил он. – В газетах их часто называют коробками Уэбстера. В честь Даниэля Уэбстера.[12] – Эту ложь он выдумал только что, но она достигла желаемого результата – на лице Энни отразилось полное замешательство; она растерялась, соприкоснувшись с миром профессиональных понятий, о котором не имела ни малейшего представления. Замешательство смягчило (и вытеснило) гнев. Пол видел, что Энни даже не знала теперь, имеет ли она право сердиться.
Она принесла коробку ручек и карандашей и швырнула ее перед ним на доску, и он подумал:
Ура! Я выиграл! Но – нет, неверно. Выиграла Мизери.
Но и это неверно. Шахразада. Шахразада выиграла.
– Ну и что? – проворчала Энни.
– Смотрите.
Он распечатал пачку «Коррасабль» и извлек один лист, затем взял остро отточенный карандаш и провел на листе черту. Потом провел вторую, параллельную черту шариковой ручкой. После этого он провел большим пальцем по слегка шероховатой поверхности бумаги. Обе линии размазались в том месте, где палец прошел по ним; карандашная линия расплылась сильнее, чем та, которую он провел ручкой.
– Видите?
– И что?
– Краска с ленты тоже размажется, – объяснил он. – Не так сильно, как след от карандаша, но сильнее, чем паста авторучки.
– А вы что, собираетесь тереть пальцами каждую страницу?
– Все буквы размажутся за несколько недель или даже дней, если просто класть страницы друг на друга, а потом возвращаться к ним, – сказал он, – а когда работаешь над рукописью, это приходится делать достаточно часто. Постоянно надо проверять имена, даты. Энни, да что говорить, всякому, кто имеет отношение к книжному бизнесу, известно, что редакторы терпеть не могут рукописи, отпечатанные на «Коррасабль Бонд», почти так же, как написанные от руки.
– Не смейте это так называть. Я терпеть не могу, когда вы так говорите.
Он посмотрел на нее с искренним удивлением:
– Как? Что называть?
– Терпеть не могу, когда вы опошляете данный вам Богом талант, называя его бизнесом.
– Прошу прощения.
– Есть за что, – жестко произнесла она. – С таким же успехом вы можете себя называть проституткой.
Нет, Энни, подумал он, чувствуя прилив ярости. Я не проститутка. «Быстрые автомобили» – это о том, как не быть проституткой. Этот роман помог мне убить эту проклятую суку Мизери, теперь мне так кажется. Я поехал на Западное побережье, чтобы отпраздновать освобождение от собственной продажности. А ты что сделала? Вытащила меня из разбитой машины и заперла здесь. Чтобы ездить на мне. И в твоих глазах я время от времени замечаю, что какая-то часть тебя сознает это. Присяжные, возможно, сняли бы с тебя обвинение по причине психической ненормальности. Но я не прошу тебя, Энни.
– Сильно сказано, – заметил он вслух. – Но что касается бумаги…
– Я достану вам вашу гребаную бумагу, – угрюмо сказала она. – Только скажите, какая вам нужна, и я ее достану.
– Вы должны понимать, что я на вашей стороне…
– Не смешите меня. С тех пор как умерла моя мать, а произошло это двадцать лет назад, никто не был на моей стороне.
– Можете думать что угодно, – сказал он. – Если вы настолько не уверены в себе, что полагаете, будто я не благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь, это ваши трудности.
Он пристально посмотрел на нее и снова заметил в ее глазах оттенок неуверенности, желания поверить. Уже хорошо. Очень хорошо. Он смотрел на нее честно и открыто (насколько ему удавалось имитировать открытость) и представлял себе, как перерезает ей горло осколком стакана, как навсегда вытекает кровь, снабжавшая кислородом ее больной мозг.
– По крайней мере вы должны быть в состоянии поверить, что я – за книгу. Вы говорили, что хотите ее переплести. Полагаю, вы собираетесь переплести рукопись. То есть машинописные страницы?
– Разумеется, я так и собиралась поступить.
О, разумеется. Ведь если ты отнесешь рукопись в типографию, там могут возникнуть вопросы. Может, ты ничего не смыслишь в книгоиздании, но ты не до такой степени наивна. Пол Шелдон в розыске, и директор типографии запомнит, что примерно в то время, когда писатель исчез, в его типографию поступила объемистая рукопись романа о любимой героине Шелдона. И содержание заказа он запомнит обязательно – заказ такой необычный, что его запомнит кто угодно. Один печатный экземпляр романа.
Единственный экземпляр.
«Как она выглядела, господин офицер? Как же, крупная женщина. Чем-то напоминает каменного божка из романов Хаггарда. Подождите-ка, сейчас я найду ее фамилию и адрес. Надо посмотреть в папке с копиями счетов…»
– И совершенно правильно, – сказал он. – Переплетенная рукопись может выглядеть очень элегантно. Не хуже настоящей книги большого формата. Но, Энни, книга должна служить долго, а если я напечатаю ее на «Коррасабль Бонд», через десять лет у вас останутся только чистые листы. Конечно, если вы не собираетесь просто поставить ее на полку и не прикасаться к ней.
Конечно, не собирается. Ни за что на свете. Она будет раскрывать ее каждый день, может, несколько раз в день. Будет носить с собой и жадно читать.
На ее лице появилось странное каменное выражение. Ему не нравилась эта почти нарочитая демонстрация упрямства. Она действовала ему на нервы. Степень ее ярости он мог вычислить, но это новое непроницаемое выражение было в чем-то очень детским.
– Не надо тратить слов, – произнесла она. – Я уже сказала, что достану вам бумагу. Сорт?
– Когда вы приедете в магазин, скажите, что вам нужно две стопы… Стопа – это пачка в пятьсот листов…
– Знаю, Пол. Я не дура.
– Мне известно, что вы не дура, – сказал он, однако занервничал сильнее. Боль снова начала путешествовать по ногам, а в области таза давала о себе знать даже сильнее – ведь он находился в сидячем положении уже почти час, и стала сказываться перемена привычной позы.
Ради Бога, сохраняй хладнокровие – не доверяй того, что ты выиграл!
Но разве я хоть что-то выиграл? Или я выдаю желаемое за действительное?
– Попросите две стопы белой крупнозернистой бумаги. Хороший сорт – «Хаммермилл Бонд»; «Триад Модерн» тоже. Две стопы будут стоить дешевле, чем стопа «Коррасабль», а этого количества хватит, чтобы все написать и переписать набело.
– Я еду сейчас же, – заявила она. Он тревожно взглянул на нее и понял, что она опять собирается оставить его без лекарства, причем в кресле. А сидеть уже было больно, и даже если она поторопится, к ее возвращению боль станет чудовищной.
– Не надо ехать сейчас, – быстро возразил он. – Я могу начать и на «Коррасабль» – ведь все равно придется переписывать.
– Только дураки приступают к важной работе с плохими инструментами. – Она взяла пачку бумаги, потом схватила лист с двумя параллельными линиями, смяла в комок и выбросила его и пачку в мусорное ведро. Затем снова повернулась к нему. Каменная маска, изображающая упрямство, не сходила с ее лица. Глаза светились, как две тусклые монеты.
– Я еду в город, – проговорила она. – Я знаю, что вы хотите начать как можно скорее, так как вы на моей стороне. – Последние слова она произнесла с едким сарказмом (и, как показалось Полу, с такой ненавистью к себе, о которой сама не подозревала). – Поэтому даже не стану тратить время на то, чтобы положить вас в кровать.
Она улыбнулась, как уродливая кукла, и беззвучно приблизилась к нему. Ее пальцы коснулись его волос. Он содрогнулся. Хотел сдержаться и не смог. Ее неживая улыбка сделалась шире.
– Хотя я предполагаю, что начало работы над «Возвращением Мизери» задержится на день… или два… или даже на три. Да, наверное, вы не сможете сидеть еще дня три. Вам будет больно. Очень жаль. У меня в холодильнике стоит бутылка шампанского. Придется отнести ее в сарай.
– Энни, я могу начать, если только…
– Нет, Пол. – Она направилась к двери, но остановилась и обернулась к нему. На него глядела каменная маска. И только глаза, две тусклые монеты, жили на ней. – Мне хотелось бы, чтобы вы пока кое-что обдумали. Вы можете думать, что проведете меня. Я знаю, что кажусь глупой и медленно соображающей. Но я не глупа, Пол, и умею соображать.
Внезапно каменная маска разлетелась на куски и из-под нее выглянуло лицо до безумия злобного ребенка. На секунду Полу показалось, что его страх достиг предела и он сейчас умрет. Неужели он думал, что перехватил инициативу? Да как он мог! Как можно быть Шахразадой, если ты в плену у безумия?
Она ринулась к нему: колени ее подгибались, локти двигались, как поршни, рассекая затхлый воздух. Волосы падали на лоб и выбивались из-под заколок. Теперь она двигалась не бесшумно: она шла, как Голиаф, атакующий врага. Фотография Триумфальной арки испуганно задребезжала.
– Аааааа-йааа! – завопила она и опустила кулак на соляной купол, образовавшийся на месте левого колена Пола.
Его голова откинулась назад, и он взвыл: на шее и на лбу вздулись вены. Боль вырвалась из колена и окутала его ослепительно белой вспышкой сверхновой звезды.
Она рывком подняла пишущую машинку, как будто та была сделана не из металла, а из картона, и швырнула ее на каминную полку.
– Сидите, – сказала она, оскаливаясь, – и думайте, кто здесь главный. Думайте о том, что я могу с вами сделать, если вы будете плохо себя вести или попробуете меня обмануть. Можете кричать, если хотите, потому что никто вас не услышит, ведь здесь никто не останавливается: все знают, что Энни Уилкс сумасшедшая, и знают, что она сделала, хотя ее и признали невиновной.
Она подошла к двери и опять обернулась, предвкушая новую звериную выходку, и тогда он закричал, а ее ухмылка сделалась шире.
– И еще кое-что вам скажу, – тихо промолвила она. – Они думают, что я просто выкрутилась, и они не ошибаются. Подумайте об этом, Пол, пока я буду ездить за вашей гребаной бумагой.
Она вышла, хлопнув дверью так, что затрясся весь дом. Затем Пол услышал, как поворачивается ключ.
Он откинулся назад, весь дрожа и тщетно стараясь унять дрожь, потому что от нее боль усиливалась. По щекам текли слезы. Он вновь и вновь представлял себе, как она мчится к нему и изо всех сил, как молотком, бьет по тому месту, где когда-то было колено, и раз за разом его окутывал бело-голубой болевой взрыв.
– Прошу тебя, Боже, прошу тебя, – стонал он, а в это время из-за окна доносился рев мотора отъезжающего «чероки». – Прошу тебя. Боже, освободи меня или убей… освободи или убей…
Затих удаляющийся звук мотора, а Бог не освободил и не убил Пола Шелдона, он все так же сидел и плакал от боли, которая проснулась окончательно и вгрызалась в его тело.
30
Впоследствии он подумал, что не склонный к точным определениям мир назвал бы все, совершенное им в следующие минуты, актом героизма. И он бы согласился с этим определением, хотя на самом деле совершил всего лишь необходимое для выживания усилие.
В его мозгу смутно звучал голос какого-то до безумия увлеченного игрой спортивного комментатора – Говарда Косселла, или Уорнера Вулфа, или вечно сумасшедшего Джонни Моста, – описывавший разворачивавшиеся перед ним события в передаче «Футбол в понедельник вечером». Как можно назвать этот вид спорта, когда человек стремится добыть лекарство прежде, чем боль убьет его? «Гонка за допингом»?
– Этот Шелдон сегодня вытворяет что-то невероятное! – вопил комментатор в голове Пола Шелдона. – Не верю, что кто-нибудь из присутствующих сегодня на стадионе имени Энни Уилкс или сидящих перед экранами телевизоров поверил бы, что после такого удара человек способен заставить двигаться это кресло… но оно движется! Да! Давайте посмотрим повтор!
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
Хаггард Генри Райдер (1856–1925) – английский писатель. Действие многих его романов происходит в экзотических странах.
В американских аптеках, помимо лекарств, часто продается разнообразная печатная продукция.
Сангре-де-Кристо – горный массив на территории штата Колорадо.
Лос-Анджелес.
Роман английского писателя Томаса Гарди (1840–1928)
Роман Уильяма Фолкнера (1897–1962).
Согласно германским поверьям, Песочный человек приходит к детям по вечерам и сыплет им в глаза песок, отчего они засыпают. Этот образ переосмыслен в сказке Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек».
В США разрушительные ураганы принято называть женскими именами.
Rara avis – буквально: редкая птица (лат.). Употребляется в значении: уникум, редкостный экземпляр, нечто необычное.
Викторианская эпоха – правление английской королевы Виктории – длилась с 1837-го по 1901 г. В эту эпоху создавали свои произведения выдающиеся английские романисты, в частности, Ч. Диккенс.
Около семи градусов тепла по шкале Цельсия.
Уэбстер Даниэль (1782–1852) – юрист, государственный и политический деятель. Славился своим красноречием: до сих пор считается крупнейшим оратором в истории США.