Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2
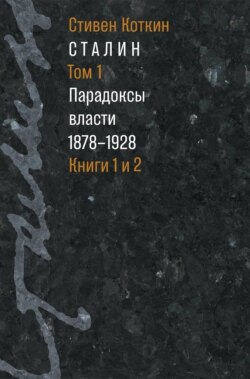
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Отрывок из книги
Главная тема трехтомной работы «Сталин» – место России в мире и место Сталина в России, принявшей обличье Советского Союза. В некоторых отношениях эта книга приближается к чему-то вроде всемирной истории, какой она виделась из окна сталинского кабинета (по крайней мере я писал ее примерно с таким чувством). Ранее из-под моего пера вышла работа, в которой сталинская эпоха рассматривалась на конкретном примере, поданном с точки зрения повседневной жизни простого человека – в форме всеобщей истории одного промышленного города [1]. Взгляд из окна кабинета по самой своей природе имеет меньшее разрешение при изучении широкого общества – маленьких тактик выживания, – но, с другой стороны, политический режим сам представляет собой своего рода общество. Более того, темой этой моей книги, как и предыдущей, служит власть: откуда она исходит, в чем выражается и какие последствия влечет за собой. Для изложения данного сюжета выбрана точка зрения, открывающаяся из окна сталинского кабинета, – но не точка зрения самого Сталина. Наблюдая за тем, как он стремился завладеть рычагами власти над Евразией и остальным миром, мы должны помнить, что он не был первым человеком, кто стоял у штурвала российского государства, и что Советский Союз имел такое же сложное географическое положение и был окружен теми же великими державами, что и Российская империя. Однако в геополитическом плане Советскому Союзу было еще тяжелее, поскольку некоторые бывшие территории, подвластные царю, превратились в независимые враждебные государства. В то же время советское государство имело более современное и идеологизированное авторитарное политическое устройство, чем царская Россия, и обладало вождем в лице Сталина, выделявшегося сверхъестественным сочетанием твердых марксистских убеждений и великодержавных устремлений, социопатических тенденций и исключительной трудоспособности и решительностью. Выявление момента, когда возник этот персонаж, вполне различимый к 1928 году, и причин, по которым это произошло, составляет одну из наших задач. Вторая сводится к изучению роли индивидуума – пусть и такого, как Сталин, – на грандиозном историческом повороте.
В то время как исследования, посвященные большой стратегии, зачастую выстроены на уровне крупномасштабных структур и в недостаточной мере учитывают случайности или отдельные события, авторы биографических работ склонны ставить в центр внимания личную волю и порой упускают из виду действие более могущественных сил. Разумеется, брак биографического и исторического подходов может пойти на пользу им обоим. Цель настоящей книги – показать в деталях, какие возможности и препятствия, встающие перед великими и незначительными личностями, проистекают из положения их государства по отношению к другим государствам, природы отечественных институтов, идейной атмосферы, исторической конъюнктуры (война, мир, депрессия, рост) и действий либо бездействия других игроков. Даже перед такими диктаторами, как Сталин, открывался лишь ограниченный набор возможностей. История изобилует случайностями; непреднамеренные последствия и неожиданные результаты являются в ней правилом. За перестройку исторического пейзажа обычно берутся не те, кому ненадолго или надолго удается подчинить его себе, а те фигуры, которые выходят на передний план именно благодаря умению использовать возможности. Фельдмаршал граф Гельмут фон Мольтке-старший (1800–1891), на протяжении тридцати одного года возглавлявший сперва прусский, а затем и германский генеральный штаб, справедливо считал стратегию «системой уловок» или импровизацией, то есть способностью обратить себе на пользу неожиданные обстоятельства, созданные чужими усилиями или волей случая. Мы увидим, что Сталин, демонстрируя хитроумие и изобретательность, вновь и вновь извлекал из встававших перед ним ситуаций больше, чем они обещали на первый взгляд. Но в то же время правление Сталина показывает, что в исключительно редких случаях решения, принятые отдельным лицом, способны радикально преобразовать политические и социоэкономические структуры целой страны, порождая глобальные последствия.
.....
Еще в 1790-е годы, когда в Пруссии – по площади составлявшей 1 % от России – насчитывалось 14 тысяч чиновников, в Российской империи их было всего 16 тысяч и всего один университет, основанный лишь несколько десятилетий назад, но на протяжении XIX века численность российского чиновничества возрастала в семь раз быстрее, чем численность населения, достигнув к 1900 году 385 тысяч человек, причем лишь за период после 1850 года она выросла на 300 тысяч человек. Правда, несмотря на то что многие из печально известных российских провинциальных губернаторов накопили большой административный опыт и навыки, находившийся у них в подчинении малопрестижный аппарат губернского управления по-прежнему страдал от крайней нехватки компетентных и честных служащих [253]. А некоторые территории испытывали плачевный недостаток управленческих кадров: например, в Ферганской долине, самом многолюдном округе царского Туркестана, служило только 58 администраторов и всего лишь два переводчика на как минимум 2 миллиона жителей [254]. Если в Германской империи в 1900 году на 1000 жителей в целом приходилось 12,6 чиновника, то в Российской империи – менее четырех, что было связано в том числе и с огромной численностью российского населения – 130 миллионов по сравнению с 50 миллионами в Германии [255]. Русское государство при всей внушительности его центрального аппарата было размазано по стране тонким слоем [256]. Управление губерниями в основном выпадало на долю местного общества, полномочия которого тем не менее были ограничены имперскими законами и организационный уровень которого мог быть самым разным [257]. Некоторые губернии, например Нижегородская, в этом отношении достигли больших успехов [258]. Другие – например, Томская – страдали из-за разгула коррупции. Некомпетентность больше всего процветала на самом верху системы. Многие подчиненные плели интриги с целью занять место своих начальников, что способствовало склонности ставить на высшие должности посредственностей, по крайней мере в качестве подчиненных высших уровней, причем особенно ярко это проявлялось при назначении царских министров [259]. Но несмотря на то, что в России отсутствовала система экзаменов для чиновников – аналогичная той, в соответствии с которой производилось назначение на должности в Германской империи и в Японии, – под влиянием административных потребностей при назначении на должности постепенно стали учитываться наличие университетского образования и опыт [260]. В ряды российского чиновничества начали набирать людей из всех социальных слоев и многие тысячи плебеев благодаря государственной службе получили дворянство: этот путь наверх впоследствии усложнился, но так и не был закрыт.
Вместе с тем в отличие от абсолютизма в Пруссии, Австрии, Великобритании или Франции, российское самодержавие продержалось очень долго. Прусский король Фридрих Великий (правил в 1772–1786 годы) называл себя «первым слугой государства», тем самым указывая на то, что государство существует отдельно от повелителя. На медали, розданные российскими царями своим чиновникам, наверное, ушел целый сибирский рудник серебра, однако самодержцы, ревностно охраняя свои прерогативы, отказывались признавать независимость государства от них. «Самодержавный принцип» пережил даже самые серьезные кризисы. В 1855 году, когда Александр II наследовал своему отцу, умирающий Николай I сказал сыну: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое» [261]. Однако именно Николай в стремлении поживиться за счет распадающейся Османской империи втянул империю в дорогостоящую Крымскую войну (1853–1856). Британия возглавила союз европейских государств, выступивших против Санкт-Петербурга, и Николай II после потери 450 тысяч подданных империи был вынужден признать поражение, пока конфликт не перерос в мировую войну [262]. После поражения – это была первая война, проигранная Россией за последние 145 лет, – Александру II пришлось согласиться на проведение Великих реформ, включая и запоздалую отмену крепостного права. («Лучше, чтобы это было сделано сверху, а не снизу», – убеждал царь недовольных дворян, которых с трудом удалось задобрить огромными выкупными платежами, которые государство собирало для них с крестьян [263].) Однако самодержавные прерогативы самого царя остались в неприкосновенности. Александр II допустил беспрецедентно высокий уровень свободы в университетах, печати и судах, но как только российские подданные стали пользоваться этими гражданскими свободами, он дал задний ход [264]. Царь-освободитель, как его стали называть, не желал давать стране конституцию, потому что, как отмечал его министр внутренних дел, он был «убежден, что это принесло бы несчастье России и привело бы к ее распаду» [265]. Однако царь не позволял даже того, чтобы государственные законы распространялись на чиновников страны, поскольку это было бы ущемлением самодержавной власти [266]. Наоборот, учреждение ограниченного местного самоуправления, известная независимость судов и дарование некоторой автономии университетам, наряду с освобождением крепостных, в глазах Александра II делали усиление самодержавной власти еще более злободневной задачей. Это привело к тому, что в ходе Великих реформ был самым плачевным образом упущен момент, подходящий для создания парламента – сперва в 1860-е, а затем в 1880-е [267].
.....