Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины
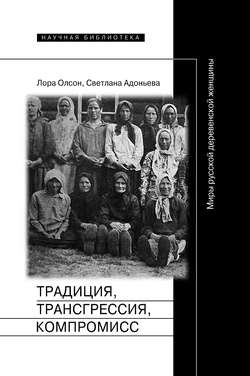
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Светлана Адоньева. Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины
Благодарности
Введение. Традиция, трансгрессия, компромисс
Традиция, трансгрессия, компромисс
Фольклор в контексте жизни: сюжеты и сценарии
Гендер как коммуникативная стратегия
«Мы» и «я»: двойной взгляд и авторская речь
Структура книги
Глава 1. Патриархальные традиции и женское знание в истории российской фольклористики
Сказка
Былина
Причитания
Песни
Глава 2. Половозрастные статусы и идентичность: структура и история
Половозрастные статусы в русской деревне XX века
Горизонтальные отношения: парни
Горизонтальные отношения: девки
Вертикальные отношения: послушание до и после свадьбы
Коллективизация и разрушение возрастной социализации мужчин
Традиционная социализация женщин
Большуха
Символы статуса большухи: корова
Большуха в советское время
Три поколения советских крестьянок
Первое поколение: 1899 – 1916
Второе поколение: 1917 – 1929
Третье поколение: 1930 – 1950
Глава 3. Субъективность и относительная идентичность: рассказы деревенских женщин об ухаживании и замужестве
Ухаживание и свадьба в двадцатые годы ХХ века
Личные истории
Культивация агентивности и сфера персонального
Глава 4. Удовольствие, власть и любовь к мелодраме: певческие традиции ХХ века и конструирование женской идентичности
Женское пение: удовольствие, власть и тоска
Возраст и поколение исполнительниц
Мелодраматизм романса и баллады
Конформные тексты
Протестные тексты
Сериалы: обаяние злодейки
Сплетни: мелодраматическая речь
Глава 5. Трансгрессия как коммуникативный акт: женские частушки
Частушка как коммуникативный акт
Частушка как карнавальная форма
Частушка как сатира: советский контекст
Женские политические частушки в постсоветской деревне
Глава 6. Магические силы и символические ресурсы материнства
Материнство как обряд посвящения
Сглаз: доминирование, контроль и доверие в женской иерархии
Стать матерью: овладение магическими практиками защиты и лечения
Роль свекрови
Страх и контроль
Глава 7. Магия, контроль и социальные роли
Власть, знание и трансгрессия
Телесная и пространственная метафоры подозрения
Социальные драмы снятия порчи
Сценарии, сюжеты и слухи: как наррация преобразует сообщество
Гендер
Социальная сеть колдовства
Колдовство и религия
Власть и ритуал
Эпилог
Глава 8. Конструирование идентичности в рассказах о сверхъестественном
Контекст повествований
Рассказ как наставление
Рассказы и гендерная идентичность
Динамический контекст коммуникации: разговор
Глава 9. Смерть, «родители» и практики памяти
Смерть как практика
Культ мертвых
Причетница как посредник
Посвящаемые и посвящающие
Хранительницы памяти
Заключение
Женщины, мужчины и традиция
Власть и передача знаний
Публичное и приватное
Трансгрессия и компромисс
Субъективность
Иллюстрации
Библиография
Отрывок из книги
Горожанин встречает тех, о ком мы говорим в этой книге, на уличных рынках и перекрестках больших городов. Это – «бабушки»: крепкие пожилые или среднего возраста женщины в платках, продающие шерстяные носки, цветы, вязанные крючком салфеточки или яблоки. Купивший у них что-нибудь обычно получает в дополнение к товару еще и добрые слова: благословение, похвалу, а также пожелание съесть или носить «на здоровье», – и обмен становится больше похожим на взаимное воздание почестей, нежели на обычную сделку.
Такие «бабушки» и есть основное население сегодняшних русских деревень. Они являют собой лицо русской деревни и в то же время – тягловую силу российского сельского хозяйства. В торговле нам открывается их притягательная заботливость, но из истории (а для некоторых и из личного опыта) известно, что эти «бабушки» могут сражаться с поразительной храбростью и свирепостью: мы знаем об этом, например, по «бабьим бунтам» времен коллективизации, когда женщины защищали экономическую независимость своих семейных хозяйств. Протесты женщин часто оказывались более успешными, чем мужские, и заканчивались меньшими бедами для бунтующих, поскольку властям было неловко признаваться в том, что они не смогли усмирить разбушевавшихся баб [Viola 1996: 185, 190]. Женщины проявляли значительное мужество перед лицом невзгод, особенно во время Второй мировой войны, когда взяли на себя задачу без мужского участия накормить страну [Engel 2004: 211], и после войны, когда молодых деревенских женщин привлекали к работе на лесоповалах, в шахтах и рудниках.
.....
В исследовании мы уделяем значительное внимание темпоральным характеристикам биографических нарративов. По концепции Альфреда Шютца, существуют две временные позиции, с точки зрения которых люди говорят о себе: позиция, ориентированная на будущее, на проект, которую он назвал «для-того-чтобы мотив», и позиция, ориентированная на прошлое, интерпретирующая то, что уже произошло («потому-что мотив»). «Когда действие окончено, его исходное (заданное на этапе проекта) значение будет изменено в зависимости от того, что в действительности было выполнено, и тогда оно становится доступным для ряда рефлексий, которые могут придать ему значение в прошлом» [Schütz 1962: 69 – 70]. В работе мы используем понятия сюжета и сценария: сценарии представляют собой типовые, обеспеченные культурой проекты действий, а культурные сюжеты – типовые программы понимания и интерпретации. Культурные сюжеты и жизненные сценарии существуют для того, чтобы помогать людям конструировать и описывать прошлое, интерпретировать настоящее и знать, как вести себя в будущем [Адоньева 2001: 101, 112].
Сюжет представляет собой принятый в данной культуре способ толкования и репрезентации прошлого. Стремясь обеспечить смыслом настоящее, индивиды выбирают сюжеты из набора, заданного культурой – в народных песнях, сказках, литературе, кинематографе, – дабы преобразовать свой пережитый опыт в общее знание, нарратив или автобиографию. Сценарий, напротив, представляет собой инструмент для созидания предсказуемого будущего. Выбор сценария определяет выбор поведения. В этом смысле один и тот же знак (значимое событие или образ) может запускать разные сценарии поведения наблюдателя. Возьмем пример из повседневной жизни: культурный императив, который мы наблюдаем и в России, и в США, может быть высказан приблизительно таким образом: «Как женщина, я прежде всего мать». Сюжет, обеспеченный этим императивом, может быть, например, таким: «Я ушла от мужа-алкоголика, чтобы мой ребенок вырос в нормальных условиях». Логика, мотивирующая поступок, заключается в том, что женщине следует поступать прежде всего в интересах ребенка. И дело тут не в истине, но в убеждении и установке; женщина строит понимание своих действий и свою жизнь на основе этого императива. Примером сценария, произрастающего на этом убеждении, может быть следующее: «Я должна найти себе мужа, который мог бы стать достойным отцом для моих детей». В любом случае не имеет значения, присутствует ли в этой установке реальное основание, но ее принятие – это способ понимания и форма действия.
.....