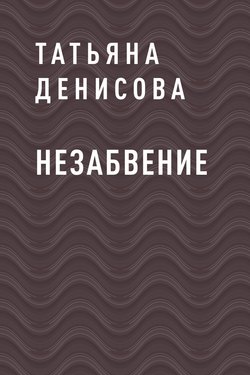Читать книгу НЕЗАБВЕНИЕ - Татьяна Аркадьевна Денисова - Страница 1
ОглавлениеОн же сказал им:
не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти.
Деяния святых апостолов. Гл.1, ст.7
Глава 1.Белое-черное
Мрак неизвестности
Ближе к полуночи в четверг выпал первый снег. Дикий северный ветер принес его издалека. Слетев с пологих склонов Пай-Хой, седая позёмка порхнула над разрушенным кряжем, по темным извилинам ринулась к ледникам, качнулась над черною бездной, шумно вздохнула и понеслась по долине нефритов, покрывая мхи и лишайники снежною пеленой. Рваный шипящий поток, запылив белой крапиной водопады, устремился к верховью, где россыпи золота рассекали рыжим хвостом Хальмеръю, летя по каньону, запорошил скалистые берега, через увалы и гребни Уральских гор выскользнул к речным перекатам и загудел. Тотчас же ненасытная снежная мгла поглотила крутые угоры. Ветер тревожно завыл и, петляя среди шершавых стволов, слепо цеплялся за сосны.
Метель облепила замшелые валуны, заревела, с жалобным стоном промчалась мимо Сорочьих скал, здесь покружила над старым Кудельным болотом и, замедляя полёт, затянула белым саваном город.
Снег мигом опутал плоские нити сумрачных улиц, крадучись, вполз в тесные переулки, засыпал немые провалы дворов. Безжалостный, казалось, он выпал навеки и, словно взывая о милости, каменными обелисками к небу тянулись уличные фонари. Их тугие тени скорбно падали темными полосами, ломались о бордюрные камни, трепетали от ветра, то растворялись в белесой мути, то вновь появлялись. Лишь жалкий беспомощный свет вырывался из темноты, желтый туман парил над стелющимся гладкой выскобленной доской пустынным проспектом. Там сквозь снежный покров кое-где ещё проступали рваные трещины, но мертвенная белизна жадно рванулась к ним, запахнула обнажённые выемки, тотчас плоской волной подкралась к сиротливым обочинам и, лизнув комья замерзшей земли, разлилась по чахлой траве, по опавшим сморщенным листьям.
Нещадная ледяная заверть опять закружила волчком. Воющий ветер теребил жухлый шиповник на колких корявых ветвях, дёргал и с яростью рвал сухие стебли увядших цветов. Они склонялись друг к другу, перепутывались, дрожали и горестно жались, будто искали защиту. Однако ж, деваться им было некуда. Лишь погребальная пелена их сравняла с землёй, закрутилась в колючей седой пыли, загудела, раскидала печальные венки по кустам, тут же взметнулась испуганным ульем, забелила скелеты почернелых деревьев, ринулась кверху и, сливаясь с ночною мглой, неудержимо хлынула дальше, подобралась к городским окраинам и затянула каменную кудель на крутых уступах карьера. К тому времени небо исчезло в чернилах густых облаков, даже верхушки фабричных труб пропали из виду.
Там, на отшибе, в объятиях глухого белесого полога скрылась чудовищная воронка. Вокруг этого мрачного места в жёлтом свете прожекторов медленно передвигались люди. Против воли их вырвали из пределов обычного дня и бросили в продуваемое стылым ветром выжженное пространство. Измученные, с посиневшими лицами, работая без передышки, вручную, они утратили ощущение времени. Ветер подхватывал и уносил их надежду выбраться поскорее отсюда. Ледяные колючие хлопья, вываливаясь из темноты, больно хлестали щеки. При каждом вдохе и выдохе душил едкий химический запах, от которого невозможно было укрыться. Лишь стоило повернуться к прожектору, свет резал глаза. Под ногами дыбились то ли комья стылого пепла, то ли земля, перемешанная с вязким, липким, каким-то непонятным, и потому пугающим веществом. Ужас застыл на лицах людей. Зажатые среди растекавшихся в воздухе двоящихся ликов, они, не имея сил, покорно выполняли свой долг. А ветер, этот нещадный ветер бил в спину, как будто толкал обречённых к пропасти, чтобы затем швырнуть в её глухой непроглядный мрак. Вокруг этой рваной, глубокой ямы, похожей на чёрную пасть, точно призраки из загробного мира, замерли вывороченные наизнанку каркасы обгорелых машин. Даже их тени внушали безумный страх. Никто не знал, что здесь случилось, не понимал происшедшего, и поэтому одуревшим от мучительной неизвестности людям всё виделось так, словно прошла целая вечность, и за пределами светового луча нет ничего – конец мироздания.
Тем временем обезумевший ветер метался, швырял снежные иглы, то подвывал, то свистел, мотал разорванные провода. Они извивались и дёргались, точно гигантские змеи бились в предсмертных судорогах. Где-то рядом во тьме истошно визжала собака, и ничто не могло заставить её умолкнуть. В тот же миг из каменных недр, что скрывались за карьерным отвалом, доносились отрывистые гудки и тяжёлые протяжные вздохи электровозов. Они рассекали гнетущий мрак и подолгу висели в гулком воздухе осенней ночи.
О боже, пусть скорее это закончится!
Глебу казалось, что в бездушном, обрамленном чёрными сумерками круге света ход времени навсегда остановлен. Здесь искали пропавших людей. Невзирая на снег и глухую ночь, их искали повсюду: в тягучей, вязкой земле, между глыбами расплавленного бетона, среди развороченных блоков и обломков обугленных кирпичей, в грудах покорёженного металла, среди изуродованных конструкций, торчавших, как вырванные клешни. И никаких следов. Ничего! Никого!.. Словно тот жуткий разверстый зев поглотил уязвимую плоть человеческих тел…
– Нет. О господи, нет!
Глеб услышал свой голос как будто издалека. В горле першило. Он задержал дыхание, сжался. Иззябшие руки дрожали.
– Ну не могли же эти семь исчезнуть бесследно, – шепнул он одними губами, – или восемь…
Ветер гулко гремел в голове. Снежный буран тушил веру в возможность кого-то найти. Нависла тягостная тревога и почти осязаемая неизвестность.
У Глеба утробно урчал живот. Стучало в висках, внутри что-то оборвалось. Осознание бренности не давало покоя. Невозможно было представить, что минувшим днем в этом месте стояло здание цеха, в котором привычно работали люди.
Глеб обернулся и замер в тревожном оцепенении. В окружении неясных предметов, едва прикрытых лохмотьями снега, поглощало мутное чувство животного страха и желание вырваться. Он поглядел на часы – время стояло, и жизнь как будто раскололась на две половины: до этого дня и после.
Послышалось какое-то шевеление. Глеб выждал секунду-другую и, озираясь, прислушался, затем встал недвижно и с опаской вскинул глаза. Над его головой хищно корчился растерзанный кабель. Свисая с опоры, он хрипло постанывал и шипел. Снова раздался дикий собачий вой, похожий на плач. Он пролетел в непроглядной тьме и угас. Глеб съёжился и, словно желая разглядеть судьбу, оглянулся по сторонам. Тени сливались, и жизнь ускользала. Это было похоже на нескончаемый жуткий сон. Или может уже двинулась с места Земля? Чувствуя себя запертым в темноте, он просунул руки глубже в карманы и закрыл глаза. Больше всего хотелось стереть из памяти ту зловещую яму, развеять приторный, жуткий запах и заглушить те гнетущие звуки, от которых мучило чувство беспомощности перед смертью. Она, точно призрак, застыла над выжженной чёрной дырой.
За время, проведенное в этой адской зоне, Глеб начал ценить радость привычной жизни. Всё как будто бы встало на свои места. Увиденное так поразило, что вытряхнуло из него тяжелые думы, примирило с тоской, семейными дрязгами и тягостным грузом утомительных мелких забот. Как и все, он оказался здесь неожиданно. В четверг у сержанта милиции Сюткина был выходной, и вызов на службу застал врасплох. Глупая суета, рутина и скука в последнее время раздражали так, что накануне снова и снова он выдумывал способы, как улизнуть из дома. К ноябрю сильно похолодало, у щуки начинался предзимний жор, и в тайне Глеб мечтал о рыбалке. Наконец оторвусь по полной, думал он, однако же, вечером, в среду, вернувшись со службы, сразу жене ничего не сказал. Как обычно, недоставало уверенности в себе. Бунтарская мысль совсем погасла, когда Лариска, уперев руки в бока, взглянула на мужа. Губы её скривились:
– Значит так, Сюткин!
Она нахмурилась и затараторила:
– Завтра съезди в универмаг. Маринка обещала отоварить талоны на мыло и порошок. Приезжай к открытию. Ты понял, что я сказала?
Глеб вздрогнул от неожиданности и с досадой поморщился:
– Ну вот, началось – ни одно, так другое. Эх! Так и знал.
Говоря откровенно, он был зол и расстроен, но пытался сохранять спокойствие и спорить не стал. Да ну её! Жена была властной особой и любила выпускать пар. С ней лучше не связываться.
Лариска, помолчав минуту-другую, вытерла руки о свой халат, потом покосилась на Глеба:
– И загляни в гастроном, вдруг что-то выкинут.
Она злобно кивнула в сторону шкафа, где лежали все документы:
– Вон там возьми книжку с талонами.
Глеб заметил, как брызнула у неё изо рта слюна.
В ту же секунду, не дождавшись ответа, Лариска продолжила:
– Сахара осталось две ложки, и макарон – последняя пачка.
Она облизнула губы и крикнула:
– Ты слышишь меня?
Глеб изобразил слабую улыбку, что-то невнятное промычал в ответ. Ясно. Все планы рухнули.
– Расслабился, называется. Никакой личной жизни!
Бормоча себе под нос, Глеб украдкой поглядел на жену и угрюмо насупился. Потом успокоил себя: лучше выждать, а там посмотрим.
Он вытер о трико вспотевшие ладони и плюхнулся на диван. Послышался скрип. Глеб сидел неподвижно минуту-другую, потом включил телевизор. Тут он шумно вздохнул и, втянув голову в плечи, с тоской уставился в мерцающий экран.
Запутанные сообщения о конфликте Горбачева и Ельцина, про рыночную экономику и программу «500 дней» тревожили неопределенностью.
– Приватизация, демонополизация, либерализация; право граждан на лучшую, более достойную жизнь … – диктор монотонно бубнил и бубнил.
Голова начала разбухать от смутных предчувствий беды. Кто-то вокруг перекраивал жизнь, и страх перед будущим вспарывал мозг.
Глеб убавил звук, и голос диктора стал почти неслышен. Какое-то время он тупо таращился в телевизор, а потом принялся лихорадочно нажимать кнопки пульта, однако по-прежнему выбрал первый канал. Ему стало гадко и тошно. Глеб, поджав губы, прищурился и начал подергивать край рубашки.
Тут раздался громкий треск и шипение. Из кухни потянуло пережаренным луком, и вся комната разом наполнилась удушливым дымом. От него не было никакого спасения. Во рту пересохло, спазмы сводили горло. С детства от этого ненавистного запаха у Глеба пропадал аппетит и начиналась изжога. Он, багровея, закашлял, перестал теребить рубашку и, скрипя зубами, скорчился на диване. В горле жгло, горело где-то под ложечкой, или выше. Глеб, проглотив слюну, забурчал:
– Вечно одно и то же!
Хотелось хотя бы на время забыть, что жена где-то рядом, однако тут до него донеслось знакомое глухое брюзжание:
– Да пропади оно пропадом!
Глеб, подняв голову, резко выпрямился, и даже чуть-чуть испугался – в узком проёме кухни беспрестанно мелькал рыжий затёртый халат жены. Жилистая, худая, Лариска с суровым лицом сновала туда-сюда, судорожно выдвигала и задвигала ящики, стучала отчаянно створками шкафа, гремела посудой, что-то бухтела себе под нос, вздыхала, яростно тёрла щетинистым ёршиком бутылки из-под молока. Он с тревогой следил за хватким движением рук. В это время шлёпали тапки, пустой холодильник заунывно гудел, шкварчала на сковороде картошка, бесконечно шумела текущая из крана вода.
Чтобы заглушить назойливую какофонию, Глеб прибавил звук в телевизоре. Раздался громкий бесстрастный голос с чёткой артикуляцией:
– Верховный Совет РСФСР принял Закон "Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР".
В голове загудело. Вдруг захотелось взвыть, заорать благим матом и расколотить проклятый ящик. Испугавшись собственных мыслей, Глеб рывком поднялся с дивана.
Что за бред! Надо покурить.
В полутьме, шаркая тапками по ковру, он стремительно пересёк комнату, щёлкнул выключателем и холодной потной рукой распахнул двери ванной – оттуда пахнуло плесенью и закисшим бельём. На верёвках, вперемешку с линялыми майками и сатиновыми трусами, черным атласным лифчиком, заношенными носками и разноцветными наволочками, сплошной неприступной стеной висели пододеяльники и простыня. Он отшатнулся, рванул назад и, всполошив нахальных тараканов, скрылся за скрипучей дверью туалета.
Будни
Надо признаться, с самого начала у Глеба не было никакого желания таскаться по магазинам. Его ли это дело? Разумеется, нет! И всё-таки утром в четверг он проснулся ещё до рассвета. Прислушался: ни звука, полная тишина. Значит, Лариска ушла на работу, а сын, стало быть, спит.
С вечера начал поднывать зуб. Глеб потрогал его языком, дернул щекой и опять почувствовал боль. Взглянул на часы: они показывали половину седьмого, и выходит, не было никакой надежды попасть в этот день к врачу.
Он встал с кровати и, пошарив рукой по стене, нажал выключатель. Тот щелкнул, и бледные тени от бра вмиг расползлись по цветастым обоям. Глеб прошел быстрым шагом по комнате, нервно сдвинул портьеру и глянул в окно: в мутно-серых коробках домов, что стояли напротив, кое-где молчаливо светились желтые окна. Глеб, сонно моргая, протёр ладонью глаза и прижался к стеклу: оно показалось холодным, как лёд. Он недовольно прищурился и, смотря в беспросветную хмарь, вздохнул тяжело: вот и ноябрь. Самое ненавистное время – ещё не зима, но уже и не осень.
Глеб пригляделся: набухшие мятые тучи мрачно висели над городом. Вдоль улицы тянулась цепь фонарей. И без того тусклый свет кое-где обрывался и в затенённых провалах виднелись погасшие лампы. Под фонарями, у сирых темных обочин, изрезанными рядами теснились кусты. Внизу по дороге медленно ехал мусоровоз, за ним, переваливаясь неуклюже, тащился большой пузатый автобус. Крохотные фигурки людей чернели на остановке. Из-за поворота высунулся грузовик, остановился у светофора. Зажегся зелёный свет, и через пару минут дорога была пуста.
Глеб опёрся руками о подоконник, слегка отпрянул назад, и тут в мутном от пыли стекле взгляд выхватил отражение заспанного лица. Бледный, он молчаливо стоял и, не мигая, смотрел на белесые волосы и такого же цвета жидкие брови, впалые щёки, сухие узкие губы. Сутулясь и выпятив подбородок, потрогал пальцем торчавший на шее кадык и, будто впервые, в тот миг увидел свои глаза: усталые, потухшие, они настороженно смотрели из сумрачного пространства. Он передернулся и уцепился за подоконник. Какие-то дурацкие мысли запрыгали в голове и начали мучить его. Почему-то вспомнилось, как вернувшись из армии, просто хотел проветриться, погулять. И хотя Лариска показалось ему такой душкой, Глеб совсем не собирался жениться. Пришлось. Да, выбора не оставалось, это правда. Пришлось отвечать за свои ошибки. В том опрометчивом возрасте, когда нахлынет внезапная страсть, их все совершают. Мать тогда пожалела его: мол, понятное дело, какой мужик откажется, если баба сама подставит. А батя взорвался: «Чем ты думал?» Дескать, сам виноват: заварил кашу, вот и расхлёбывай. Глеба передернуло от этих слов. Если честно, он сначала запутался, а потом испугался. Тут Лариска ещё вся в слезах, так сказать, опороченная. А Глеб и представить себе не мог, что станет отцом. Он ночами не спал, даже в какое-то время по-настоящему запил. Но от этого стало только хуже. Спасибо родителям: вовремя остановили.
Тут же вспомнилась привычная пьяная дурь на свадьбе. Другой жизни Глеб ожидал, однако после женитьбы уже не было никакой надежды. Тоска разъедала его изнутри, и всё казалось безразличным. Ладно, когда любовь выгорает, и жизнь делается бесцветной, а тут и любви-то не было вовсе. К тому же Лариска, только стала женой, сразу принялась командовать, сделалась раздражительной. Всё как-то враз изменилось, и Глеб никак не мог найти объяснений этой странной метаморфозе. Словно бы устав от долгих запутанных ухищрений, Лариска сняла с себя маску и обратилась в сварливую тетку. В говоре её слышалось постоянное понукание. Уж он-то знал, на что та способна. Криком и визгом она действовала ему на нервы. Почему-то всякий раз истерика у неё начиналось с утра, и обычно заканчивалось после обеда. И так каждый день! Глеб сперва возмутился, как будто его обвели вокруг пальца. Даже хотел уйти. Оказалась, кишка тонка. Потому-то он перестал бороться с реальностью и зажил обычно, как все. Через четыре месяца после свадьбы родился сын, и годы полетели один за другим. Обидно. Не успел оглянуться, как жизнь затянула тусклая пелена обыденности. Впрочем, он никого не винил. Зачем? Если на то пошло, мог бы и сам для начала узнать Лариску получше. Сейчас, разумеется, ничего не поделаешь. Поздно оглядываться назад. Прошлое не вернуть и ничего в нём нельзя изменить.
Глеб шумно вздохнул и прислушался. В доме с утра было тихо, только тяжелые капли стучали набатом по раковине. Он, тряхнув головой, повернулся и направился в кухню. В утренней тишине звуки падавших капель звучали тревожно. Глеб включил свет, подкрутил вентиль на кране, но вода так и продолжила капать. «Ещё в понедельник вызвал сантехника. Не дождаться видно, – подумал Глеб. – Надо снова идти в КЖУ». Он взял чайник и, налив воды, осторожно поставил его на плиту, тут же снял с гвоздя зажигалку и нажал пальцем кнопку. Та щёлкнула раз, и ещё раз. Долго-долго зубцы стального колесика, клацая в тишине, пытались высечь искру, но безуспешно.
– Да, в конце-то концов! – проворчал с нетерпением Глеб.
А тем временем газ тихо шипел, постепенно расползался вокруг, и как будто бы тухлой капустой пахнуло. Пришлось распахнуть настежь форточку. С улицы потянуло холодом. Он повесил зажигалку обратно на гвоздь, достал из тумбочки коробок, чиркнул спичкой, зажег наконец горелку и пошел умываться.
В спёртом, удушливом воздухе ванной Глеб раздвинул висевшее на верёвках белье, приблизился к умывальнику и повернул чёрный пластмассовый вентиль. Труба загудела, и следом раздался гулкий хлопок. Глеб не успел ещё даже подумать, а в то время вода, как обычно, вырвалась с шумом из крана, ударилась о дно умывальника и, разлетевшись на мелкие брызги, окатила его с головы до ног. После ещё немного пофыркала, наконец успокоилась и продолжила течь равнодушной тонкой струей.
Глеб сплёвывал воду и, ругаясь вполголоса, снимал промокшую майку. Потом вытер облитые волосы, мокрые плечи и руки. Уж, казалось, давно мог бы привыкнуть, так нет! Каждый раз раздражало это странное свойство городского водопровода.
Он с яростью швырнул майку в ванну и принялся чистить зубы. Поплескал напоследок в лицо холодной водой, промокнул полотенцем, закрыл поплотнее дверь и вынул из стенного шкафчика бритву. Это был подарок родителей, лишь только Глеб возвратился из армии. Основательная, тяжелая, электрическая бритва рычала, больно выщипывала редкие волоски и раздражала кожу. Глеб старательно поводил по щекам. По правде сказать, в этом не было необходимости, но он всё надеялся, что так борода начнёт лучше расти.
В то время, когда Глеб вернулся на кухню, в чайнике бурлила вода. Крышка приподнималась, по облупившимся стенкам стекали кипящие струи, и пар со свистом вырывался из носика. Глеб выключил газ, достал из шкафа любимую синюю чашку, насыпал в неё сухого кипрея, добавил немного душицы, бросил щепотку мяты и залил кипятком. Заклубился легкий парок, и аромат безмятежности понемногу начал успокаивать душу. Глеб вынул из тумбочки сахарницу, но та оказалось пустой. Пока ставил её обратно, вспомнил, что вечером накануне к ним заходила мать – принесла горячие пирожки с капустой, которые он так любил. Всякий раз их запах вызывал у него ощущение тепла и уюта. Глеб снял цветастое полотенце с пузатой глиняной миски. Пышные пирожки с румяными корочками напоминали ему о детстве. И хотя они за ночь успели остыть, он их разом умял.
Чашка, из которой он пил, так и осталась стоять на столе. Глеб встал и отправился в комнату. Он быстро оделся и, выйдя в прихожую, в полутьме вдруг запнулся. Сумку с аккумулятором он уложил ещё с вечера и поставил в кладовку, да видно, Лариска её оттуда зачем-то достала. Глеб включил свет и, потирая ногу, выругался про себя. Он, закусив губу, придвинулся к зеркалу, суетливо пригладил ладонью жидкие волосы, потом надел сшитый матерью меховой жилет, аккуратно, боясь, как бы ни порвать, влез в заношенную куртку, поверх шерстяных носок обул стоптанные ботинки и, переминаясь ногами, недовольно поморщился:
– Жмут. Надо забрать сапоги из ремонта.
Глеб подошел к трюмо, выдвинул ящик и долго-долго копался в нём, пока среди старых записок не отыскал квитанцию. Сунул её в карман и, посмотрев на часы, увидел, что стрелки подходят к восьми. Он ухватился за сумку, повесил её на плечо и, щёлкнув чуть слышно замком, вышел не спеша из квартиры.
Лишь Глеб ступил на площадку, тотчас ударил в нос едкий смешанный запах пролитого пива, мочи, загнившего мусора и табачного дыма.
– Вот что с этим поделаешь? – он усмехнулся с досадой. – Следы коллективной жизни.
Глеб, задержав дыхание, двинулся к лифту, но тот опять-таки не работал. Он раз за разом жал кнопку, потом с шумом выдохнул воздух и, крепко выругавшись, стал спускаться пешком в полутьме. Оказалось, этажом ниже снова кто-то выкрутил лампочку.
– Ну, берегитесь! – процедил Глеб. – Я до вас доберусь.
Прикинул: может сходить к участковому? В это самое время у него под ногами противно заскрежетали осколки разбитой бутылки. Он поскользнулся и, потеряв равновесие, ухватился в последний момент за перила. На грязных ступенях валялись картофельные очистки, к ним примешивались обгорелые спички и окурки от сигарет. Впрочем, всё было бы хорошо, но для каждого, кто жил в этом доме, он был свой и ничей. Как говорится, заурядная девятиэтажка – территория хаоса. Жизнь здесь поначалу Глебу казалась временной. Всякий раз снова и снова он мысленно возвращался в родительский дом. Снесли его позапрошлой весной, но память не утихала и всё также хранила запах сосновых стен, пышные бутоны фиолетовых георгинов и золотые шары под окном, кудрявую грядку гороха у бани. Как он любил дух распаренных берёзовых веников! Глеб зябко поёжился. Ему вдруг особенно ясно припомнилось, как по субботам, ближе к полудню, они с отцом шли топить печь, как подолгу сидели на обжигающих лавках и, вдыхая густой ароматный пар, отмокали в душистой пене.
Да, всё на свете кончается. От прошлого остались лишь пожелтевшие фотографии, что лежали в старом семейном альбоме. Они о многом могли рассказать. На одной – мать с отцом корчуют старые пни, на другой – пилят доски, а ещё есть та, которую Глеб больше всего любил: черно-белая карточка, где родители сидели, обнявшись, на венце бревенчатого сруба. И хотя снимок немного потрескался, всё ж было видно, как солнце высвечивает их молодые красивые лица, обещая счастливую жизнь.
Теперь обрывки воспоминаний, как увядшие листья, разложены по затертым страницам альбома, и надежно прихлопнуты обложкой из синего бархата. Вот уж и в Заводском переулке ничего не осталось, что напоминало бы о родительском доме. Ну что тут поделаешь, перемены хлынули разом: дискотеки и джинсы «варёнка», очереди в магазинах, пустые прилавки, талоны и карточки, съезд депутатов, выборы президента, Кашпировский, Чумак. Они без разбору затягивали в сумасшедшую круговерть поменявшейся жизни, и к тому же пугали. А вы думали – как? Тут ещё дом снесли. То место, где он стоял, сровняли с землей, и дорогу построили. И будто так было всегда. Единственное, что родителей утешало: Глебу с семьёй тоже дали квартиру, двухкомнатную, рядом со школой.
Мысли о прошлом всегда пробуждали тоску. Между тем шаг за шагом Глеб продвигался, цепко держась за перила. Идти по заплёванным и замызганным шелухой ступеням приходилось с большой осторожностью. В длинном ущелье лестницы он временами поворачивал голову, и тогда останавливался, приглядываясь к размазанным отпечаткам ботинок. Вперемешку со всякими надписями они чернели на обшарпанных стенах.
Глеб, вспыхивая от бессилия, со злостью ворчал сквозь зубы:
– Вот балбесы! Ноги бы вырвать.
Дойдя до одной из площадок, он почувствовал отвратительный утренний холод. Оконный проём зиял пустотой, и с улицы, из темноты, со свистом врывался пронзительный ветер. Глеб зябко вздрогнул, поёжился, вынул из кармана перчатки, да так неловко, что одна провалилась в темный проем. Он тут же ускорил шаг, и когда оставшиеся этажи были пройдены, нашел её на полу. Встал у порога и натянул на ладони перчатки. Мать их связала пару недель назад, как раз к его дню рождения. Глеб порадовался, что они пришлись очень кстати.
Он толкнул деревянную дверь, та распахнулась со скрипом, и Глеб шагнул на крыльцо. После всех отвратительных запахов уличный воздух ему показался свежим. Он поправил на шее шарф, и, покачиваясь под тяжестью сумки, двинулся вдоль монотонных панельных домов, по угрюмым улицам, в сизой тьме, мимо соснового перелеска, туда, где на пустынных задворках завода тянулись ряды гаражей.
Глеб шёл почти час, потом долго не мог отпереть окрашенные серебрянкой ворота. Пришлось повозиться с тремя хитрыми замками. Выточенные руками отца сложные стальные цилиндры замёрзли на холоде и никак не поддавались. Глеб их насилу открыл, вошёл, огляделся: продавленный старый топчан в углу и откидной столик на кирпичной стене придавали гаражу домашний вид.
Он часто не знал, куда себя деть, и тогда любил укрыться в этой маленькой крепости. Запах бензина, машинного масла и сырости успокаивал. Торопиться в этот раз было некуда. Глеб поставил сумку на верстак и, вынув из неё аккумулятор, заметил белый налет на клеммах. Он выдвинул верхний ящик, пошарил рукой и вытащил рваный лист наждачной бумаги; аккуратно почистил клеммы, потом откинул капот, поставил аккумулятор на место и бережно закрепил скобой; первой поставил плюсовую клемму, потом – отрицательную, сел в кабину и попробовал завести двигатель. Тот загудел с призывным раскатом. Глеб выключил зажигание и, выйдя из машины, долил в бачок тормозную жидкость, после проверил тосол: голубой раствор, как положено, плескался между двумя делениями. Он проверил давление и подкачал колёса, затянул покрепче болты, почистил основательно фары и, включив их, выдохнул облегчённо: работают. Глеб хотел уже было садиться в машину, и тут спохватился: мать же просила привезти картошки и маринованных огурцов.
Пришлось брать фонарь и спускаться в ямку. Лишь окинул взглядом отсеки, тотчас припомнился добротный просторный подвал в родительском доме. Воспоминания эти всегда наводили уныние. Хотя этой осенью, в конце сентября, картошку, капусту, морковь опять покупали у батиных родственников, Глебу казалось, будто свои были всё же вкуснее.
Он набросал в мешок картофельных клубней: один к одному – крупные, чистые, ровные. Ему невольно подумалось: «Деревенские. Это не та гниль, что валяется в магазине».
Глеб приподнял мешок, подержал его на весу и решил: «Хватит, тяжёлый». После взял с полки банку маринованных огурцов, сунул в сетку и начал медленно подниматься по ступеням металлической лестницы. Тут он шарахнулся ненароком в сторону и больно ударился головой. Потирая затылок, Глеб выбрался-таки из ямки, поставил банку в багажник, придавил её аккуратно мешком, потом сел в машину и, поднимая зеркало заднего вида, заметил, как из гаража, что стоял напротив, выходит сосед. Чтоб не задеть ворота, Глеб не спеша поворачивал руль и, выехав, остановился.
Увидев Глеба, сосед оживился. По тому, как в правой руке он с легкостью нёс алюминиевую канистру, было понятно, что снова ищет, у кого бы занять бензин.
Глеб вышел из машины, поздоровался и бросил дежурное:
– Как дела?
– Как видишь, хреново, – сопя носом, мрачно ответил сосед.
С некоторой тревогой он кинул сигарету на землю и, придавив её сапогом, покосился на Глеба:
– Да так даже лучше, а то, когда всё хорошо, вот тут и ждёшь всякой гадости.
Тут он кашлянул глухо и, помолчав секунду, добавил:
– А так и ждать не надо.
Глаза его глянули хмуро из-под набухших век. Он дрожащей рукой потер подбородок, устало провёл по щекам, покрытым седой щетиной. От соседа несло перегаром вина.
Глеб спросил осторожно:
– Ну что, с похмелюги, или выпил уже?
Тот, сдвинув на бок помятую кепку, с раздражением дернул бровями:
– Каждый так и норовит поддеть.
Лицо его обиженно вытянулось:
– Скажи, вот почему так? Чуть что, все сразу допытываются «ты пил?», и никто не спросил «ты ел?».
Глеб с жалостью взглянул на него:
– Может тебе закодироваться?
– Какой, закодироваться! – вспыхнул сосед. – Нельзя после пятидесяти. Сердце садится.
Глеб с горечью усмехнулся:
– Тогда тебе надо жениться.
– Не-ет уж! – с надутым видом мотнул головой сосед. – В третий раз точно не буду.
Он помолчал и коротко бросил:
– Опостылело всё!
«Я тут ещё со своими советами, – ругнул себя Глеб. – «Всё равно от себя самого не спасешь человека».
Он участливо улыбнулся соседу:
– А сколько ты пьешь?
Тот глянул с усмешкой:
– Ну, коли повезет, так водки бутылку, да пива ещё.
– Да где ты их только берёшь? – удивился Глеб.
– Места надо знать, – мрачно бросил сосед.
Всем было известно, что тот работает грузчиком в общепите.
Глеб с насмешкой спросил:
– Что, потихоньку воруешь?
Сосед, чуть обидевшись, с укором взглянул:
– Да ладно. Там украдено всё до меня.
После паузы, пряча глаза, спросил виновато:
– Не подкинешь бензина?
Глеб помотал головой и, часто моргая, ответил:
– Извини, у самого бак неполный. Так, бултыхается что-то.
Сосед почесал подбородок и протянул недовольно:
– Поня-ятно.
На отечном лице мелькнула улыбка. Он скривил рот и хмыкнул:
– Ну да ладно, извини за компанию.
После этих слов пауза затянулась.
Глеб смотрел на соседа с сочувствием. Тот неожиданно коротко бросил:
– Пойду я.
Тут он, нахмурившись, отошёл, постоял ещё пару секунд, потом развернулся и косолапой походкой поплелся вдоль гаражей. Дерзкий ветер, лихо кружа, сорвал кепку с его головы. Сосед обреченно склонился, неловким движением подхватил её, натянул по самые уши и, заплетаясь ногами, отправился дальше.
Глеб покачал головой и запер ворота, затем сел в машину, включил зажигание, подправил сиденье и, проверив в кармане ключи от квартиры родителей, выдохнул облегчённо:
– Взял!
На дороге вдоль гаражей машину покачивало. Он выехал на асфальт и притормозил. От заправочной станции, прижавшись к обочине, тянулась длинная вереница машин. Бензоколонки снова были замотаны шлангами.
– Да уж! – нахмурился Глеб. – У нас всё не скучно. Ещё пишут, будто бы нефть добывают миллионами тонн. И куда всё уходит?
Вдруг стало ясно: вот потому-то никогда и никто нас не победит.
Он повернул, глянул ещё раз в окно, но так и не смог разглядеть, где кончается очередь.
Хотя теперь трудно было сказать, в каком именно месте стоял родительский дом, щемящие чувства охватывали Глеба всякий раз, как только он проезжал Заводской переулок.
Да не всё ли равно? – спрашивал себя он. И с ощущением пустоты отвечал себе: Нет!
Глеб сердито дал газу, мотор заревел, и машина помчалась. На перекрестке с Пархоменко его начало заносить. Он, испугавшись, вцепился за руль и стал слегка притормаживать.
«Вот ведь как время летит», – думал Глеб. Второй год мать с отцом жили неподалеку отсюда. Квартиру им дали в «брежневке»: крохотную, однокомнатную, с низкими потолками. Поначалу родители никак не могли к ней привыкнуть. Лифта в доме не было, и каждый день не по разу приходилось подниматься пешком на четвёртый этаж. Глеб завернул с дороги к их дому: двор был покрыт серым шершавым асфальтом, и лишь рядом с подъездами изморозь облепила чахлый газон. Похоже, поэтому родители так тосковали о прошлой жизни и по-прежнему вспоминали свой сад.
Глеб, выгрузив банку с мешком, направился в сторону центра и вскоре неспешно заехал на площадь. До открытия универмага оставалось еще полчаса, но народ уже толпился у входа. Настроение было плохое. Он посмотрел в окно: порывистый ветер трепал и разбрасывал кучи опавших листьев, вертел в воздухе мусор, подгонял обрывки газет. Колючая серая пыль клубилась над площадью.
Глеб отстегнул ремень, включил печку и, прибавив звук радио, повалился на спинку сиденья. В который раз прикинул в уме: стоит ли продолжать копить деньги на магнитолу, или одолжить-таки у родителей. Идея заманчивая, но она его особенно мучила.
Взрослый мужик, разменял четвертый десяток, а до сих пор занимаю у матери. Ведь знаю, что обратно долг не возьмет, – злился Глеб на себя.
И в бессильном отчаянии следом тут же начал себя успокаивать:
Да ладно, хватит уж ныть. Потом разберусь. Деньги – не главное. Надо блат для начала найти.
А иначе-то как? – после коротких раздумий спросил себя Глеб, и тут же себе ответил. – Иначе, деваться некуда: придётся ехать на Шувакиш, и там покупать за двойную цену.
Он вслушивался в шум ветра на площади. Тот подвывал, а в машине в это время было уютно. Теплый воздух от печки согревал понемногу и приглушал мрачные думы.
«Местное время одиннадцать часов ровно…» – объявил четким голосом диктор. Глеб озабоченно посмотрел на часы, выключил радио и выскочил из машины. На короткий миг показалось солнце. Он, прищурившись, закрыл дверцу и быстрым шагом направился в магазин.
Марина нервно раскладывала на прилавке расчески, заколки, ободки для волос и прочую, как её все в отделе называли между собой, «дребедень». Каждый день приходилось выдумывать, чем заполнять пустые места. Наконец она выпрямилась и с важным видом поправила облитый лаком гребешок начесанной челки. Украдкой взглянула в зеркальце и радостно выдохнула: как раз к празднику успела перекрасить волосы в модный цвет. Так-то гораздо лучше. Подновила на веках радугу сверкающих теней, обвела четким контуром изгиб узких губ и, добавив розовый перламутр, почувствовала себя звездой.
Глеба она увидела издалека и прошипела с ехидством:
– Надоели до смерти.
Глеб, подойдя поближе, наигранным голосом произнес:
– Привет!
Марина скривилась, но ответила всё же небрежным кивком. Тем временем её взгляд будто смотрел в пустоту. Она, помолчав для порядка, натянуто улыбнулась, поманила пальцем и зашептала чуть слышно:
– Не до тебя сегодня. С утра по отделам ходит директор, а с ней – проверяющие из управления.
Глеб постоял в нерешительности и, вздыхая, тихо спросил:
– Можно, я подожду?
На его лице виновато блуждала улыбка.
Марина, равнодушно пожав плечами, метнула резкий, надменный взгляд и бросила коротко:
– Как хочешь.
И отвернулась.
Глеб пожалел, что приехал, однако остался стоять у прилавка.
Чуть погодя Марина опять на него взглянула и показала глазами:
– Вон они, идут сюда.
Он собирался что-то сказать, но тем временем у него за спиной раздались голоса. Глеб обернулся и среди всех прочих увидел тоненькую, хрупкую женщину в голубом костюме, ту самую, что встретил в школе минувшей зимой.
Это случилось в один из тех противных вечеров, когда небо нависает над хмурой землей и жизнь кажется беспросветной. У Лариски была ночная смена, и Глебу пришлось идти на родительское собрание. Когда он поднялся на второй этаж, непривычную тишину школьного вестибюля нарушил лишь топот его шагов. Таких же, как он, кто пришел раньше, было трое, и все – незнакомые. Поначалу Глеб не заметил невысокую молодую женщину, ту, что стояла к нему спиной, вдалеке, и читала книгу. Он прошел мимо и почувствовал нежный, слегка уловимый запах духов. Легкий свежий аромат привел его в некоторое смятение. Женщина распахнула воротник у пальто, вскинула голову и отрешённо посмотрела в окно. В тусклых стёклах отражались покатые плечи и чёткий овал лица. На безымянном пальце её правой руки Глеб заметил обручальное кольцо. Его алмазные грани, отражая лучи, вспыхивали, словно звёзды. Почему-то он не решился встать рядом, остановился чуть дальше и постарался сделать безразличный вид, но через некоторое время понял, что неотрывно, даже, пожалуй, слишком пристально смотрит на незнакомку. По бокам её коротких изящных сапожек небрежно свисали кожаные шнурочки с крохотными металлическими шариками на концах. Подбитый бархатистым мехом каштановый мягкий шеврет облегал стройные лодыжки. Плавные линии бежевого пальто не давали возможности сразу увидеть, как она сложена. Глеб прикинул: сколько ей может быть лет. На вид он бы дал не более двадцати.
Тем временем женщина подняла руку, пробежала глазами по циферблату часов, положила книгу на подоконник, и пока она открывала сумку, Глеб успел разглядеть рисунок распахнутого окна на мягкой обложке, и прочитал «Татьяна Толстая «На золотом крыльце сидели…». Потом она убрала книгу в сумку, всё так же неторопливо развернулась; как ребёнок, беспечно скрестила маленькие ножки, обхватила руками лёгкий кокон пальто из пушистой матовой ткани, и сразу стала заметна её хрупкая фигура.
Было в той незнакомке какое-то небрежное совершенство. Слегка сдвинутый на бок берет открывал её спокойное лицо. В свете люминесцентных ламп блестел шелковистый мех норки палевого оттенка, серо-голубые глаза, глядя задумчиво, нежно сияли, и вся она казалась окутанной неким мягким, тёплым свечением.
Глеб, оглядываясь через плечо, размышлял: «Мне кажется, будто я её знаю». Вытянув губы и растерянно сморщив лоб, он на минуту задумался. К этому времени у него в голове всё запуталось и перемешалось.
Нельзя было понять, замечала ли она его присутствие, но в голове у Глеба понеслись сумбурные мысли, пробудились мечты и фантазии, навеянные воображением. Он удивлялся себе: «Да ты поэт! Или пошляк. Слушай, надо выкинуть это из головы».
Зашумели вокруг голоса. Глеб оглянулся: народу прибавилось. Вместе со всеми они вошли в класс. Женщина села в первом ряду. Глеб, закусив губы, искоса продолжал за ней наблюдать. В ушах у неё покачивались маленькие серёжки. Золотистый витой браслет часов блестел на левой руке. Сквозь гладкую кожу просвечивала сеть голубых прожилок. Его изумил вид её тонких запястий. Так и подмывало дотронуться до них.
Так. Спокойно! – сказал себе Глеб, подавляя шальные мысли. – Ну куда тебя опять понесло?
Он опустил глаза: Дурак! Дыши ровнее и глубже.
Сквозь поток похотливых раздумий до него доносился голос классной руководительницы.
Собрание затянулось. Глеб ёрзал, нет-нет да поглядывал краем глаза на незнакомку. Он успел уловить, что в этом классе учится её дочь Аля Алексина. Фамилия была ему незнакома.
Закончилось то родительское собрание, прошла невыносимая зима, пролетели весна и лето, вот и осень почти на исходе, но он сразу узнал эту женщину. Лишь встретившись взглядом, Глеб испытал лёгкий трепет и растерянно улыбнулся. Он не мог удержаться и хотел поздороваться. Однако женщина, похоже, не заметила Глеба. Прозрачные серо-голубые глаза с некоторой отрешенностью скользнули по его лицу, и показалось, что в её непроницаемом взгляде мелькнуло что-то высокомерное.
Глеб напрягся, ему стало как-то неловко. Он выждал немного и спросил у Марины:
– Это кто такая?
Та обернулась неспешно:
– Ты о ком?
Глеб поглядел на неё исподлобья:
– Та женщина, рядом с вашим директором.
На его плоском бесцветном лице розовой тенью мелькнул румянец.
Марина взметнула тонкие брови и буркнула:
– Кто-кто? Кира Борисовна. Я же сказала: у нас проверяющие.
– Кира Борисовна, – повторил медленно Глеб и растерянно посмотрел под ноги.
Едва он услышал имя той женщины, этого было достаточно, чтобы ожили картины прошлого. Так звали лишь одну среди множества его знакомых.
Глеб вздохнул и, почесывая за ухом, глухо пробормотал:
– Кира? Хмм. Ну понятно. Вот она кто теперь: особа с высшей ступени цивилизации советского общества.
Вершинины
В этих местах, между Конжаком и Юрмой, так часто бывает: с началом последнего месяца осени земля сдается на милость зимы. Дни наступают короткие, стылые. Того и гляди ударят морозы, да закружат белые мухи.
Когда в такой студёный день Илья возвратился с работы раньше обычного, ветер трепал тополя перед домом, сдирая с высоких крон последние листья. Он заглушил машину и глянул на окна: в комнате, где стоял ткацкий станок, горел яркий свет. Илья посигналил раз, потом ещё, долго, долго, и ещё длиннее. Натянул на голову кепку, постучал пальцами по рулю и вздохнул глубоко:
– Не слышат.
Прошла минута-другая и он, наконец, решившись, распахнул дверцу машины, после взял с пола тележку, спустил её на асфальт и положил сверху самодельный короткий костыль.
Двухэтажный восьмиквартирный дом от дороги отделяла канава и тротуар. Илья ещё раз взглянул на окно и увидел, как отец машет ему рукой. Тотчас же на душе стало легче.
Он, опёршись на сиденье руками, выбрался из машины, пересел на тележку и не спеша двинулся по обочине вправо. В эту минуту из подъезда вышел отец. Статный, высокий, он легко перепрыгнул сухую канаву и направился бодрым шагом к Илье.
– Ну, вы где там пропали? – улыбаясь глазами, но с нарочитой суровостью бросил Илья.
Он протянул отцу свой костыль.
– Держись!
Отец ухватился за деревянную ручку и потянул Илью за собой. Время от времени, он оглядывался. Тележка тихо поскрипывала, но везти её было гораздо легче, чем носить на руках потяжелевшего сына.
Илья ещё в школе учился, когда по случаю, через дальних знакомых, отец купил в обувной мастерской лоскут мягкой коричневой кожи. А потом среди маминых учеников нашёлся умелец, который выпилил лист фанеры, прикрепил к нему четыре поворотных колеса, обил фанеру войлоком, сшил кожаную подушку и начинил её ватой. Получилась тележка, маневренная, да такая удобная, что сидя на ней, Илья стал перемещаться без помощи, и даже почувствовал некоторую свободу.
Они дошли до подъезда и отец, взявшись за ручку, открыл дверь пошире. Илья переехал порог и, упираясь левой рукой на костыль, а правой держась за поручень, принялся подниматься по лестнице. Всё это время отец шел за ним следом. Когда они поднялись на второй этаж, он помог сыну снова сесть на тележку. Илья чуть отдышался и, поёрзав на месте, устроился поудобней. Отец взглянул на него:
– Ну, ты как?
Илья бодро ответил:
– Нормально!
Он приподнял костыль и чуть подтолкнул им дверь. Незапертая, та легко распахнулась, и сразу же им навстречу выбежали две собаки. Они кинулись с радостным лаем сначала к Илье, следом – к отцу, так и норовя лизнуть их в лицо.
– Ну, ладно, ладно, – засмеялся счастливо Илья, заезжая в квартиру.
Но не знающая предела собачья радость выражалась так громко, что тут уж нужна была строгость.
– Джудай, сидеть! – скомандовал отрывистым тоном Илья, потом добродушно добавил. – И ты, Жуля, сиди.
В гостиной закудахтали куры. Собаки было ринулись к ним, но развернулись перед закрытой дверью и бросились снова к Илье.
Петуха и трёх куриц отец купил ещё по весне.
А что? – с нарочитой серьезностью вопрошала мама. – Надо помочь государству.
Под курятник в квартире отвели самую просторную комнату, отгородили эркер невысокой перегородкой, а поверху натянули рыболовную сеть.
Илью забавлял вид гордого петуха. Тот важно вышагивал в окружении кур и потряхивал ярким гребнем. Однако пернатых обитателей тоже надо было чем-то кормить, и тут матушке посчастливилось договориться с одной из своих учениц забирать из детского сада пищевые отходы. А потому как куры очень любили зелень, тетушка посадила побольше капустной рассады. Для кур собирали яичную скорлупу, варили свеклу, морковь и картофельные очистки. Летом на даче несколько грядок засадили салатом и рвали крапиву, что росла за забором. Отец сколотил деревянный ящик, и набросал туда солому с опилками. Несушки устроили гнезда и яйца несли исправно. Всё лето куры жили на даче, а по осени их снова вернули в квартиру.
Отец повернул на кухню, а Илья со счастливым видом, окруженный собаками, направился в ближнюю комнату. Оттуда тотчас послышался тётушкин голос:
– Ты что-то рано сегодня.
– Заказов нет, вот я и уехал, – ответил Илья.
Он подкатил поближе, подтянулся руками и пересел в кресло-коляску.
Тётушка заглянула ему в глаза и спросила:
– Хочешь чайку?
Илья улыбнулся:
– Может попозже?
В это время собаки, услыхав стук тарелок на кухне, побежали туда.
Илья устроился поудобнее и, подъехав к столу, на котором стоял телефон, набрал мамин номер. Та ответила сразу, но разговор получился короткий.
– Ну что там? – спросила тётушка. – Во сколько вернётся?
– Да она и сама не знает, – ответил Илья.
Мама его не делала различий между семьей и работой, и, будучи директором, приходила в школу рабочей молодежи не потому, что так было надо, а по зову души. Её любили и уважали все. Мама же, несмотря на возраст учеников, опекала их, как детей, и даже после школы они оставались друзьями. Она не боялась споров и не старалась никому угодить, и потому учителя тоже чувствовали в ней опору. А та для каждого находила доброе слово, улыбку, заботилась о здоровье. Маминого оптимизма и бодрости хватало на всех. В общем, с мамой Илье повезло. В тот год, когда ему исполнилось семь, она победила в войне с ГОРОНО, и это благодаря маме, он окончил обычную школу.
Илья, подвинув телефон на середину стола, обернулся к тетушке:
– Торопится на какое-то совещание. Сказала: ужинайте без меня.
Лишь тяжёлое жёлтое солнце пробилось сквозь тучи, лучи побежали по стенам и тотчас сверкнули в хрустальных подвесках люстры, рассыпавшись радугой по ковровой канве. В комнате сразу стало светлей.
Тетушка села к станку и, выдохнув глубоко, потянула пальцами прядь из подвешенного на нити клубка. Она проворно орудовала крючком, вытягивала шерстяную нить, ловко вывязывала узел и уверенно отделяла его от пряжи ножом. Потом поднимала голову, сверяла узор с росписью на бумаге, считывала следующий и тянула новую прядь. Илья подъехал к ней в кресле-коляске. Тетушка посмотрела на него ласково и улыбнулась. Сидела она всегда прямо. Возраст её приближался к семидесяти, но она по-прежнему оставалась красавицей. Тетушкин вид мог сбить с толку кого угодно: выглядела она лет на пятнадцать моложе, как и все в их родне.
Порода у нас такая, – говорила она.
Многие отмечали, что Илья Вершинин тоже был очень красив. Густые, как смоль, черные кудри обрамляли высокий лоб. Чёткий античный профиль сочетался с чувственным очертанием губ и с ясными глубокими глазами, в которых мелькали шаловливые огоньки. Илья никогда не бывал раздражителен. У него был очень приятный голос, светло-карие глаза глядели всегда приветливо, и девчонки не сводили с него взгляда, когда от улыбки на его щеках играли две упругие ямочки.
Разумеется, он понимал, что был не тем, кем мог бы стать, что в жизни его существуют ограничения, но жил с ощущением, что нет ничего невозможного. В общем, нормальный человек. Его одноклассники, друзья и коллеги никогда не говорили с ним о телесном недуге, и ни разу ему не случалось чувствовать себя отверженным, или забытым. Да что тут говорить, квартира, в которой Илья жил с тетушкой и родителями, давно стала для всех чем-то вроде прибежища.
И всё-таки иногда он задумывался о своей судьбе, однако тетушка всегда могла его успокоить. Ему только достаточно было взглянуть на неё и послушать её разговор. С ней он мог говорить откровенно, и тетушка всегда интересовалась его делами.
Илья, подъехав поближе к станку, следил за её руками. Та, искоса, мельком взглянув на него, сказала:
– Прабабушка-то твоя родом из Канашей. А там испокон веку ткали ковры.
В комнату в это время вошел отец, и следом за ним прибежали собаки. Тётушка, помолчав немного, снова заговорила:
– Мамин брат в своё время тоже сделал немудрящий станок, а жена его, как в 17 лет пришла на работу в ковровую артель, так и ушла оттуда на пенсию. Еще до войны её посылали учиться в Армению. Она была такой мастерицей, что ей доверяли ткать ковры на экспорт. Цвета у них были мягкие, теплые, легкие: терракотовый, золотистый, нежно коралловый, серо-голубой.
Она повернулась к брату.
– Лёша, ты не помнишь, в каком году артель стала фабрикой?
Тот лишь пожал плечами.
– То-то и оно, что никто не помнит, – продолжила тётушка. – Жизнь коротка и время стирает воспоминания. Узелок завязывают на память, а в ковре этих узелков знаешь сколько? Миллионы. Вот мы умрем, а память о нас останется.
Отец, тыча пальцем в ковер, рассуждал:
– Ну будет он висеть на стене. Какая от него польза?
– Какой же ты бесчувственный, Лёша, – насмешливо отвечала ему сестра. – Испокон веку человеческий род тянется к красоте, а тебе бы всё только потребности удовлетворять.
Может быть от того, что отец недослышивал, он с иронией покосился на неё и вышел из комнаты.
Купить ковер в магазине было непросто, однако, как только обе дочери вышли замуж, мама решила, во что бы то ни стало, каждой сделать подарок. И кто мог подумать, что ей придет идея ткать дома ковры. Не прошло и недели, как один из маминых учеников вызвался сделать ткацкий станок. Когда станок собрали, тот занял как раз четверть комнаты. Чуть ли не самым сложным оказалось выбрать ковровый узор. Хотя тут каждый видел что-то своё, сошлись, однако, на том, что по чёрному фону выткут алые маки с зелеными листьями. Лишь матушка принесла из школы лист ватмана, отец набросал эскиз, а затем сделал расчёт и разложил рисунок по клеточкам миллиметровой бумаги. Бумажная сетка запестрела россыпью маков. Под акварельными красками проступали квадратики, в которых каждому узелку полагалось занять своё место и составить узор. А потом родители пошли в магазин и накупили шерстяных тканей разных цветов. Ткани распускали долгое время, к тому же ещё приходилось связывать каждую нитку. Мотки разноцветной шерсти висели в квартире повсюду. В старом эмалированном баке пряжу окрашивали в те цвета, которых для узора недоставало. А потом все принялись учиться ткачеству: и матушка, и отец, и даже Илья. Даже сестры, наведываясь домой, делали пару-тройку рядов. Муторная работа, но тут приехала тетя Маруся. К этому времени муж её умер, а детей у них не было, и она поселилась у брата. Если б не тетушка, идею с коврами родители бы забросили.
Илья, прищурившись, огляделся с улыбкой: сумерки за окном быстро сгущались, но подвешенная к потолку хрустальная люстра ярко высвечивала растянутое по станку цветастое полотно. И вдруг дом тряхнуло.
– Ох! – испуганно вздрогнув, вздохнула тетушка.
Со смутной тревогой глаза метнулись поверх очков. Стул качнулся под ней, и тотчас следом задребезжали оконные стекла. Тут же собаки, рыкнув одна за другой, встревожено вскинулись. Стало слышно, как за стеной всполошились куры. Илья снова глянул в окно: черным облаком над тополями промчалась с жалостным криком стая ворон.
Обрезая нещадно улицы и отщипывая дома, будто нехотя, но упорно на город наступали карьеры. И потому облик города бесконечно менялся. Оттуда же, из каменной чаши, каждый день после звуков сирены доносились взрывы, оттого-то к ним привыкали с детства. Но этот… Нет, нет, всё не то. Этот был слишком громким. И не вовремя.
Отец посмотрел на часы.
– Что-то рано сегодня.
Тетушка, вскинув голову, беспокойно зашевелилась на стуле: люстра качалась, и тревожные блики от ламп разбегались по стенам. Они какое-то время метались зигзагами по натянутой паутине ковра, на цветочных кашпо, на переплётах книг, потом задрожали, ещё трепетали минуту-другую и стихли. Луч света снова спокойно скользил по книжным обложкам, высвечивая морскую звезду, лист бумаги с красным пятном, ножницы, зажигалку и контуры черных деревьев на бежевом фоне.
– Ах, да! Посмотри там, – тетушка повернулась к племяннику и махнула рукой в сторону пианино, – мама вчера принесла кое-что почитать.
Она снова уткнулась в ковёр. Илья в этот миг оглянулся: на верхней крышке, поверх старых нот, вперемешку с невзрачными книгами стопкой лежали несколько толстых журналов, а справа отдельно – «Разбиватель сердец» и двухтомник «Доктор Живаго». Эти три книги ему привезли издалёка, из Вильнюса, и он собирался их подарить в день рождения Кире Алексиной.
– Но ты, Илюшенька, подряд-то всё не читай, – не поднимая глаз от ковра, продолжила тётушка. – Поэтам и писателям дали волю, вот они и думают, что всё можно. Совсем распоясались, что видят, о том и пишут.
– Ну, ну…, – с ироничной улыбкой Илья придвинулся ближе. – И писателей у нас развелось так много; всякий лезет на Парнас, без наук и слога.
– Вот именно! – откликнулась тётушка. – Только они-то думают, что пишут шедевры, плещут свежие струи, льют источники чистоты. А сами создают потоки дерьма, прости господи, и даже не замечают, как сами в них текут. И книги их не имеют ничего общего с жизнью. Слишком много самодовольства. Вот потому-то нет у меня понимания с ними, а стало быть, нет у нас общего кода.
– Понятно. Чтоб тебе никаких там верлибров, – Илья скептически улыбнулся. – Чтоб все точечки и запятые были на своем месте.
Тетушка покосилась с иронией.
Он взглянул вопросительно:
– Разве правила созданы не людьми?
Тетушка с молчаливой улыбкой вязала узлы.
– Однако время идет, всё меняется, – продолжил Илья, – и новые люди создают новые правила. А может быть новым писателям да поэтам надоело писать так, как раньше, вот и ищут они новые литературные формы.
– Вот значит как? – хитро взглянув на Илью, тетушка заморгала. – Красиво звучит! Только что же это такое – новая литературная форма? Это что?
Она повернулась к нему и, глядя поверх очков, спросила с насмешкой:
– Это способ такой, облекая мысли в знаки, жизнь копировать через кальку и запечатывать в книгу?
Илья, улыбаясь, молчал, и тетушка поспешила добавить:
– Бить читателя в лоб напрямую – ну это совсем уже пошлость. Тебе так не кажется? И потом, разве это искусство?
– А может они тем самым двигают жизнь вперёд, – ответил он словами статьи, прочитанной им недавно в «Литературной газете».
– Послушай, – она опять усмехнулась, – я девочкой ещё была, а значит себя нынешней была на полвека глупее, однако запомнила на всю жизнь. Дед твой тогда служил в Свердловске. А в гости к родителям заходила Лиля Юрьевна с мужем…
Илья прервал её:
– Ты о ком говоришь?
– О Лиле Юрьевне, – тётушка мельком взглянула поверх очков, – о Лиле Юрьевне Брик.
– Не понял… – Илья придвинулся ближе. – Это кто? Та самая? Муза Маяковского?
– Ну да, муза и жена Маяковского. Только к тому времени Маяковский застрелился, и Брик уже была замужем за военным. Почти два года её новый муж служил с дедом твоим, в Уральском военном округе. Фамилия у него ещё была такая же, как у нынешнего депутата – Примаков. А звали… – она задумалась.
– Виталий Макарович. Точно, Виталий Макарович Примаков, – решительно подтвердила тётушка. – Благодаря Лиле Юрьевне родители мои, ну и я вместе с ними, сходили на выставку Маяковского. Зимой это было, кажется. Как сейчас помню, народу тогда была тьма.
– И что, – Илья встрепенулся, – она вот так жила в Свердловске? Ты почему раньше мне об этом никогда не рассказывала?
– Ох, Илюша, много чего я повидала в жизни, обо всём сразу не вспомнишь. Вот сейчас как-то к слову пришлось. Неужели тебе интересно? О ней вроде бы как давно все забыли. Лиля Юрьевна иногда уезжала в Москву на несколько месяцев, потом опять возвращалась. Я несколько раз встречала её на почте. Ещё вот что запомнила: твой дед вместе с её мужем был прикреплен к одному распределителю. Распределитель, это, так сказать, магазин, где покупали продукты. Лиля Юрьевна и Примаков жили в Свердловске как раз в то время, когда строили Уралмашзавод, а потом вроде бы уехали в Германию. Уже после того, как появились слухи, что якобы Примакова арестовали, не помню, чтобы наши родители вспоминали об этом соседстве.
Илья чуть поёрзал:
– Ну, расскажи, как выглядела эта Лиля Брик?
Он снова заёрзал, увидев иронию в тётушкиных глазах. Она рассмеялась:
– Послушай, ребёнку все взрослые кажутся стариками. И опять же, если мне тогда было семь или восемь, сколько же лет было Лиле Юрьевне?
Размышляя, тетушка вскинула голову:
– Думаю, около сорока. Может, чуть больше. А как выглядела? Я запомнила, что у неё были стройные ноги и всегда очень изящные туфельки или сапожки. И всякий раз, когда она проходила рядом, от неё пахло какими-то удивительными духами. Вот не помню, какая была прическа, только когда солнце светило, её коричнево-золотистые волосы начинали сиять.
Она повела плечами и пожурила шутливо:
– Да ты совсем сбил меня с мысли, дружок. Ведь я почему вспомнила Лилю Юрьевну? Однажды она рассказывала, как Маяковский писал стихи. Он только потому заменял в них некоторые слова, что слишком уж приземленными они оказывались. Исчезала словесная магия.
Илья возразил:
– Я понимаю, это поэт – существо крылатое, и творит он лишь тогда, когда делается безрассудным, но позволь уж хотя бы писателям быть ближе к реальности.
Тетушка насмешливо отозвалась:
– А как же без этого. Подружка моя, Ира Бессонова, царство ей небесное, – она вздохнула и перекрестилась, – как школу закончила, решила ехать в Москву, поступать в Литературный институт.
– Тетя Ира? – удивился Илья. – Вот уж о ком не подумал бы.
– Она не всегда была той, какой ты её знал.
Тётушка, тихо вздыхая, замолкла и, встряхнув головой, продолжила:
– Так уж сложилось: только Ирка отложила мечту на потом, тут-то судьба и затянула в свой водоворот. Как оно часто бывает: сделал шаг, и вот уже хода обратно нет. Такое обрушится, даже кажется, что не с тобой это происходит. А пока в школе учились, Иришка всегда что-то писала. Как это у неё получалось – ставить слова на свои места, не знаю. Мы заслушивались, когда наша учительница по литературе зачитывала перед классом её сочинения. Ирка среди нас была самой умной, знала всех классиков и мечтала лишь об одном: стать писателем. Она и экзамены все сдала на «отлично», однако без рабочего стажа её в институт не приняли. Так и сказали: сначала жизнь надо понюхать.
Она усмехнулась и тут же воскликнула:
– Ах, Илюшенька, вот только искусство – это не сама жизнь.
Илья несколько растерялся:
– А что же тогда?
– Возвышение над жизнью, вот что такое искусство. Я согласна с тем, что красота заключается в материальных вещах. Так дайте же, наконец, увидеть ту самую красоту, отсеките всё лишнее, чтобы она заиграла, и свечением своим очистила мою душу.
Илья посмотрел на тетушку и ухмыльнулся:
– Но как же понять, что отсекли всё то самое лишнее?
– Ну-у, – протянула тетушка, – об этом еще Аристотель писал: красота заключается в величине и порядке. И уж если это искусство, ты его сразу узнаешь. Оно, как цветок, источает нежный и тонкий аромат недосказанности. От этого запаха веет свежестью, и ты будто погружаешься в глубокий целительный сон. Искусство вызывает радость. Когда тебя топят, или, когда жизнь давит так, что нечем дышать, тут-то искусство становится тем спасательным кругом, который держит тебя на плаву и не дает утонуть.
Она хотела что-то ещё добавить, но тут, прищурив глаза, Илья насмешливо проговорил:
– От кого-то я уже это слышал. Кира Алексина тоже любит окружать жизнь ореолом романтики.
Кивая головой в сторону книжной полки, тетушка с улыбкой сказала:
– Я вижу, ты тоже почитываешь те книжки, что приготовил Кире в подарок.
Илья улыбнулся смущенно в ответ:
– Не мог удержаться. Я аккуратно.
– Ладно, ладно. Самое время читать. Я тоже прочла. На одном дыхании. И я аккуратно, – засмеялась она, заговорщически взглянув на Илью.
– Хорошее начало в твои-то годы, – воскликнул он с пониманием. – Да ты, оказывается, та ещё озорница.
– И в кого ты такой бестактный, милый мой друг, – шутливо пожурила тётя Маруся. – Начало, в самом деле, хорошее. Ах, Илюша, как они точно и кратко пишут, и как пленят их простые слова.
Она подняла голову, глаза её заблестели.
– И почему раньше мы не могли их прочесть? Я только буду жалеть, если жить немного осталось. Столько всего надо узнать из того, чего нас лишили, и сколько нового ждет впереди.
Тетушка снова бросила взгляд на рисунок. Ловко управляя крючком, протянула в трепещущую основу новую прядь, и тут же, не поднимая глаз, спросила:
– Где вы празднуете день рождения Киры?
– У Алексиных дома, конечно, – ответил Илья. – Я встретил вчера Кирилла. Ты знаешь, что он собирается подарить жене?
– Учитывая, что Кире исполнится тридцать лет, должно быть что-то особенное, – мечтательно отозвалась тетушка.
– Картину, – с восторгом сказал Илья.
– Какую картину? Он что, ещё и рисует? – изумленно спросила тетушка.
Илья расхохотался.
– То, что его папа рисует, это я знаю точно. А вот Кирилл, кажется, в этом не был замечен. Хотя, стоит ему только заняться…
– Тут ты прав, – поддержала тетушка, – он такой, ваш Кирилл: за что бы ни взялся, всё у него получается. Уж кому-кому, но ему-то стоит только захотеть.
Она провела рукой по лбу и спросила:
– Скажи, картина откуда?
– Помнишь, ты недавно ходила на выставку? Так вот: вчера Кирилл был у того художника.
Тетя Маруся вопросительно улыбнулась:
– У Виктора, что ли? Интересно, что же выбрал Кирилл.
Тетушка закончила ряд и прибила его тяжелым зубатым бруском. Потом маленькой ловкой ладонью взяла ножницы с табуретки и состригла выступающий ворс.
Илья оглянулся: в комнату вернулся отец. Он постоял, разглядывая рисунок ковра, потом громко спросил сестру:
– Может, отдохнешь немного?
Она бросила взгляд в окно, затем ласково посмотрела на брата:
– Лёша, принеси лампу из спальни. Как-то враз потемнело. Видимо, зима совсем близко – вот уж и рассвет с сумерками среди дня встречается.
Тревожная новость
– Ну, девчонки, до Казанской ещё три дня, а холод пробирает аж до самых костей.
Выйдя на улицу, все расслабились, с облегчением вдохнули свежего воздуха и тут же разом заговорили.
– А помните, как однажды на седьмое ноября мороз ударил под тридцать? Саша рассказывал, как тогда накануне праздника в горкоме решали: проводить демонстрацию, или же отменить. Ну кто ж бы взял на себя такую ответственность!
– А народу в тот год пришло даже больше, чем обычно.
– Точно! Помню, как некоторые понемножечку подогревались. Мы тоже брали с собой водки чекушку. Ох! Было так весело! Мороз, он бодрит.
– И вправду бабка моя говорила: «До Казанской – не зима, а с Казанской – не осень».
Кира прикрыла глаза и почти не слушала, о чем говорили коллеги.
А между тем к служебному входу универмага подъехал старый управленческий уазик. Водитель, молодой рыжеволосый мужчина с вечно всклокоченными волосами, обнажая кривые пожелтевшие зубы, добродушно и радостно улыбался. Высокий, нескладный, он таки легко выскочил из машины, хотел открыть пассажирскую дверь, но её, как это часто бывало, заело. Без всякого огорчения, водитель начал дёргать ручку так энергично, что она, наконец, поддалась, и дверь распахнулась. Обдало теплом и запахом табачного дыма.
– Николай, ты опять накурил! – насмешливо пожурила Людмила Васильевна. – Смотри у меня.
– Да это я так, чтоб не замёрзнуть. Погодка-то хищная, – также весело ответил водитель, думая про себя: «Людмила Васильевна хоть и начальник, но человек хороший».
Все подошли к машине, расселись и продолжили разговор.
– В Иванов день всегда провожали осень и встречали зиму. С этого времени жди настоящих холодов.
– У нас в деревне в эту пору резали кур. Мама варила в печи суп с домашней лапшой. А как только я подросла, сначала она мне поручала просеивать муку, потом уже доверяла замешивать тесто.
– Девчонки, а меня ещё Сашина мама, когда была жива, научила печь курник. Сочный такой, хрустящий, пальчики оближешь.
– Курник, это что? Пирог? – вмешался в разговор Николай.
– Э-э-э, да ты не знаешь, что такое курник? – удивилась Людмила Васильевна. – Ну, конечно же, куриный пирог. Мы всегда его стряпаем с Сашей вдвоём. Пока я завожу тесто, Саша в это время готовит начинку. А вообще-то, курник испечь – раз плюнуть. Слушай, сейчас расскажу.
Людмила Васильевна повернулась лицом к водителю и, запахнув короткую полосатую шубу, прижала к коленям сумку.
– Значит так, как это делаю я.
Глаза её засияли. Она, поправив рукой очки, принялась объяснять:
– В глубокую чашку наливаю тёплое молоко, развожу сахар и соль, а потом добавляю яйцо, сметану и масло. Только смотри, сначала надо его растопить. Дальше всё хорошенько размешиваю, а потом уже добавляю муку.
– Сколько? – коротко спросил Николай.
– Сколько? – чуть растерянно повторила Людмила Васильевна.
Она на секунду задумалась, потом, глядя на Николая, с улыбкой ответила:
– Муку я всегда сыплю на глазок, не привыкла считать стаканами.
Тот что-то хмыкнул и кивнул головой. Людмила Васильевна поспешила продолжить:
– Ну а дальше начинаю вымешивать тесто. Только делать это надо так, чтобы не осталось комочков. А как только тесто готово, накрываю его полотенцем и ставлю в холодильник. Сашина мама всегда выносила готовое тесто в холодные сени, приговаривая при этом: «Пусть отдохнёт».
Тут она замолчала, со вздохом взглянула в окно, затем снова посмотрела на Николая:
– Где-нибудь через полчасика тесто станет пластичным, и тогда-то можно его вынимать. Дальше я так делаю: делю тесто на два части, так сказать, на два колобка, чтобы один, тот, что для нижнего слоя, был поменьше, а второй, тот, что для верхнего, пусть будет побольше. И начинаю раскатывать маленький колобок. Они оба должны получиться не тонкими и не толстыми.
– Какими? По сантиметру? – уточнил Николай.
– Может быть чуть потолще. Ну, сколько? – Людмила Васильевна снова задумалась и показала на пальцах. – Сантиметра полтора, не больше. Потом смазываю противень растительным маслом. Выкладываю тесто так, чтобы оно покрывало на всю высоту бортики противня, и посыпаю пшеничной крупой. Крупа будет впитывать лишний жир и не даст пирогу пригореть, потому что курник печётся долго. Кто-то варит курицу, я – нет. Делаю так, как учила Сашина мама. Со свежим-то мясом он будет вкуснее. Ну пока я вымешиваю тесто, Саша тем временем режет ломтиками картошку, куриное филе, сердце, желудки, печень. Всё в дело идёт. Крошит лук, подсаливает, перемешивает в большой миске, накрывает крышкой и ставит в тёплое место.
– Надолго? – спросил Николай.
– Да ты не иначе как печь собрался, – засмеялась Людмила Васильевна. – Слушай, я всё готовлю на глазок. Ну не знаю. Может около часа томится. Потом уже выкладываю начинку, раскатываю второй колобок и накрываю пирог. Края заворачиваю косичкой, а посередине пальцем протыкаю дырочку. Взбиваю яйцо, смазываю пирог, ставлю его в духовку и запекаю до румяной корочки. А как только достаю пирог из духовки, сразу умываю водой и накрываю чистым сухим полотенцем. Так сказать, даю отдохнуть. Скоро Октябрьские праздники, вот тогда испеку и всех угощу.
– Ух! – откликнулся Николай. – У меня даже слюнки потекли!
Все задвигались, принялись горячо обсуждать способы приготовления разных блюд, стали давать советы друг другу. Каждый старался сказать что-то своё. В весёлом многоголосии неожиданно прозвучало:
– Людмила Васильевна, вам позавидовать можно, вы всегда и везде с Сашей вдвоем. Редко увидишь такую любовь.
– Да какая любовь, – смутилась Людмила Васильевна, – слежались за тридцать лет.
Она махнула рукой, посмотрела в окно и добавила:
– На самом деле, всё гораздо сложнее, и в двух словах тут не объяснишь.
– Людмила Васильевна, вы хоть когда-нибудь с мужем ругаетесь? – спросил Николай.
Та рассмеялась:
– Чем плохо долго жить вместе: даже не поругаешься. Заранее знаешь, что он скажет.
За окном проносились разноцветные пятиэтажки, вдоль обочины переплетались оголённые тополя. Когда подъехали к светофору, зелёный огонь погас и загорелся желтый. Перекрёсток был пуст и в последний момент водитель успел повернуть на Ленинградскую улицу.
– Николай, поезжай чуть помедленнее. Хотим с Сашей сходить в кино. Посмотрю, какой фильм идет на этой неделе, – раздался голос Людмилы Васильевны.
Николай сбавил газ, и машина неспешно проехала мимо здания кинотеатра. Показалась афиша «Зимняя вишня—2». Разговор опять оживился. В тесном уазике коллеги принялись обсуждать французские духи, тушь и тени Ланком, японские джемпера с отделкой из натурального меха.
– Какой интересный крой у блузки из голландского костюма.
– Это же настоящая русская косоворотка.
– И цвет – точно наш уральский малахит.
– А юбка какая, заметили? Чёрная, плиссированная, с тиснением под крокодилью кожу.
Мысли у Киры где-то блуждали. Воздуха не хватало, и непонятная тоска наполняла душу.
Словно издалека послышался голос Людмилы Васильевны:
– Кира Борисовна, вы что-то выбрали для себя?
Кира взглянула и вяло ответила:
– Мне ничего не надо.
Она выпрямилась на сиденье и попробовала улыбнуться.
– Ничего не понравилось? – с искренним удивлением спросила Людмила Васильевна.
Она оглянулась и поняла, что Кира никого не слушала.
Повисла долгая пауза.
– Не знаю, – выдохнула, наконец, Кира, просто чтобы что-то ответить, и натянуто улыбнулась.
Она ухватилась за ручку так сильно, что пальцы её побелели. Какое-то странное беспокойство мучило Киру. Что именно волновало её, она не могла бы сказать, потому как сама не знала.
Кира взглянула в окно: впереди показалась арка старого стадиона. До пятого класса Кира на зимних каникулах ходила туда на каток. Однако потом, когда к стадиону подполз карьер, его закрыли, и только над входом по-прежнему красовалась надпись «СТРОИТЕЛЬ», такая же обветшалая, как постаменты с колоннами, как барельефы, как флаги «сталинского ампира» в овалах на стенах пролетов. И хотя стены были местами разрушены, арка стояла, невзирая на то, что по несколько раз на неделе неподалеку в карьере гремели взрывы.
Водитель выехал на Промышленную и, повернув машину налево, лихо помчался, пока за тополями не показалась плоская крыша. Он подкатил к перекрестку с Садовой и, притормозив, вырулил к ржавым железным воротам. За ними высилось старое здание из железобетона и кирпича, покрытого серовато-белёсой потрескавшейся штукатуркой. Глухие плоскости стен, выступы эркеров, галерей и глухого цилиндра продолжали игру силуэта и линий строгого здания. Мало кто помнил, что в городе это был первый дворец культуры. В начале тридцатых годов его строили для отважных, счастливых людей нового времени. Люди мечтали о будущем, но когда началась война, дворец культуры превратили в госпиталь. Однако вскоре пришлось переправить всех раненых по другим местам, чтобы в самом большом здании города поместить эвакуированный оборонный завод. После войны, когда сюда подступил карьер, лишь чудом здание уцелело. Николай его обогнул и высадил всех прямо у входа в контору.
По крутой деревянной лестницы все дружно поднялись на второй этаж и прошли по узкому светлому коридору. Справа тянулась лента из окон. Длинная галерея была поделена пополам и разбита на кабинеты. Вместе со всеми Кира зашла в торговый отдел, который занимал просторную комнату с покрытыми ячейками стёкол широкими окнами, доходившими чуть ли не до потолка. Здесь то и дело дребезжали звонки телефонов, хлопала дверь, раздавались резкие возбужденные голоса.
Кира сняла и повесила в шкаф пальто, потом посмотрела в зеркало: волосы выбились из-под шпилек. Она пригладила их рукой, затем скинула сапоги и надела туфли. Пройдя кабинет, села за стол и начала делать отчёт по остаткам товаров. Однако тревожное чувство не отпускало и мешало сосредоточиться.
За окнами начинало смеркаться, но кабинет заливал свет потолочных ламп, и оттого здесь было уютно.
Вдруг распахнулась дверь и с пачкой счетов в руке вбежала Ирина Владимировна.
– Девчонки, – закричала она с порога и тотчас включила радио, – вы слышали? Химзавод взорвался!
Сначала все стихли, потом раздался глухой, будто придавленный, голос Киры:
– Кирилл был там.
Она закрыла лицо ладонями. Все разом к ней повернулись.
Ирина Владимировна опустилась грузно на стул:
– Кира Борисовна, вы что такое говорите?
Людмила Васильевна взглянула поверх очков:
– При чём здесь Кирилл? Как он может быть там?
Она отложила в сторону газету «Коммерсант».
Её мягкий переливистый голос нежно вибрировал, но Кира опять повторила:
– Кирилл был там.
Тут все услышали сухой голос диктора:
– Сегодня в промышленной зоне горно-обогатительного комбината, в пятнадцати километрах от жилого массива города, в 15 часов 07 минут произошел взрыв в экспериментальном цехе химзавода. Причины устанавливаются. По предварительным данным, есть пострадавшие. Работы по разбору завалов и спасению людей ведутся горноспасательной службой комбината.
Кира сняла трубку и начала набирать рабочий номер Кирилла. Однако палец всё время не попадал в кольца телефонного диска. Она судорожно сжала ладонь в кулак, и в ту же секунду раздался звонок. Кира схватила трубку: звонили из «Росторгодежды». Она отрывисто, быстро переговорила и снова принялась звонить Кириллу. Отчётливые длинные гудки усиливали тревогу. Их слышали все. Некоторое время Кира молча смотрела перед собой. Взгляд упирался в стекло, и лицо её казалось каменным. Рамы в окне дрожали от ветра. В послеполуденном небе мутной пеной висели тучи. Ничего больше не было видно. В приглушенном свете осеннего дня стало совсем темно. Вдруг Кира вздрогнула от прерывистых коротких гудков, затихла, испуганно сжалась и закрыла глаза.
В тишине скрипнула дверь. На вошедших кто-то зашикал. Людмила Васильевна махнула рукой:
– Потом! Позже зайдите.
Ей кивнули и вышли.
И снова в другом конце кабинета привычно затрезвонили телефоны.
Кира, вдохнув глубоко, глянула на часы, положила ладонь на рычаг и тотчас снова принялась крутить телефонный диск. Обычно Кирилл в это время был у себя в кабинете. Кира снова вздохнула. Всё те же монотонные протяжные гудки. Они пугали её, но давали надежду.
Она положила трубку и взяла телефонный справочник. Тут ей подумалось, что Кирилл, пожалуй, сейчас где-то едет. Однако снова забилось сердце. Кира почувствовала, как дрожат её руки.
Она убрала в верхний ящик стола калькулятор, закрыла спецификации и сунула в тумбочку. Подумала, что до конца недели надо успеть составить заказ товара на следующий год.
Она дёрнулась, когда зазвонил телефон, и схватила трубку. Лишь Кира услышала голос свекрови, по душе побежали мурашки. Мама Кирилла почти никогда ей не звонила, потому как виделись они чуть ли не каждый день.
Свекровь говорила что-то, но смысл её слов доходил не сразу. Родители Кирилла работали в комбинате, и новость о взрыве до них долетела мгновенно. Они никак не могли дозвониться до сына. Свекровь связалась с начальником цеха, но никто толком не мог объяснить, где был в это время Кирилл.
Кира, взглянув на часы, попросила заехать за ней. Ещё минуту-другую они говорили, потом она положила трубку.
Кира, тихо вздохнув, опустила голову. На столе под стеклом лежала реклама марки Lancôme. Зелено-голубые глаза Изабеллы Росселини нежно смотрели, и чему-то она легко улыбалась. Её безмятежный взгляд будто ласкал и успокаивал Киру.
Первый, кому Кира решилась-таки позвонить, был Никита Ерохин. Она не сомневалась, что ему что-то известно. Ерохин работал в ОБХСС, а это значит в милиции. Уж им ли не знать обо всём, что случается в городе.
– Рад тебя слышать, – тут же раздался знакомый голос.
Кира насторожилась: Никита словно бы ждал звонка. Но голос его показался испуганным, и от этого беспокойство её нарастало.
Ерохин говорил осторожно, что пока точно ничего не известно и, вообще, почему она вдруг решила, что Кирилл отправился на завод.
Утром этого дня Кирилл, как всегда, ушел на работу ещё до того, как Кира проснулась. По вечерам, заканчивая работу, он всегда заезжал за Кирой. После папиной смерти они ездили на его машине. Она подошла к окну и, ожидая увидеть бежевые «Жигули», посмотрела во двор. Перед конторой одиноко стоял «Москвич» цвета коррида. Когда полшестого Кира спускалась по лестнице, она чуть не сбила с ног шедшую впереди незнакомую женщину.
– Извините, – проговорила Кира, едва сдерживая слёзы.
Женщина, молча взглянув, пропустила её.
Ерохин
Утром в четверг, когда Ерохин ехал на службу, обочины и бордюры покрывала сизая изморозь. Его голова была забита вчерашней проверкой мясозавода. А ещё в последнее время Ерохина мучил насморк. Ночью снова плохо спалось, потому как дышать было трудно. Нос заложило напрочь, от этого голос у него стал гнусавым. Врач выписал капли, каждый день Ерохин ездил в больницу на УВЧ и на кварц, он по совету врача даже купил дефицитную мазь, но и это не помогало. Ему предложили сделать прокол, однако за неделю до дня рождения Киры Ерохин не стал рисковать.
В машине шумело от ветра. И всё бы ничего, но от этого гула и насморка голова его стала совсем тяжелой.
В половине девятого Ерохин зашел в отдел, перекинулся парой слов с дежурным и поднялся в свой кабинет. Новостей особых не было, и ничто не предвещало в тот день перемен.
В четвёртом часу здание вдруг тряхануло, и тотчас следом дрогнули стёкла. Ерохин поднялся со стула и подошел к окну: мрачное небо висело над городом. И тут же зазвонил сначала один телефон, а следом за ним другой.
Весть о взрыве на химзаводе вмиг облетела маленький город. Вот только подробности были никому не известны. Даже в отделе милиции, где работал Ерохин, ничего толком не знали.
Когда позвонила Кира, поначалу Никита не понял, почему она вдруг решила, что там был Кирилл. Месяца три назад Ерохин сидел у него в кабинете. Чуть позже дошло: Алексин работал начальником участка спецмашин. Именно эти машины обслуживали тот самый цех, где делали порэмит. Он позвонил Алексину на работу, но его телефон не ответил. Ерохин нашел номер начальника цеха, однако и тот молчал. Ему удалось дозвониться до бухгалтерии, и там подтвердили, что около трёх Алексин уехал. Но это всё, что было известно. Сердце так сильно забухало, что казалось, удары слышали все.
Первым делом Никита пошел в уголовный отдел, но кабинет был закрыт. Он спустился к дежурному, тот махнул тяжело рукой и лишь подтвердил, что взорвался цех химзавода. Как? Неизвестно! Его же только-только построили, и совсем недавно, может месяц назад, в комбинате с восторгом расписывали экспериментальное оборудование, наперебой расхваливали безопасные технологии.
Ерохин напрягся. Он вернулся к себе в кабинет, но мысли вертелись вокруг одного: где Кирилл. Время шло, и хотя к вечеру он поднял на ноги всех, выяснить удалось только то, что около трех Кирилл уехал туда.
Лишь в больницу привезли пострадавших, Ерохин прорвался в кабинет знакомого главврача. Тот провел его в реанимацию. Однако Кирилла там не было. И тогда Ерохин настоял провести его в морг. Однако и там Алексина не было. Ерохину сказали, что ищут пропавших. Вот только никто не знал: кто они, эти люди, и сколько их. Ерохин вздохнул: во всяком случае, это не конец. В неизвестности, всё-таки, есть надежда.
Он хлопнул дверью, закрыл кабинет на ключ, быстро спустился по лестнице и, выскочив на крыльцо, заметил дежурный УАЗ. В эту секунду машина с рёвом метнулась к дороге, повернула налево и быстро помчалась. Ерохин пробежал по двору, сев за руль, закурил и завёл мотор. Потом достал из кармана платок и начал звучно сморкаться. К вечеру насморк усилился. Он вытер нос и, сунув грязный платок в бардачок, вынул оттуда чистый и запихнул в карман. Ерохин дал газу, резко вырулил со стоянки и погнал на завод.
Так. Кажется, здесь поворот, – неожиданно для себя подумал Ерохин и круто свернул направо.
День медленно умирал. Даже в машине был слышен шум ветра. В сумерках дорога выглядела незнакомой. Серый асфальт крутился и перемешивался с бликами фар. Их яркий свет выхватывал из темноты кучи щебня на голых обочинах. Вращались черные силуэты деревьев, проплывали обочины, за ними угадывались неровные очертания одиноко лежащих огромных камней. Вдали набухали мрачные тени карьерных отвалов. Все это было привычно. Не нравился окутанный пушистым матовым облаком сияющий шар. Он появился в вечернем небе, как только Ерохин свернул на дорогу, ведущую к заброшенной фабрике. Комок желтого света в зыбкой молочной вуали явно его преследовал. Почему-то от одного только вида этого шара Ерохину стало не по себе. Он надавил на педаль, дал газу и нервно потер висок. Машина гулко шумела. Ерохин потряс головой, через пару минут снова вскинул глаза и тотчас же зябко передернул плечами. Шар парил над землей и беззвучно пульсировал. Очертания его извивались. Размером в половину Луны, он как будто пристроился в воздухе и летел в том направлении, куда ехал Ерохин.
Дежурный сержант
Ближе к вечеру тревожно задребезжал дверной звонок. Глеб никого не ждал, и резкий нарастающий звук вызывал беспокойство. Он глянул на часы: без пятнадцати пять. Лариска после работы ушла в парикмахерскую, делать «химию». Это надолго. Вернуться должна не раньше шести. У сына в школе – вторая смена.
Глеб постоял немного, напряженно прислушиваясь. Тут же снова раздался звонок. В этот раз он был требовательным, протяжным. Глеб заглянул в глазок – перед дверью стоял Петрухин. От того, что сержант был одет по форме, стало понятно: случилось плохое. Ну и денек! «Как всегда без предупреждения прислали машину», – обреченно подумал Глеб, открывая дверь.
– Спишь, что ли? – буркнул сердито Петрухин, задыхаясь и кашляя.
Он наклонился и обхватил руками колени.
Глеб хотел было улыбнуться и что-то ответить, но сержант распрямился, переступил через порог и заворчал:
– В этом городе есть хоть один дом, где работает лифт?
Выглядел он уставшим, осунувшимся. Петрухин, прислонившись плечом к стене, чуть отдышался и встревожено проговорил:
– Давай одевайся! Собирают весь личный состав.
– Случилось-то что? – спросил раздраженно Глеб.
Глаза у Петрухина округлились:
– Ну ты будто с печи свалился! Не слышал по радио? «Порэмит» взорвался.
Глеб напрягся, лицо его вытянулось:
– Тот, что рядом с «Восточной»?
– Он самый, – мрачно ответил Петрухин.
Он молча закрыл глаза и провел по лицу ладонью.
– Говорят, там такое… – Петрухин, дернув плечами, вздохнул. – Уже половина наших уехали. Ну и понятное дело, горноспасатели в полном составе.
Глеб встрепенулся:
– Слушай, и года ещё не прошло, как цех тот построили.
– Точно, – Петрухин нервно кивнул. – Его тогда мигом слепили.
Он помолчал, а потом процедил сквозь зубы:
– Вот у нас так всегда: давай-давай быстрей, а потом подумаем.
По старой армейской привычке Глеб быстро оделся. Немного замешкался, пока писал записку жене. Со вздохом сказал:
– Опять остался без ужина.
Глеб, проклиная дежурного, метнулся на кухню, открыл холодильник, достал банку кабачковой икры, отрезал хлеба, намазал кусок и принялся быстро жевать. Он доедал бутерброд и допивал остатки холодного чая, когда из прихожей донёсся сиплый голос Петрухина:
– Дай попить. В горле совсем пересохло.
Глеб стряхнул рукой крошки, прилипшие к его губам, и оглянулся: две трёхлитровые банки привычно стояли на подоконнике, только были пусты. «Опять никто не набрал! Ну знают же, что воду отключат. И так каждый день!» С раздражением он заметался по кухне, выглянул виновато в прихожую:
– Слышь! Ты извини! Ни капли воды. Мои, как всегда, забыли набрать.
Глеб взглянул на часы:
– Дадут через 10 минут. Давай подождём.
Сержант покосился на Глеба, кивнул с пониманием и прохрипел, ухмыльнувшись:
– Ты же знаешь: не факт, что включат по расписанию.
– Это правда, – тотчас поддакнул Глеб.
Помолчав немного, Петрухин добавил:
– Вот как только снесли перешеек между карьерами, так и начались проблемы. Раньше-то по нему шёл водовод с Талицких скважин. А теперь что? Там, где было озеро Талицкое, сейчас – Центральный карьер.
Он разгорячился:
– Опять же, где Щучье озеро?
Петрухин замолк. Он, поглядывая на Глеба, вздохнул от волнения и, не дождавшись ответа, продолжил:
– Съел карьер. Бабка моя всю жизнь вспоминала, как ходили с Ильинского на Октябрьский участок: озеро то переходили по дощатому тротуару. И ты посмотри, всю Пышму фекалкой загадили. То тут, то там лес вырубают, и всё продолжают талдычить: «вековая тайга, непроходимые болота». А там, где были тайга и болота, сейчас – карьеры. Откуда же взяться воде?
Сержант замолчал и, оглядываясь по сторонам, глухо спросил:
– Тебе телефон-то обещают поставить?
– Да я еще в прошлую зиму написал заявление. Говорят, пока нет технической возможности, – виновато ответил Глеб.
– Телефонов ни у кого нет, мечешься по городу за каждым. Лифты не работают, воду отключают каждый день. Ну что за дела! – сержант сердито повёл бровями. – Им только дай палец, они завтра руку откусят. Вот помяни моё слово: не за горами тот день, когда примут решение снять с нас последние штаны.
Он снова закашлял и, чуть помолчав, добавил:
– Давай быстрей! Еще за двоими надо заехать.
– Иду, ‒ с набитым ртом ответил Глеб.
Алексины
Кира боялась лишь одного – порвать ту тонкую нить надежды, которая держала её над пропастью неизвестности. Она спустилась по лестнице, вышла во двор управления, села в машину и, скользнув испуганным взглядом, увидела серьёзные лица. Родители Кирилла старались казаться спокойными, но глаза их потухли, и казалось, впервые в жизни они не улыбались.
Необычно притихший, свёкор завёл машину. Кира хотела начать говорить, но в эту секунду послышался слабый голос свекрови. Все ждали друг от друга вестей, однако сказать было нечего, и наступило молчание. Кира привыкла видеть родителей Кирилла счастливыми. Их энергия и жизнерадостность всегда поражали. Они никогда не выказывали недовольства, и Кире всегда было с ними легко. Сейчас на лицах у всех читалось отчаяние и смятение.
Машина тронулась, повернула к воротам и поехала вниз по Садовой. В то время, когда Кира поглядела в окно, они подъезжали к Московской. Вот проехали кинотеатр «Сатурн» и свернули направо. Все сидели в каком-то оцепенении, и никто не хотел приближаться к устрашающей сути.
Кира пошевелилась, достала из сумки смятый носовой платок и вытерла слезы. Медленно тянулись минуты. На коротком пути от Промышленной они почти всё время молчали. Наконец-то машина подъехала к дому. Все вышли, и пока заходили в подъезд, не проронили не слова, лишь, поднимаясь по лестнице, свекровь жалобно попросила:
– Але не говорите пока ничего.
Однако Кира вообразила, что как только откроет дверь, так сразу увидит Кирилла. Он мог бы с нежностью посмотреть ей в глаза, крепко обнять и коснуться губами щеки. И она бы снова ощутила его родной запах, который всегда так пьянил.
Кира быстро достала из сумки ключ, вставила в замочную скважину, повернула одиножды и открыла замок. Лишь они вошли, дверь захлопнулась с таким шумом, что все вздрогнули. Тут же послышалось тихое тявканье Берри. Та не выбежала, как обычно, а семенила, поджавшись. Следом за ней из комнаты вышла Аля. Не услышав привычных радостных голосов, она тут же испуганно, робко спросила:
– А где папа?
Повисла тягостная тишина. Ещё никогда их квартира не казалась такой мрачной и маленькой. Кира щелкнула выключателем. Теплый свет лампы озарил натянутые улыбки на лицах.
– Папа ещё на работе, – поспешно ответила Кира.
Она чувствовала себя беспомощной.
– А когда он вернётся?
С тайным страхом Кира взглянула на дочку:
– У него на работе авария.
– Но ведь с папой ничего не случилось?! – тревожно воскликнула Аля.
– Нет. Нет…, – так же поспешно ответила Кира.
Лицо у неё поблекло. Она вымученно улыбнулась:
– С папой ничего не случилось. Он обязательно вернется.
Аля стояла, подняв недоверчиво брови, и ждала продолжения. Кира склонилась над ней, провела мягкой ладонью по волосам, улыбнулась, немного помедлила, ласково погладила по щеке и поцеловала.
Слева у соседей зазвучала громкая музыка. Донеслись чьи-то беззаботные голоса. Там, за стеной, протекала обычная жизнь.
Кира прошла на кухню, вынула из холодильника банку тушенки, смешала её с гречневой кашей, быстро подогрела, выложила в миску и ласково позвала щенка:
– Берри, Берри!
Та маленькой молчаливой тенью приблизилась, как-то нехотя остановилась, понюхала и отошла, тихо стуча коготками по полу.
Все тотчас притихли. Ноги у Киры подкашивались. Губы её дрожали. Вытекали последние силы. Она боялась прямо здесь зарыдать и упасть.
Отец Кирилла склонился и сделал вид, что шнурует ботинок. Свекровь отвернулась и, пряча глаза, тихонько заплакала:
– Даже собака чувствует…
Украдкой, беззвучно, дрожащей рукой она вытирала слезы.
Кире нечего было ответить. Всякий раз, когда готовили гречневую кашу с тушенкой, Берри лаяла звонко, по-щенячьи скулила и фыркала, крутилась юлой и подпрыгивала в нетерпении.
Они вышли, дверь за ними захлопнулась. В полном молчании они спустились друг за другом по лестнице. Выйдя на улицу, свекор тут же достал из кармана пачку, нервно вытряхнул одну сигарету и закурил.
От ветра высокие тополя угрюмо стонали. Их мрачные тени плясали на почерневшем асфальте. К вечеру двор опустел, лишь они трое понуро продвигались к машине.
Осторожно взглянув на свекровь, Кира заметила, как та, сутулясь, прикусила губы, сжала глаза и снова бесшумно заплакала. Лицо её передернулось. Сквозь слезы она прошептала чуть слышно:
– Бедный ребенок…
Слабый свет уличного фонаря косо подсвечивал лица. Они сели в машину и поехали на завод.
Горечь тревоги сгущалась. Пока ехали, дух короткого осеннего дня угасал и слабел. Небо склонилось к земле. Чернильно-чёрные тучи висели в сетях горизонта. В наползающих сумерках растворялись обреченные к вечной позе старые сосны. Машина двигалась по дороге, такой однородной и плоской, как на картине Чюрлениса «Вечность». Безжизненная и потерянная, дорога выходила из ничего, из бездонных черных пустот, и медленно исчезала в безнадежном мутном пространстве.
Кира, повернув голову, взглянула в окно. Бледный шар двигался в небе в одном направлении с ними. В шероховатых мазках мерцающих бликов просвечивали его неясные контуры. Окутанный призрачным облаком света непонятный предмет мчался в темном пространстве с той же скоростью, что и машина. Выглядел он каким-то странным. Даже казалось, что шар провожает их немигающим взглядом. Кира сидела почти неподвижно, словно застыла, и боялась нарушить молчание. Она только чувствовала, как страх, неслышный, плотный, медленно заползал в её сердце и прятался.
Ночь сомкнулась
Мрак сгущался густой темнотой, и луна никак не могла пробиться сквозь чёрные тучи. В безнадежно пустой бесконечности ночи ощущалась ничтожность всего земного. Глеб подвигал ногами, вскинул голову, пригляделся: вдалеке как будто дрожали огни. Они вспыхивали желтым светом и, медленно приближаясь, опять исчезали. Едва свет от фар вырвался из темноты, как начал резать глаза. Глеб сощурился настороженно. Он бросил сигарету на землю, наступил на неё и принялся нервно давить ногой.
Объезжая глубокие рытвины, по дороге ехал «Москвич». Глеб, вытянув голову, вцепился взглядом в машину, через мгновение выдвинулся из тьмы и замахал руками.
Машина поехала медленнее, притормозила и через секунду-другую остановилась. Разом распахнулись три дверцы. Из машины вышла пожилая пара, и следом – молодая женщина, та самая, с редким в их городе именем Кира. Ветер тотчас раздул капюшон на её дубленке. Она, зябко дернув плечами, натянула его на голову.
Глеб оглядел их настороженным взглядом, нахмурился.
– Дальше ехать запрещено, – задребезжал его тонкий голос.
Он нервно вздрогнул, однако постарался придать себе важный вид.
– Пропустите, пожалуйста, – кротко попросила пожилая женщина, – у нас там сын.
Она поспешно сунула руку в карман, вынула скомканный белый платок, вытерла им глаза и взглянула на Глеба так жалобно, что ему хотелось бежать, исчезнуть отсюда.
Он сгорбился, но повторил всё также сурово:
– Дальше ехать запрещено.
Глеб почувствовал, как натянуто звучит его голос. Он окинул взволнованным взглядом Киру. Та сжалась и втянула голову, словно хотела спрятаться. Казалось, она не дышит. Ветер трепал непослушные пряди светлых волос. Они, выбившись из-под капюшона, обвивали её лицо.
Кира, хватая ртом воздух, еле выговорила:
– У м-меня т-там муж, п-пропустите, п-пожалуйста.
В широко раскрытых глазах отражался свет фар. Она настороженно и неподвижно смотрела на Глеба.
Он не мог вынести этого застывшего взгляда. Сделалось не по себе. Казалось, взор её обращён в пустоту. Он потупился, бледнея, и помотал головой. «Если бы она знала, что там…». Глеб напрягся, облизал языком пересохшие губы и машинально стряхнул с рукавов налипшую землю. Он отошёл, содрогнувшись и от холода, и от воспоминаний. «Интересно, она узнала меня? Размечтался! С какой стати она должна меня помнить».
Невинные детские воспоминания перемешивались с воспоминаниями прошлой зимы, и тут же сменялись картинами минувшего дня. Кира. Когда же он услышал это имя впервые? Вот ведь, сразу не вспомнишь. Но точно, в то время, когда в его жизни хороших дней было больше, чем безнадёжно-плохих.
На дороге снова мелькнула машина, вслед за ней показалась ещё одна – старый, светлого цвета «Москвич». Они резко затормозили. Хлопнули дверцы. Из «Москвича» выскочил парень и подбежал к «Жигулям». Оттуда в то время вышел знакомый по службе, старший лейтенант из ОБХСС Ерохин. Они тотчас размашистым шагом двинулись в сторону Киры, следом все разом взглянули на Глеба.
– Замерз? – небрежно бросил Ерохин.
Глеб ответил с поспешностью:
– Есть немного.
Он зябко подвигал плечами. Пар от дыхания растворялся в морозном воздухе.
Ерохин поёжился и, достав из кармана платок, начал сморкаться с гулким, протяжный шумом. От стылого ветра он содрогнулся и, вытерев нос, молча мотнул головой. Глеб кивнул с пониманием, и они отошли в сторону.
Кира с тревогой смотрела на них, потом услышала раздраженный голос Ерохина. С чувством собственной значимости он двинулся по дороге. Где-то рядом завыла собака.
Когда Ерохин вернулся, он уверил Киру, что пока ничего не известно. Она ловила каждое слово. Губы её дрожали, и спазм сковал горло.
– Что же делать? – хрипло спросила Кира.
– Ждать, – слишком нервно ответил Ерохин.
От такого ответа всем стало как-то не по себе.
Короткое слово «ждать» тревожно повисло в воздухе.
Сердце от страха зажгло, и Кира вся сжалась. Она кинула взгляд на свекровь, та подняла воротник на пальто и уткнулась в него лицом. Плечи её задрожали. Отец Кирилла сжимал в зубах незажженную сигарету и нервно рылся руками в карманах.
Захлестывал страх, но в отчаянии они лихорадочно продолжали цепляться за неизвестность, как за спасательный круг.
Огонек последней машины скрылся за поворотом. Ночь сомкнулась. Лишь было заметно, как за обочиной щерятся сосны, да черным по черному силуэты отвалов очерчены в обрамлении неба. Зажатый плотной настороженной тишиной, Глеб остался стоять на перекрёстке. Ветер дул беспощадно, и холод стоял такой, что руки окоченели. Его пробирала дрожь. Никогда ещё не было так одиноко и страшно. Жадно хотелось курить. Он порылся в карманах и вынул мятую пачку «Ту-134». Зажал в губах сигарету, чиркнул спичкой, сделал несколько глубоких затяжек и прикрыл глаза. Горький табачный дым чуть успокоил его.
Огонь сигареты ярко светился в ночи. Глеб стряхнул пепел, поднял воротник, вскинул голову и пошатнулся – в небе над ним парил сияющий серебристый шар. Летел он бесшумно в ту самую сторону, где зияла теперь пугающая воронка. Этот шар, расплывающийся, нечеткий, похожий на лампу, повис над чёрной дырой и замер. Из шара на землю выпал голубовато-зелёный луч и начал медленно шарить вокруг. Глеб, забыв о тлеющей сигарете, боялся дохнуть. Напрягая глаза, он мучительно вглядывался в темноту и не шевелился. Змеились искристые отблески, извивались причудливые спирали, светящимся облаком они окутали шар. Спустя мгновение он метнулся загадочной тенью и стремительно полетел к отвалам, едва различимым в глухой необъятности ночи. Лишь только последние блики скрылись из виду, воцарился обманчивый мрачный покой.
Глеб почувствовал, как ноги его занемели. Он с усилием ими подвигал. В морозном воздухе беспомощно таял пар от прерывистого дыхания. По спине поползли мурашки, и Глеб передернулся. Тут снова раздался собачий вой, и лишь он один был напоминанием о живом.
Глава 2.В розовом свете
Часть 1.Детство
Детский сад
Семь лет прошло с того дня, как у Глеба появилась сестра. Ему самому тогда было три, и с тех пор в Заводском переулке мало что изменилось. Всё так же, как прежде под окнами дома, на солнечной стороне, качались на стройных стеблях махровые шапки циний, душистыми волнами пенились флоксы: изящные белые, огненно-красные, розовые. Порой до конца сентября цвели такие привычные к холодам золотистые бархатцы. Их пряный запах мама любила больше всего. Летом в саду по-прежнему рос крыжовник, кусты чёрной смородины обсыпали сверху донизу спелые ягоды, узловатые ветви яблонь тяжело клонились к земле. Сюткины, и как это вам удаётся обманывать переменчивую погоду? – удивлялись соседи.
А сестра свалилась на Глеба непонятно откуда, и с тех пор он не знал покоя. В один из дней Ирка опять вернулась из садика вся в слезах, и причиной тому стала Кира Уварова.
В детском саду снова ставили оперу. Приготовили красочные декорации, наделали кружек из папье-маше, у воспитательницы Нины Николаевны нашёлся бочонок с надписью «Мёд», заведующая принесла самовар из дома, и, по обыкновению, выбрав актёров, с каждого сняли мерки и пошили костюмы, Тут-то, к изумлению Глеба, Ирка разобиделась не на шутку. До слёз ей стало завидно, что Кире Уваровой досталась роль Мухи-Цокотухи.
– Не плачь, – уговаривал Глеб сестру, – роль Бабушки-пчелы тоже очень хорошая. Ну не могут же все играть главные роли. Помнишь, ты сама говорила, что в прошлый раз, в «Кошкином доме», Кира играла Курицу.
– Да, но она ещё была Снегурочкой, – с плачем тараторила Ирка.
Снова и снова раздавалось жалобное завывание с всхлипами. Слезы лились настоящие, крупные, и лицо у сестры покраснело.
Глеб вытаращил на неё глаза.
– И что?
– А то! – в отчаянии голосила она. – Когда в тихий час нас укладывали спать, Киру водили на репетиции.
Глебу вспомнилось, как прошлой зимой мама взяла его в детский сад на новогодний утренник младшей сестры. Вот тут он увидел девочку с длинными белокурыми косами. Одета она была в голубую шапочку с белой опушкой, и в отороченную белым мехом голубую атласную шубку с серебристым узором, будто мороз расписал. Глеб с любопытством следил за девчонкой, и как только Дед Мороз со Снегурочкой проходили рядом, он решил проверить, настоящие ли это косы, а может – веревки, и так потянул, что голова у Снегурочки дёрнулась. Глеб, не мигая, уставился. Он даже разволновался, всё ждал, что Снегурочка закричит. Но она лишь оглянулась и снисходительно посмотрела ему в глаза. Если бы Глеб знал тогда, что это Кира Уварова, он бы дёрнул за косу посильней.
Однако уже летом Ирка сдружилась с Кирой. Не так, чтобы они стали неразлучны, но Кира её научила делать маникюр из лепестков шиповника. И от неё же Ира узнала, что если смочить розовые лепестки и наложить их на губы, то будет выглядеть так, будто губы накрашены помадой.
Хотя, по правде сказать, с тех пор, как в их группу пришла Маша Петрова, Кира сблизилась с ней. Они вместе вытворяли разные шалости, но Ире не нравилось участвовать в том, за что к тому же потом доставалось от взрослых.
Дело шло к полудню. Ира, моргая, переминалась ногами на месте и оглядывалась по сторонам.
– Сюткина, кто был зачинщиком? Отвечай! – спрашивала в который раз воспитательница.
Пусть это звучало мрачно, и грозный голос пугал, но Ира молчала. И не потому, что не хотела выдавать ребят. Одно дело – Аня, или Женя, с недавних пор они стали подругами, и в этот день на прогулке вместе играли в «дом». Просто Нина Николаевна застала её врасплох, а Ира и вправду ничего не видела, и потому не знала, что ответить. Незадолго до этих расспросов стоило Нине Николаевне на минуточку отлучиться, как кто-то заметил, что пара штакетин в ограде болтаются на верхних гвоздях. Но разве же от неё скроешься. Только-только самые смелые успели вылезти в дырку, как воспитательница вернулась. Сначала Нина Николаевна загнала детей на веранду и, буравя глазами поверх очков, устроила им допрос. Но от этого толку не вышло: все отмалчивались. Тогда она увела их с прогулки, отправила в раздевалку и велела каждому встать напротив шкафчиков. Приказала: стоять, молчать, не шевелиться. И, уходя, прошипела: только попробуйте пискнуть. Тут же все замерли. Нина Николаевна вышла и захлопнула за собою дверь. Стиснутые белыми стенами, дети стояли и безмолвно разглядывали друг друга.
В полдень летнее солнце нещадно палило в окна. Его ослепительный свет бил прямо в лицо. Пылинки перед глазами лениво кружились в горячих лучах. В голове тихонько звенело. Также как Кира Уварова, Ира ладошкой прикрыла глаза, потом повернулась и зашептала:
– Ерохин, смотри, как кружится пыль.
Никита Ерохин, можно сказать, с рождения выглядел этаким маленьким мужичком, основательным, плотным, серьезным, потому-то все называли его по фамилии. Он, глянув мельком на Сюткину, тихо промямлил:
– Сам вижу.
Никита повернулся к окну, и в эту минуту на полу что-то глухо ударило. Он оглянулся: Кира неподвижно лежала у шкафчика. Глаза её были закрыты, и у согнутых ножек растекалась лужица.
Все тотчас затихли, а потом вспорхнули, как воробьи, закричали и ринулись разом к двери.
Застучали шаги в коридоре, и в раздевалку вбежала заведующая, а следом за ней, застёгивая на ходу халат, влетела Нина Николаевна. Медсестра примчалась последней и тотчас склонилась над Кирой.
Никита, одной рукой вытирая нос, другой потянул Нину Николаевну за рукав и спросил:
– Она умерла?
Та испуганно дёрнулась:
– Да замолчи ты, Ерохин. Это обморок.
Что такое «обморок», Никита не знал.
В эту секунду медсестра прощупала пульс и крикнула:
– Дышит!
Она вскинула голову:
– Откройте окно! Воздуха! Воздуха дайте!
Заведующая, встав на колени, трясла Киру за плечи.
– Кира, Кира! Ты слышишь меня?
Кира не помнила, сколько длилось беспамятство. Лишь очнулась, заплакала и почувствовала, что лежит в луже. Влажные трусики холодили ей тело. Какие-то люди в белых халатах склонились над ней и хлопали по щекам. Потом её взяли на руки, унесли в спальню, положили там на кровать и укрыли одеялом. И Кира, согревшись, тут же уснула.
Как-то так вышло, что Ерохин с тех пор стал к Кире присматриваться. С ней не соскучишься, также как с его другом Кириллом Алексиным. Вот только с Кириллом они виделись либо вечерами, когда возвращались домой, либо по воскресеньям.
Беглянка
Вечером, после пяти, сестра Катя привела Кирилла из детского сада и оставила гулять во дворе. В воздухе всё ещё пахло дождем. На газоне у самого дома разлилась огромная лужа и в ней мелко дрожали солнечные лучи. Кирилл маленькими шагами ступал по воде, все дальше и дальше от края, пока не зачерпнул в сапоги. Стало понятно: хорошая лужа, глубокая. Он нашел широкую доску и спустил её в воду. На обочине у дороги отыскал длинную палку. Она стала его веслом. Оттолкнул доску ногой и ловко запрыгнул наверх. «Вот и корабль!» – улыбнулся Кирилл.
Тут он заметил Никиту Ерохина. Вот уже несколько дней тот приходил из детского сада один. Ерохин с гордостью рассказывал всем, что родители написали записку, и сейчас воспитатели разрешают ему самостоятельно уходить домой.
Рядом с Ерохиным шла девчонка. Её длинные белокурые косы свешивались до пояса и оканчивались голубыми бантами.
Кирилл окликнул Никиту, тот обернулся и побежал к нему. Ерохин остановился у лужи. Уши его торчали в разные стороны. Он, ступив краем ботинка в воду, дернул ногой.
– Ты куда? – спросил Кирилл.
– Домой, – шмыгнув носом, ответил Ерохин.
– А это кто? – мотнул головой Кирилл.
– Кира Уварова. Она из нашей группы. Сегодня первый раз её отпустили домой без родителей. Идем с нами. Сейчас мультик начнётся.
– Нет. У меня важное дело, – с насмешкой взглянув на Никиту, ответил Кирилл. – Видишь, я плыву на корабле.
– Если что, приходи, – бросил Ерохин и побежал обратно к девчонке.
– Мальвина, – ухмыльнулся Кирилл.
Он искоса разглядывал Киру. В это время последние капли дождя стекали с деревьев. Кирилл оттолкнулся палкой от дна, и только он вышел в плавание, к дому подъехал «Москвич». «Папа вернулся с работы», – обрадовался Кирилл. Он, причалив к правому берегу, спрыгнул и побежал. Отец распахнул переднюю дверцу:
– Садись, прокачу!
Машины занимали Кирилла больше всего. Он всякий раз увязывался за отцом, когда тот копался в гараже. Кирилл уже знал, где находятся рулевые тяги, маятниковый рычаг и шаровый шарнир. Он не понимал до конца, что это значит «пять градусов – предельно допустимый размер люфта», но внимательно следил за тем, как отец брал линейку и мел, ставил линейку торцом на приборной панели и ребром прислонял её к рулю. Затем крутил вправо руль. Когда передние колеса начинали поворачиваться, отец наносил мелом отметку на обод руля. И снова крутил руль, но в другую сторону. Лишь колеса поворачивались, делал новую отметку, и в конце замерял расстояние между ними. Тут он доставал из кармана блокнот и записывал формулу, что-то высчитывал и довольный провозглашал:
– Всё в норме! А сейчас проверим ручник.
Отец поднимал его вверх.
– Слушай щелчки. Должно быть три-четыре звука.
Потом отец ставил машину на ручник, они выходили и начинали толкать. Машина даже не трогалась с места.
– Ну вот, всё в порядке.
Кирилл умел отличать торцевые ключи от накидных и рожковых. Он мог часами крутиться рядом с отцом, пока тот возился с машиной, и подавать ему то пассатижи, то плоскогубцы, динамометрический ключ, отвертки.
Когда машина встала точно напротив ворот, Кирилл выскочил ловко и принялся помогать отцу открывать гараж, а потом побежал к Ерохину. Он жил в этом же доме, только в соседнем подъезде. Кирилл вбежал по ступеням, стукнул пару раз в двери, ему отворила мама Никиты. Тот сидел на диване рядом с девчонкой. Маленький черно-белый экран телевизора светился в углу. Шёл мультик «Каникулы Бонифация». Только Кирилл уселся, в дверь постучали. Мама Ерохина крикнула с кухни:
– Входите! Там не заперто.
Она вышла в прихожую, и в эту минуту дверь распахнулась. На пороге стояла заплаканная женщина, а рядом с ней – мужчина с бледным лицом. Тотчас раздался его встревоженный голос:
– Мы ищем Киру Уварову. Она не у вас?
Тут из комнаты показалась Кира. Увидев родителей, она удивилась, а те бросились к ней и мама, плача, принялась её целовать.
– Мы же тебя потеряли. Всех обежали, уже позвонили в милицию.
Мама Ерохина удивлённо взмахнула руками:
– Это ж надо! Я-то думала, вы знаете, что Кира у нас.
Она повернулась к Кире:
– Вот выпорют тебя родители хорошенько, тогда перестанешь бегать без спроса.
Кира спокойно слушала. Тут папа её обнял и покачал головой, однако казалось, его голубые глаза почти улыбались.
Вернувшись домой, родители покормили Киру и уложили спать. Мама сказала, что Кира наказана и не стала читать ей сказку. Кира хотела было сама почитать, но родители запретили брать книги. Тогда она закрыла глаза и принялась сочинять продолжение недочитанной сказки.
Познание жизни
В воскресенье, после обеда, мама повела Никиту в парикмахерскую. Народу было полно, хотя до начала учебного года оставалась ещё неделя. Пока ждали в очереди, Никита беспокойно ёрзал на стуле, глазея по сторонам. На стенах висели черно-белые фотографии разных причесок, но из зала, где парикмахеры стригли клиентов, выходили все одинаковыми. В воздухе пахло Тройным одеколоном. По утрам, когда папа заканчивал бриться, точно такой же запах доносился из ванной, и потому Никита сразу его узнал.
Стричься он не хотел, но мама не слушала. Она сказала решительным тоном, что школьник обязан быть аккуратным и носить строгую короткую прическу.
Ерохина усадили в кресло, закутали в белую простыню, лишь лохматая голова осталась торчать. Никита со страхом услышал название стрижки «под польку, короткая». Тут он было запротестовал, однако его никто не послушал. Парикмахерша сразу сказала, что Ерохин у неё не один, и если ему не нравится, то может идти. В ту же секунду мама пригрозила рассказать обо всём отцу. Он как представил отцовский ремень, так стало немного не по себе.
Чуть не плача, Никита смотрел исподлобья. Волос на затылке почти не осталось, но парикмахерша всё жужжала машинкой. Потом, сопя носом, ровняла линию челки. Всякий раз, как только она склонялась, белый халат натягивался на её фигуре. Казалось, вот-вот, и он лопнет по швам. Всё это время к ней обращалась другая парикмахерша, та, что стояла слева. Она резким противным голосом рассказывала про свою дочь:
– Вот ведь, худющая, в чем душа держится, а решила-таки пойти в ПТУ, учиться на сварщика.
Ерохин услышал, как парикмахерша над его головой с коротким смешком вздохнула:
– Говорят, зарплата большая у сварщиков. И квартиру быстро дают.
Никита косился на неё с подозрением. Как только та закончила стричь, он бросил затравленный взгляд и вздохнул: «Опять под горшок обкорнали». В зеркале было видно, как челка скрывала его низкий лоб.
А парикмахерша сняла колючую простыню и стала очищать от волос тонкую шею Ерохина. Было больно, но Никита молчал. Пока мама расплачивалась, он стоял и приглаживал челку руками.
Потом они вышли из парикмахерской, завернули за угол, и прямо перед ними стоял их дом.
Во дворе было тихо. На сирени сонно висели зеленые пыльные листья. Иногда они колыхались от жаркого воздуха. Опустив хвост, лениво плелась собака. Высунув длинный язык, она тяжело дышала. На скамейке, укрытой в тени тополей, одиноко сидел старик, рядом в песочнице две девчонки из соседнего дома строили башню. Мама сказала Никите, что ей надо сходить в магазин, а он может остаться гулять.
Ерохин огляделся по сторонам: играть было не с кем. Можно было пойти к Кириллу, но тот с родителями уехал на дачу. Тогда Никита решил сбегать во двор, где жила Кира Уварова. Время от времени он был не прочь улизнуть подальше от дома. Никита выскочил на Некрасова и, подпрыгивая, помчался по тротуару вниз. Через пять минут он был на Московской.
В то время как Ерохин вывернул из-за гаражей, Кира упала с велосипеда и расшибла коленку. В ту же секунду на царапинах проступили капельки крови. Вот так вечно что-то случается. Никита к ней подбежал, сорвал на обочине лист подорожника и, вытерев его о рубашку, протянул Кире:
– Держи!
Она поплевала на лист и прилепила к ноге. Царапин и синяков уже было не сосчитать.
Ерохин смотрел на её косы и думал: «Везет же девчонкам». Взмахнув рукой, он тут же взъерошил чёлку.
А между тем жаркое солнце клонилось к закату. Неподалеку от дома, вдоль гаражей, стояли рядами поленницы дров, которыми топили титаны и печи в квартирах. Поленницы возвышались отвесными лабиринтами, рассеченными узенькими дорожками. Здесь можно было играть в стрелки и в прятки. А ещё рядом с поленницами дети устраивали театр. Все вместе сочиняли сценарий, а режиссерами были девчонки постарше. Каждый сам для себя мастерил костюмы, а потом сообща готовили декорации. Кто-нибудь приносил покрывала из дома, их натягивали между столбиками и делали занавес. Зрителями становились бабушки и родители. Они приходили на спектакль со своими стульями. И лишь дедушек среди зрителей не было ни одного.
Ерохин поднял велосипед и привалил к поленнице.
– Подожди, я сейчас, – Кира, быстро взглянув на Ерохина, побежала в сторону дома.
А когда вернулась, в руках у неё был спичечный коробок. Она улыбнулась и предложила разжечь костер, маленький такой посреди поленьев.
Вообще-то с ней никогда не было скучно, и в детском саду Кира тоже была заводилой, но тут Ерохин, пальцем покрутив у виска, пугливо таращился:
– Как это?
Отец ему строго-настрого запретил трогать спички. От огня может случиться пожар, оно и понятно. Это знает каждый дурак.
Ерохин сначала замялся, потом помотал головой. Вид у него был несчастный. Так и подмывало сбежать. Он хотел поделиться опасением с Кирой, но постеснялся. То есть поначалу Ерохин осторожно отказывался, но не тут-то было. Короче, он уже сам запутался.
Ерохин стоял и крутил пуговицу на рубашке, а Кира, словно подразнивала, и продолжала завлекать в игру. Она не думала об опасности, даже не знала о ней ничего, и это делало её свободной.
Боком-боком они протиснулись в узкий проход между двумя поленницами. Комары противно пищали и покусывали голые ноги. Один присосался к руке. После шлепка у Ерохина на ладони осталось кровавое пятнышко с комариным трупиком. Он сморщился и вытер ладонь о рубашку.
– Ерохин, ты посмотри, ничего страшного. – легкомысленно говорила Кира, чиркая спичкой. – Это же очень просто! Делаешь так, и зажигается огонек.
– Сам знаю, – ответил Никита, оглядываясь.
– А потом кладешь спичку в дрова, – она просунула руку между поленьями.
Осторожный Ерохин, вылупив глаза, слушал с раскрытым ртом, потом ещё немного потоптался на месте. Он пригладил руками виски. Всё ж таки решившись, с напускным спокойствием согласно кивнул:
– Угу.
И тут же сам удивился собственной смелости. Кира не командовала, но её хотелось слушаться.
Кира с Никитой переглянулись и, оглядевшись по сторонам, принялись снова и снова чиркать о коробок. Они долго возились, вот только спички не загорались. Оказалось, разжечь их не так-то просто. И тут, сначала у Ерохина вспыхнул маленький огонек, а следом у Киры загорелась спичка.
– Уф, наконец-то! – обрадовались они.
Однако огонь не успел разгореться, как послышались чьи-то шаги.
– Тс-с-с! – прошептал Никита.
Кто-то, ругаясь матом, тяжело побежал. Кира с Ерохиным повернули головы и в это мгновение увидели соседа из дома напротив. Тот, протискиваясь в узкий проход между поленницами, закричал:
– Что ж вы делаете, стервецы?
Улыбки застыли на лицах. Ерохин захлопал глазами, дернул Киру за руку и крикнул испуганно:
– Бежим! Скорей!
В этот миг он запнулся, неловко упал и почувствовал резкую боль. Поднимаясь, заметил, как проступает кровь на разбитом колене. Ладони саднило. Но всё равно Никита вскочил и припустил со всех ног в сторону дома.
– Ах вы, бандиты, что устроили! – слышалось за спиной.
Ерохин был рад, что ему удалось убежать. Правда, было интересно узнать, где же Кира. А что, если её поймал этот дядька! И ещё, не выдаст ли Кира его? Но особенно волновало, не узнает ли об этом отец. Нет. Уж кто-кто, а Кира точно не выдаст. Он вскинул голову и обернулся, потом, вытянув шею, прислушался: там, во дворе, кого-то облаивала собака. «Это Джек», – подумал Никита. Он согнулся, сорвал лист подорожника, поплевал на него и заклеил коленку. Хотел было вернуться, но снова услышал собачий лай. Ерохин вытер руки о шорты и, прихрамывая, пустился бежать.
А Кира тем временем промчалась между поленницами, ловко перепрыгнула через камень, выскочила к гаражам, тотчас же круто повернула к дому и залетела в подъезд. Дверь с шумом за ней захлопнулась. Она пронеслась по ступенькам, забежала в квартиру и замерла на мгновенье. Ужасно хотелось пить. Кира прислушалась: родители были на кухне. Их голоса перемешивались со звуками радио.
…Будет нелегко, малыш, подчас,
Начинать все в жизни в первый раз…
Моя любимая песня, – успела подумать Кира.
Она вильнула через гостиную в спальню. За спиной продолжало звучать:
Топ, топ… Топ, топ…
Очень нелегки…
Кира, слегка ударившись головой, торопливо заползла под кровать. Поджав к подбородку колени, она лежала в дальнем углу, в полутьме, и прислушивалась к голосам родителей. Тут раздался резкий настойчивый стук. Вместе с ним замолчало радио. Донесся звук открывающейся двери, застучали чьи-то шаги, и Кира услышала разъяренный голос соседа:
– Ваша дочь поджигала дрова около гаражей.
– Не может быть, – спокойно сказал отец.
Сосед, закипая от злости, почти закричал:
– Да я видел своими глазами!
Следом докатился строгий мамин голос:
– Кира, ты где?
Кира зажмурилась и притихла, в надежде, что ее не найдут. Но вот в спальне послышался топот, и в узком пространстве между кроватью и полом показалось папино лицо.
– Вылезай!
Кира, щурясь от света, выползла из-под кровати. Папа, хмурясь, глядел на неё:
– Ты что же и вправду поджигала дрова?
Он провёл по лицу ладонью и строго сказал:
– Кира! Смотри мне в глаза.
Она послушно взглянула на папу. С лицом римского воина он смотрел на неё.
В эту минуту мама всплеснула руками:
– Нет, ты только на неё полюбуйся! Она ещё и молчит.
Папа присел на корточки.
– Кира, послушай меня. Говорить правду – это самое простое.
Кира молчала. Нет, она почти не боялась, потому что родители редко её ругали.
Кира сглотнула слюну, расправила плечи и, глядя папе в лицо, призналась коротко:
– Да.
– Молоде-ец! – протянул озадаченно папа.
Он поднялся и покачал головой:
– Кира, прежде чем что-то сделать, подумай. Думать, вообще, очень полезно.
Мама такая красивая, похожая на Брижит Бардо, с изяществом склонилась над Кирой и жалостно протянула:
– Ну нельзя же так делать. Спички – это не игрушка.
Она прижала Киру к себе и чуть не плача сказала:
– Вор придёт, так хоть стены оставит. А вот огонь…
Тут у неё побежали слёзы.
– Огонь, он всё пожирает: и дерево, и железо, и человека.
Вечером, лёжа в кровати, Кира слушала, как папа успокаивал маму:
– С этим ничего не поделаешь, дорогая. Дети, они же не думают ни о прошлом, ни о будущем. Вся их жизнь – в настоящем.
Папин голос затих. Потом он вздохнул и продолжил:
– И никуда не денешься от того, что детство подвержено искушениям. А то, что мы – взрослые называем шалостью, для ребенка – познание жизни. Ведь дети – они тоже люди, только очень маленькие, и в их жизни, также, как в нашей, случается всё.
Первый класс
Через неделю Кира в новом форменном платье и белом фартуке гордо вышла из дома. В одной руке она держала портфель, а в другой был зажат букет разноцветных лучистых астр. Когда вместе с родителями Кира важно шагала по улице, её душа была переполнена счастьем.
Ерохин учился в параллельном классе. Первый «а» находился через стенку от первого «б», и Кира встречалась с Никитой всякий раз, как начиналась перемена. Рядом с Ерохиным чаще всего был его друг Кирилл Алексин. Он всегда смотрел на Киру с приветливым интересом. С обычной порывистой живостью они вместе носились по коридору, пока им навстречу не попадался кто-нибудь из учителей.
А ещё в первом «а» учился необычной мальчик, звали его Илья Вершинин. Отец приносил его в школу на руках и, усаживая за парту, садился рядом. Поначалу тот мальчик всех удивил, но у Ильи был такой легкий характер, и с ним было так интересно, что со временем одноклассники перестали замечать его особенности. Он был самым обычным ребенком, как все, только немного лучше. Илья мог рассказывать наизусть целые главы из книг. Он говорил, будто за год на Землю падает полтонны марсианского метеорита, что во вселенной больше звёзд, чем песчинок на всех пляжах Земли, а в человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном пути. Никто не знал, что такое синапсы, тогда Илья пригласил одноклассников к себе домой и дал почитать медицинскую энциклопедию.
Кое-какие термины из энциклопедии оказались Кире знакомы, потому что мама её работала фармацевтом. Когда в школе заканчивался последний урок, Кира любила отправиться к маме в аптеку. Она шла по Садовой улице, размахивая портфелем, проходила вдоль высокой чугунной ограды, за которой виднелся парк, у дворца культуры поворачивала на Уральскую и по липовой аллее шагала к высокому дому с рельефным фасадом и маленькими балконами, по краям которых тянулись кованые перила.
Кире нравились аптечные запахи, бутылочки, колбочки, маленькие весы. На этих весах развешивали порошки, которые запечатывали потом в пергаментные пакетики.
Она обожала спускаться по каменной лестнице в аптечный подвал. Там было холодно и пахло лекарствами. Вдоль стен тянулись шкафы с рядами бутылей из коричневого стекла.
Кира любила наблюдать за приготовлением лекарств. В эти минуты она отстранялась от мыслей о школе, от домашних заданий и прочих всяческих мелочей. Её доверчивый взгляд был весь устремлен на маму. Та садилась за белоснежный стол и загадочно улыбалась:
– Сейчас я буду готовить микстуру от кашля.
Мама брала крошечные гирьки и ставила их на весы.
– Сначала я отвешиваю ноль целых две десятых грамма термопсиса, – говорила она.
– А что такое ноль целых две десятых? – спрашивала Кира.
– Смотри, в этой коробке лежит десять пакетиков. Сейчас ты возьмешь из неё два пакетика. Вот это и будет две десятых, – улыбаясь, объясняла мама.
– Понятно, – кивала Кира.
– Сейчас я налью во флакон дистиллированную воду, сюда же – бикарбонат натрия, бензоат натрия.
Названия были таинственные и певучие.
– Но это ещё не всё. Потом добавляю кодеин и сахарный сироп.
– Потому-то микстура от кашля такая сладенькая? – спрашивала Кира.
– Потому-то, – с веселой улыбкой отвечала мама.
– Сейчас я долью нашатырно-анисовые капли и микстура будет готова.
Стеклянные флакончики, баночки с мазями светились под лампами. Мама снова наливала разные жидкости в пузырьки, закупоривала, наклеивала этикетки. В тишине лишь слышалось легкое бряцание гирек, да время от времени звякали склянки.
Первый учебный год промелькнул для всех незаметно, и в конце мая предстояло выполнить итоговые задания по разным предметам. После контрольной работы по арифметике, на следующий день, Анна Степановна начала выдавать тетради, объявляя при этом оценки. Перед фамилией Киры был чуть ли не весь класс, но вот, наконец, очередь дошла до неё.
Анна Степановна, сурово прищурившись, произнесла:
– Уварова – «единица»!
Она, сдвинув к переносице брови, двинулась в сторону Киры, остановилась у парты, положила тетрадь и ехидно поджала губы.
Тотчас все ахнули от удивления и обернулись.
– Останешься после уроков и перепишешь! – грозно сказала Анна Степановна.
Когда Кира раскрыла тетрадь, то увидела, что в примерах не было ни единой ошибки, но страница крест-накрест перечёркнута красным, внизу стояла отметка «1» и в скобках написано «единица», а ниже добавлено «Переписать чернилами!».
Кира вместе с двоечниками осталась после уроков. Она вынула из пенала шариковую ручку, старательно переписала контрольную и подняла руку.
Анна Степановна, сердито взглянув, спросила:
– Уварова, ты закончила?
Кира, кивнув утвердительно, ответила коротко:
– Да.
Анна Степановна подошла и, взяв у неё тетрадь, перелистала страницы. Тут лицо её вытянулось:
– Уварова! Я что сказала? Переписать чернилами!
Она положила перед Кирой тетрадь и несколько раз ткнула пальцем в середину листа.
– Чернилами! Переписать чернилами!
Кира переписала. Шариковой ручкой. И подняла руку. Анна Степановна приблизилась к ней и сурово взглянула в лицо: голубые глаза Уваровой победно сияли. Анна Степановна открыла тетрадь; давя ручку, перечеркнула страницу красным, поставила единицу и хлопнула по парте ладонью.
– Переписать! Чернилами!
Но эта маленькая блондинка с курносым носом и пухлыми губками была тверда, как камень. За ней стояли Мальчиш-Кибальчиш, Чук и Гек, Тимур с его командой и все пионеры-герои. Это не был её протест. Она никому ничего не доказывала, не спорила, никому не делала зла, не причиняла вреда, лишь молча, снова и снова, цифра за цифрой, старательно и красиво Кира переписывала примеры всё той же шариковой ручкой, которую накануне ей подарил папа. Она не сдалась, и Анна Степановна отступила, только сказав напоследок:
– Не знаю в чём дело, но нервов у тебя нет. Похоже, они у тебя железные.
Когда Кира возвращалась из школы домой, по дороге у перекрёстка ей встретился папа. Он, увидев её, обрадовался, но голос у него был встревоженным.
– Кира, ты где была? Мы уже потеряли тебя.
Она начала рассказывать. Папа выслушал, не проронив ни слова, погладил Киру по голове и, улыбнувшись, сказал:
– Существуют правила, и приходится их соблюдать. Так что ты завтра оставь-ка лучше шариковую ручку дома. От этого всем станет спокойней.
Кирилл
Через год, лишь только перешли во второй класс, как тут же все стали самостоятельными. Сами отправлялись во Дворец пионеров, в библиотеку, в спортивную школу, сами записывались в кружки.
В восемь лет Кирилл был подвижным, худым. Всё лето он бегал по гаражам, лазал по деревьям, забирался на крыши сараев. Вытянулся ещё больше, руки стали крепкими.
В начале сентября на урок физкультуры пришёл тренер из спортивной школы. Он стоял у шведской стенки рядом с учителем и с улыбкой что-то ему говорил, показывая рукой то на одного, то на другого. До Кирилла доносились обрывки их разговора. Он, обернувшись, увидел, что те смотрят в его сторону. Слово «хорошо» тренер повторял так часто, что Кирилл стал прислушиваться. «Хорошая координация, хорошая способность согласовывать движения рук, хорошо соизмеряет движения в пространстве, хорошее статическое и динамическое равновесие».
Учитель физкультуры подозвал Кирилла. Когда тот подбежал, тренер попросил его сесть на шпагат, потом встать на мостик, сделать стойку на плечах, подтянуться, сколько может, потом поднять под прямым углом ноги, не сгибая колени. Он остался очень доволен и предложил Кириллу заниматься в секции спортивной гимнастики.
Однако Кирилл до конца не был уверен, хочет ли ходить в спортивную школу. Не успел он подумать, как тренер похлопал его по плечу и весело произнёс, что всё решено. Кирилл ещё колебался, раздумывал, но всё-таки решил попробовать, и его затянуло. Правда, пришлось привыкать к новому распорядку дня, хотя родители поначалу даже не знали, что сын записался в секцию.
А когда тренировок не было, Кирилл по-прежнему читал книжки, или гонял на велосипеде с Ерохиным. Зимой они вместе ходили на лыжах, добираясь аж до Сорочьих скал; бегали на стадион поиграть в хоккей или просто катались на коньках. По воскресеньям родители давали деньги, и тогда Кирилл с Никитой шли в кино.
Друзья
В среду после школы Кирилл успел смотаться до Черемши, а потом они с Никитой долго носились на великах по двору. Как очумелые, крутили педали; лавируя между деревьями, выезжали на школьный двор, разворачивались, катили вдоль гаражей и возвращались к сараям. Потом Кирилл сходил домой и, вернувшись, достал из кармана ключ. Когда он вставил его в замочную скважину, ключ со скрежетом повернулся, и дужка замка раскрылась. Они распахнули дверь, завели велосипеды в сарай и поставили их слева у стенки.
Никита с Кириллом часто сюда забирались. Им нравилось сидеть в темноте. Свет просачивался между досками, и в солнечный день в лучах мельтешили пылинки. В щели был виден весь двор. Паутины и пыль окутывали деревянные стены.
Казалось, Никита с Кириллом давно обследовали весь сарай, однако каждый раз находили что-то новое. Здесь хранились старые вещи. Один на другой были сложены два старых стула. На полках лежали кучи пожелтевших журналов. Ерохин открыл один, однако он оказался на непонятном языке. На обложке в красном каре белыми буквами было написано «Panorama». Они начали листать и поняли, что журнал этот польский. Внимательно разглядывая каждую страницу, наткнулись на фотографии почти голых женщин. Ерохин, увидев их, так и замер с открытым ртом. Однажды зимой ребята постарше взяли его с собой. Вместе с ними Никита бегал подглядывать в окна бани, стоявшей неподалеку отсюда. Это занятие, понятное дело, было опасным, но интересным.
Кирилл приблизился к Никите, перевернул страницу-другую. В журнале были напечатаны фотографии с концерта неизвестной группы. И тут Кирилл вспомнил, что летом читал в «Комсомольской правде» (эту газету выписывала сестра) статью про битлов. Они с Ерохиным тогда принялись бурно её обсуждать, потому как в статье чёрным по белому было написано, что тройка «Битлз» распускает слухи, будто один из участников группы мертв. И этим «покойником» якобы был Пол Маккартни. Только потом сам Маккартни заявил, что не видит возможности сотрудничать с Джоном Ленноном. В общем, дороги четверки расходятся. Как бы то ни было, вот уже больше года Маккартни и Леннон не работали вместе. И хотя некоторые продолжали верить, будто четверка связана вместе до самой смерти, статья заканчивалась словами: «Битлз» были продуктом шестидесятых годов, почтим их память!..» Так вот, главное, что та самая статья якобы была перепечатана из польской «Панорамы».
Ерохин с Кириллом тогда не поняли, что такое «Панорама», а тут нашелся сам журнал, да ещё во всей красе. Они спрятали его подальше, чтобы родители случайно не выбросили, или крысы не сгрызли. Иногда Кирилл видел здесь крыс, разбегавшихся по углам.
Вообще-то, что касалось Ерохина, он крыс не боялся. Когда Никита подрос, мать рассказала ему, как однажды они вернулись домой из гостей и увидели на кухне большую серую крысу.
– Посмотрите, какая киска, – обрадовался тогда Ерохин.
После случилось то, что он уже сам смутно помнил.
Родители и Никита стояли на табуретках. Мать в это время держала в руках длинную швабру, а отец – кочергу. Крыса металась по полу, подпрыгивала и пыталась их укусить. Отец изловчился и ударил крысу по голове. Та упала. Он пошевелил её кочергой, но крыса лежала недвижно. Родители засунули её в мешок, вынесли на улицу и закопали за гаражами.
А между тем послышался шум подъезжавшей машины. Кирилл заглянул в щель между досками: оказалось, это родители вернулись с работы. Мальчишки затихли. Хлопнули дверцы, и мама с отцом зашагали в сторону дома. Вот они поднялись на крыльцо и скрылись за дверью.
Никита с Кириллом сгрудили журналы в кучу, подхватили велосипеды и, выкатив их из сарая, закрыли дверь. Кирилл быстро запер замок, а ключ сунул в карман. В эту минуту из дома вышел отец. Он спустился с крыльца, подошел к машине и, увидев Никиту с Кириллом, заулыбался:
– Ну что, бездельники, клятву-то выучили? Без неё в пионеры не примут.
Те, переглядываясь, подбежали к нему.
– А чего там учить, – с насмешкой ответил Кирилл.
Отец с нарочитой серьёзностью глянул поверх очков:
– Галстуки приготовили?
Кирилл утвердительно хмыкнул отцу. Тот потрепал его по плечу и повернулся к Ерохину:
– А ты что молчишь?
Никита смущённо потупился и стал объяснять, что его в пионеры не примут, потому что контрольную по математике он написал на «тройку».
Отец Кирилла с сочувствием выслушал и спокойно сказал:
– Ну, и не переживай. Ты дома решай побольше задач.
Он махнул им рукой:
– Садитесь-ка лучше в машину, прокачу.
Кирилл вопросительно посмотрел на отца:
– А можно мне порулить?
– Садись, – улыбнулся отец. – По двору, и до гаражей.
Когда машина тронулась с места, Ерохин страшно завидовал другу. Кирилл впечатлил его тем, как держался за руль. Он спокойно проехал короткий участок дороги между домами и, подкатив к воротам, заглушил мотор.
Пионеры
В четверг после уроков лучших учеников третьих классов принимали в пионеры. Кира была отличницей, и, хотя за поведение ей ставили «хорошо», оказалась среди немногих избранных, кого должны были принять первыми. Мама с вечера погладила форменную рубашку белого цвета и синюю юбку. Кире она доверила галстук.
Утром Кира проснулась сама ещё до того, как её разбудили. Она проглотила овсяную кашу и, обжигаясь, отхлебнула чаю. Тотчас выскочила из-за стола, со счастливой улыбкой надела юбку с рубашкой, натянула чулки, потом – сапоги. Мама что-то кричала из кухни, но Кира, не слушая, в одну минуту накинула шапку с пальто, схватила портфель и выбежала из дома.
На школьном крыльце она столкнулась с Ерохиным. В отличие от Киры вид у него был растерянный, грустный, но когда та сказала ему, что ещё не всё потеряно, он оживился.
На арифметике Ерохин решил примеры без единой ошибки. Учительница спросила, есть ли у него с собой галстук, и знает ли он пионерскую клятву. Лицо у Никиты радостно вспыхнуло. Он вынул из портфеля хрустящий шёлковый треугольник алого цвета и произнёс без единой заминки клятву. Учительница одобрительно улыбнулась.
Когда закончился последний урок, учеников вывели строем из классов, сначала третий «а», а следом – за ним третий «б». Стройной колонной по двое они прошагали по коридору и поднялись по лестнице на второй этаж. Учителя, махнув им руками, велели всем встать вдоль стены вестибюля. Потом зазвучал горн, раздался барабанный бой, и вынесли знамя.
Из третьего «а» в пионеры принимали больше половины класса, в третьем «б» оказалось счастливчиков меньше. У каждого на вытянутой правой руке висел галстук. После того, как все хором прочитали клятву, подошли старшие пионеры и стали завязывать галстуки.
Маша Петрова, вытянув голову, ждала своей очереди. Лицо её раскраснелось. Она видела, что следующим за Ильёй галстук повязали Кириллу, а за ним – Никите. Ерохин с гордостью взглянул на тех, у кого на груди остался октябрятский значок, а потом перебросился взглядом с Кирой. Она улыбнулась ему и поправила узел на галстуке. Тут к Маше подошла фигуристая семиклассница, подняла ей воротничок на рубашке и, сняв галстук с руки, повязала его на шею. Когда зазвучал пионерский гимн, все начали подпевать:
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Кира шла из школы с расстегнутым верхом пальто, чтобы все видели пионерский галстук.
Когда она вернулась домой, то взяла газету, вырезала оттуда портрет Ленина, вставила его за стекло серванта, и снова прочитала клятву:
– Я, Кира Уварова, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза
С очень серьёзным видом Кира маршировала перед портретом, распевая пионерские песни. Потом она с большим сожалением развязала галстук, сбросила юбку с рубашкой и стащила колготки. Наконец, пройдя через комнату, открыла шкаф и достала деревянные плечики, на которых висело домашнее платье. Кира стянула его, бросила на кровать и, развесив пионерскую форму на плечиках, убрала их обратно в шкаф. Через минуту она надевала платье и думала в это время, что бы ей почитать. Затем взяла с полки книгу в серовато-синей обложке, где по центру были нарисованы алый парусник в окружении звезд, силуэт пионера с книгой в руке, а в правом углу – белый спутник. Кира сунула книгу под мышку и направилась в кухню.
Наскоро разогрев жаркое, она зачерпнула его из кастрюли и положила в тарелку, потом нарезала хлеб и поставила перед собой книгу. Перелистав страницы, остановилась там, где было написано «Тимур и его команда», и стала читать. В то же самое время Кира, не чувствуя аромата и вкуса, машинально цепляла ломтики мяса и отправляла их в рот. Следом ложкой прихватывала кубики лука, морковь, куски тушеной картошки, кусала хлеб и бессознательно всё пережевывала. Ложка в её руке иногда замирала, и Кира, почти не дыша, нависала над полупустой тарелкой. В который раз она словно бы слышала рычание рыжей собаки, пугливо пятилась от неё, или будто читала записку Тимура, бежала по форме номер один позывной общий, поворачивала штурвальное колесо, ехала с Тимуром на мотоцикле. Кира представляла, что она и есть та отважная девочка Женя. И так же, как Жене, ей очень хотелось уехать с папой далеко-далеко.
Свобода, равенство и братство
После летних каникул Кирилл первым делом шел в библиотеку. Бродить между полок с книгами было его самым любимым занятием, похожим на поиск клада. На нижней полке, там, где обычно стояла приключенческая литература, Кирилл заметил обложку с силуэтами домов средневекового города, сверху над ними – колокол, рука держит штык, над ним развевается флаг и надпись на нём Liberté, Égalité, Fraternité. В этих словах слышалась барабанная дробь и свободная, твердая поступь. Книга та была читанная-перечитанная. Поперек размашисто и свободно начертано её название «Евангелие от Робеспьера» Анатолий Гладилин. Так. Что же дальше. Короткая надпись на развороте «Книга рассказывает о последних пяти годах жизни Робеспьера. Это время Великой французской революции». Тут он вспомнил Гавроша, парижского беспризорника, сражавшегося на баррикадах. Кириллу было лет семь, когда он узнал о том бесшабашном, лихом мальчугане, который рос, точно бесцветная травка, без любви и заботы. Книга так и называлась «Гаврош». Кирилл столько раз её перечитывал, что местами знал почти наизусть. «Зрелище было страшное и прекрасное. Гаврош стоял под выстрелами и дразнил стрелявших. Казалось, он развлекается от души. Это был воробышек, клевавший охотников». Сердце Кирилла тогда замирало от предчувствия смерти, однако он продолжал читать, представляя себя этим самым воробышком. Ему слышалось жужжание пролетающих пуль и звук последнего выстрела. В этот миг Кирилл даже чувствовал, будто кровь тонкой струйкой течет по его лицу.
Он закрыл книгу и, перейдя в самый дальний конец библиотечного зала, туда, где хранилась иностранная литература, отыскал французско-русский словарь. Liberté – Свобода, Égalité – Равенство, Fraternité – Братство. Перевод этих слов так взволновал Кирилла, что он тут же начал читать. И сразу на первой странице попались другие интригующие слова «минуты интимной близости». Взгляд Кирилла застыл на этой строке, и тотчас в его голове мелькнуло некоторое представление о таких вещах. Но ненадолго.
Кирилл, вернувшись домой, не мог оторваться от книги, пока она не закончилась. Он был увлечен неукротимым и гордым характером Робеспьера, восхищался стойкостью и бесстрашием. История его жизни и свободный дух Французской республики захватили Кирилла, и он как бы сам становился её гражданином. Идеалы французской революции так завладели им, что он отыскал Декларацию прав человека и гражданина и выучил её наизусть.
«Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому.
Все граждане равны перед законом и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.
Не делай другим того, что не хотел бы получить сам; делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по отношению к себе».
Драка
В пятницу утром Андрей и Наташа Кляйн пришли в школу чуть ли не первыми. Жили они в бараке, за Некрасовским мостом, и обычно едва успевали к звонку. Школа № 11 стояла на Садовой улице, и дорога к ней от Кирпичного посёлка занимала чуть более получаса. Вот только идти через лес в темноте, без взрослых, было страшно, потому собирались компанией. Встречались в семь двадцать, или самое позднее – полвосьмого. Всегда кто-то опаздывал, однако всех ждали.
Брат и сестра Кляйн снимали в дальнем углу раздевалки серенькие пальто и входили застенчиво в класс. За худенькой высокой Наташей беззвучно ступал маленький щуплый Андрей. Оба со светлой улыбкой тихо садились за парту. Их было не видно, не слышно. Бледные, с бескровными лицами, они будто бы растворялись.
Прямо перед ними сидели Белкин и Кира Уварова.
Белкин покрутил головой, потом развернулся и язвительно посмотрел на Наташу,
– Футы, нуты, ножки гнуты.
Ноги у той и в самом деле были кривыми.
С беспокойным, настороженным взглядом Наташа смотрела на Белкина. Она поправила волнистые светлые волосы. Ещё в первом классе Кире приходилось за неё заступаться. Мальчишки совсем задразнили Наташу, когда ту остригли наголо от того, что у неё нашли вши. Она долгое время приходила в школу в платке и не снимала его.
Белкин затем покрутился и молча уставился на Андрея. Тот, втянув голову в плечи, взглянул исподлобья. В беззащитном выражении глаз мелькнула тревога.
– Ну, чо зыришь, фашист? – угрожающе рявкнул Белкин.
Он вызывающе шлёпнул ладонью по парте, а потом со всего размаха стукнул ещё, но уже кулаком. Наташа с Андреем прижались друг к другу. Неожиданно Белкин махнул рукой и ударил Андрея в ухо.
Кира обернулась:
– Да не бойся ты его. Посмотри, какой он хлюпик.
В её голосе прозвучала насмешка. Белкин не мог вынести такого оскорбления. Он, тряхнув головой, вскочил и тотчас метнулся к Кире, замахал кулаками, изображая боксёра, и ударил её в плечо. И тут она его тоже ударила. Рядом послышался смех. Белкин вновь замахнулся, но в эту секунду Кира навалилась на него и со всей силой прижала к парте. Она ловко так зацепилась за крышку руками, что Белкин не мог даже пошевелиться, и лишь подёргивался с беспомощной злобой. Перед глазами у Киры были его грязные пальцы с обгрызенными ногтями, а кругом раздавались смешки, возбуждённые выкрики, свист и хихиканье.
– Больно же! – злобно метался Белкин.
– А ты замри и не рыпайся! – усмехнулась Кира.
Белкин загнанно дышал, но Кира не отпускала рук.
В эту минуту в класс вошла Людмила Ефимовна, и все тут же притихли.
Лицо у Людмилы Ефимовны вытянулось, затем вспыхнуло, и шея тотчас покрылась красными пятнами:
– Уварова, это что такое?
Напряженная складка прорезалась между её бровями. Сжав плотно губы, она смерила Киру взглядом.
Белкин, беспомощно распластавшись, лежал припёртый, словно мышь в мышеловке. Перекошенное лицо, как и всё тело, были прижаты к парте.
– Отпусти его сейчас же! – раздраженно дернув плечами, потребовала Людмила Ефимовна.
Ничего толком не успев понять, она ещё раз укоризненно посмотрела на Киру.
Людмиле Ефимовне было сорок семь лет. Маленькая, рыхлая, вечно недовольная чем-то, она почти не улыбалась. Глаза у неё были потухшими, сонными, и лишь изредка вспыхивали, как зеленые светляки. Но тут они светились от гнева. Она, потирая левый висок, окинула класс холодным колючим взглядом поверх старомодных очков, и процедила сквозь зубы:
– Прямо зла на вас не хватает.
Воцарилось молчание. Она нервно бросила классный журнал на стол, повесила сумку на спинку стула и снова взглянула на Киру. Странным созданием была эта Уварова. Людмилу Ефимовну давно настораживало её безразличие к замечаниям учителей. Она подозрительно скосила глаза на Киру. За хрупким видом этой девочки, как ни странно, скрывалась сила. Людмила Ефимовна, помолчав немного, добавила назидательным тоном:
– Я всегда говорила, в тихом омуте черти водятся.
У прищуренных глаз разбежались морщинки, и вена на лбу набухла.
Разумеется, кого-то нужно было сделать виноватым, и Людмила Ефимовна выбрала Киру. А Белкин всё также лежал, прижатый к парте, но уже обрадовался, встрепенулся и быстро вошел в роль обиженного. Как только Кира разжала руки, он с оскорбленным видом поднялся, шумно выдохнул воздух и, косо поглядывая, исподтишка погрозил кулаком:
– Ты у меня ещё получишь.
Глаза его сузились и превратились в две зловещие щелки.
– Только попробуй, – насмешливо ответила Кира.
Лицо её было спокойно. Она, смерив Белкина взглядом, расправила платье и разгладила рукава.
Часть 2.Юность
Кирилл и Кира
После восьмого класса многие поступили в техникум, кто-то ушел в ПТУ, и в итоге в одиннадцатой школе набрался лишь один девятый класс. Так неожиданно получилось, что с нового учебного года Кирилл, Ерохин и Кира стали учиться вместе.
Осень та выдалась на редкость хорошей. По утрам город наполнялся полупрозрачным молочным туманом, в котором расплывались очертания крыш и деревьев. Как только сквозь туман и тучи осторожно пробивались солнечные лучи, глухое серое небо не спеша меняло свой цвет, пока не становилось голубым и легким. Свежий прозрачный воздух делался будто хрустальным, и затерянный посреди Уральских гор маленький городок расцветал яркими красками.
Качались бордовые ясени, свисали на ветках алые гроздья рябин, зеленели ивы и сосны, золотились на солнце берёзы и тополя. Листья неспешно кружились, и в воздухе пахло прелой листвой.
Тем утром Кирилл, выйдя из дома чуть раньше, специально пошел обходным путем, через Садовую улицу, в надежде встретить там Киру. Однако лишь увидел её издалека, растерялся. Она, подняв голову к небу, стояла по ту сторону улицы, у светофора. Кира, раскачиваясь с пятки на носок, провожала взглядом стаю пролетающих голубей, и когда загорелся зеленый, перешла на другую сторону и двинулась к школе.
Сердце Кирилла радостно сжалось. Он встал и, не отрывая глаз, немного помедлил, потом спохватился и, махая рукой, бросился ей навстречу.
Увидев Алексина, Кира ему улыбнулась. Он, едва успев поздороваться, тут же проговорил на одном дыхании:
– Давай не пойдем в школу!
Кира молчала растерянно. Их взгляды встретились, и было заметно, что случайная встреча и неожиданное предложение привели её в недоумение. Она, глядя ему в глаза, с безмятежной улыбкой спросила:
– А что мы будем делать?
Несколько секунд, показавшихся ему вечностью, Кирилл пребывал в полном смятении. Он, глупо улыбаясь в ответ, на мгновение задержал дыхание и просто стоял, подбирая слова. И без того нелепая пауза затянулась. Кирилл, смущенно моргая глазами, наконец, выпалил первое, что пришло ему в голову:
– Пойдем ко мне. Послушаем музыку.
Кира, с невинной доверчивостью взглянув на него, тотчас же согласилась. Почему бы и нет? Что в этом такого?
В последнее время Кирилл ходил сам не свой, а тут вдруг стало радостно и светло. Кира была так близко, что в какой-то момент ему хотелось взять её за руку, но он не решился.
Никуда не спеша, они пошли по улице, мимо почты, и за магазином повернули направо. Алексины жили напротив школы, в одном из домов, что после войны построили пленные немцы.
Кирилл, поднимаясь по лестнице, успел рассказать, что это он накануне вымыл в подъезде пол. И, глядя Кире в лицо, пояснил:
– Вчера была наша очередь делать уборку.
Он отступил к стене и добавил:
– Впрочем, дома и пылесосим, и моем полы тоже мы с папой.
И, снова взглянув на Киру, сказал:
– Это потому что мамы высокое давление.
В подъезде было тихо, очень светло от белых высоких стен и как-то по-домашнему пахло.
Кирилл принюхался:
– Похоже, тетя Ася, соседка под нами, печет пироги.
Они поднялись на второй этаж и сразу остановились. У порога выкрашенной бежевой краской двери Кирилл со счастливой улыбкой вынул из кармана ключ, отпер замок и, чуть отступив, пропустил Киру вперед:
– Проходи!
Лишь они вошли, он, ловко согнувшись, открыл боковой ящик трюмо и вынул оттуда золотистые шлепанцы на низких каблучках:
– Кира, держи, это мамины.
– Красивые, – сказала Кира.
– Родители прошлым летом ездили в Гудауту. Мама их там купила, – отозвался он и махнул рукой. – Ну, ты будь, как дома.
Кира сняла шапку и шарф, потом скинула пальто. Кирилл тотчас подхватил его и, отворив кладовку, повесил на вешалку. Потом, улыбаясь, кивнул головой:
– Ты проходи, а я сбегаю в магазин.
Лишь только он вышел, его шаги застучали по лестнице, затем они стихли, и хлопнула дверь внизу.
Кира взглянула в зеркало и улыбнулась: щёки её горели, светлые волосы растрепались от шапки. Она их пригладила и опять улыбнулась.
Кира скинула сапоги и тотчас почувствовала, каким холодным был линолеум на полу. Она надела шлепанцы: они пришлись ей совершенно впору.
Кира огляделась и пошла по длинному светлому коридору. Справа остались две кладовые, налево гостиная.
Квартира была просторная, с высокими потолками. Дальше по коридору, направо, за одной из дверей скрывалась большая ванная комната, за следующей – туалет, а напротив – огромная спальня. Заканчивался коридор внушительного размера кухней.
Кира повернула налево и через спальню вышла в гостиную.
Пройдясь по квартире, она успела как следует осмотреться. В чистых уютных комнатах мебель не заполняла пространство, и может быть от того дышалось свободно.
В гостиной штор не было, только легкая тюль занавешивала балконную дверь и окно. Кира подошла поближе: со второго этажа были видны дровяные сараи. Двор как двор: стояли столбики, натянуты между ними веревки, на которых сушилось белье. Слева – высокие тополя, под ними стол и скамейка, а рядом – песочница. За сараями раскинулся задний двор их школы – заваленный кучами металлолома неухоженный участок земли.
Она окинула взглядом гостиную: посреди пола лежал ковер, на нём стоял полированный стол со стульями, у стены камин-бар, над которым висели часы, по краям с двух сторон размещались зеленые кресла.
За дверью, в левом углу стояло величественное пианино – на фигурных ножках, с бронзовыми педалями. Узорчатая инкрустация и помутневшее красное дерево местами были потерты.
Рядом, в серванте полированной мебельной стенки, виднелись бокалы и рюмки из хрусталя, на стеклянной полке над ними – изящные чайные чашки в виде тюльпанов. Кира прошла чуть дальше и стала разглядывать книги, рядами стоящие за стеклом: двухтомник Сергея Есенина, Достоевский, Чехов, Бальзак…
Она развернулась. Перед балконом стояла раскидистая пальма. На растрепанном буром стволе веером рассыпались узкие листья. Кира, подойдя, потрогала их: листья были жесткими и покрыты серыми волосками.
Она заглянула в дверь следующей комнаты: у самой длинной стены стояли, прижавшись, две широких кровати, накрытые шелковым покрывалом. Слева приткнулся к окну письменный стол со стулом – точно такие же, как у Киры. Они с первого класса росли вместе с ней. Здесь, у Кирилла, не было лишь книжной полки. Она поймала себя на том, что лицо её расплылось в улыбке.
В простенке между двумя дверями стоял полированный шкаф, сверху лежал баян. Один угол в квадратной спальне занимал большой зеркальный трельяж. Кира взглянула на своё отражение и повернулась с легкой усмешкой.
С левой стороны у окна висела балалайка. Кира, пройдя через комнату, приблизилась к ней, потрогала струны – те звонко отозвались. Она снова щипнула их пальцами – они издали радостный звук. Кира прижала струны ладошкой, постояла ещё немного, потом развернулась, вышла через вторую дверь в коридор и повернула налево. Там находилась просторная светлая кухня. У самого входа стоял холодильник, рядом с окном – стол и четыре стула, справа – белый буфет, а возле него – плита. На окне висела тюлевая занавеска.
В квартире царил идеальный порядок. Кира вернулась в гостиную и собиралась было откинуть крышку у пианино, и в эту минуту услышала, как кто-то в подъезде, перескакивая через ступени, взбегает по лестнице. Тут же щелкнул замок, дверь открылась, и раздался радостный голос Кирилла:
– Кира, ты где?
Кирилл держал в руках коробку с тортом, сверху лежали два брикета мороженого. Он быстро прошел на кухню, потом вернулся в гостиную и, подойдя к серванту, открыл стеклянную дверцу, снял с полки искусно расписанные нежной сиренью две чашки с блюдцами, особенные, в виде раскрытых тюльпанов. Кирилл выставил их на стол. На свету белый фарфор просвечивал, а золоченые ободки по краям блестели. Он положил на блюдца по серебряной ложечке и, выдвинув стул, пригласил Киру сесть.
Они пили терпкий душистый чай, ели торт с кремом, слушали музыку и вели разговоры, в которых, разумеется, было мало смысла.
Не отводя глаз от Киры, Кирилл улыбался.
– Ты чем занимаешься в свободное время? – поинтересовался он, положив ей последний кусочек торта.
– А ты правда хочешь знать? – с насмешливым взглядом спросила Кира.
Она кинула взгляд в окно.
– Ну конечно! – ответил Кирилл.
Кира пожала плечами:
– Сплю, или ложусь на диван, смотрю в потолок и решаю проблемы.
– Так, значит, – оживился Кирилл, – у тебя есть проблемы?
– Конечно! Как у всех, – улыбаясь беспечно, ответила Кира.
В глазах у неё заплясали смешинки.
Кирилл озабоченно бросил:
– Проблемы серьезные? Я могу помочь?
Кира не спешила с ответом. Иногда её взгляд казался Кириллу надменным.
– Ну, не знаю… – наконец протянула она, чуть улыбаясь. – Проблемы: как выдрессировать бегемота в домашних условиях; чем я накормлю инопланетянина, если он придет ко мне в гости; в какую комнату побегу искать французско-русский словарь, если соседский кот Мурзик заговорит на французском языке.
И тут Кирилл слегка растерялся, поймав себя на том, что лишь смотрит на Киру и не слушает, о чём она говорит. Было в ней что-то особенное.
Кира смущённо встретила его взгляд. Всё стало каким-то странным.
Потом Кирилл с улыбкой рассказывал, как минувшим летом, на машине, вместе с родителями проехал половину страны, как раз до польской границы. А в Бресте, на польском рынке цыганка нагадала ему, что доживет он до двадцати пяти лет, и смерть настигнет его в то время, когда он будет в машине.
Кирилл поднялся, сходил на кухню и, вернувшись, поставил на стол две хрустальные вазочки, наполненные до краёв мороженным. Сверху его покрывали горсти рубиновых ягод.
Кира заулыбалась, глаза её в этот миг блестели. Она скрестила ноги под стулом, маленькой ложкой подхватила самую крупную вишню и отправила в рот.
– М-м-м, как вкусно, – восхитилась она и взяла следующую.
Холодные ягоды скользили по горлу.
– Давай положу ещё, – предложил Кирилл.
Кира вежливо отказалась.
Они снова смеялись и радовались чему-то. Потом устроились в расставленных у камина креслах.
Кира склонила голову и принялась разглядывать кассеты. Они стояли рядами на верхней панели камина, около магнитофона.
– Да здесь у вас сплошной Высоцкий! – удивилась Кира.
Кирилл гордо взглянул на неё:
– Двести пятьдесят восемь песен.
Он помолчал немного и после добавил:
– У меня папа – его фанат. Ну и я тоже.
– Две-ести пятьдесят во-осемь?! – восхищённо протянула Кира.
И после смущённо сказала:
– А я знаю лишь только одну.
– Какую? – с улыбкой спросил Кирилл.
Кира тихо пропела «Если друг оказался вдруг…»
– Ну понятно. Её-то все знают. Сейчас поставлю что-нибудь поновее.
Он перебрал кассеты и включил ту, что искал.
Щёлкнула клавиша, и зазвучал перебор гитары. Следом за ним Кира услышала густой низкий голос с нервными интонациями.
«Кто кончил жизнь трагически – тот истинный поэт…»
Поначалу этот голос её оглушил. Лишь потом она поразилась тому, что услышала. Высоцкий хрипел с тоской и вибрировал, его злая веселость и дерзкая чувственность накрывала. Он пел, как дышал.
Песни звучали одна за другой. Их хлёсткий упругий ритм выбивался из всего, что Кира слышала прежде. Ироничные и такие правдивые, бунтарские песни, словно яркая вспышка молнии, врывались в её сознание.
Когда кассета закончилась, повисла долгая пауза. Кирилл молча смотрел на Киру. Вдруг, глядя ему в глаза, она тихо проговорила:
– Высоцкий тебя отравил.
Кирилл ещё не успел подумать, что значат её слова, как в ту же секунду Кира продолжила:
– Ты потому никогда не жалуешься, и никогда не оправдываешься.
Кирилл не знал, что ответить. Он, повернувшись к окну, с улыбкой сказал:
– Я прочитал недавно, что в действительности мы никогда ни к чему не прикасаемся. Наши атомы просто-напросто отталкивают атомы других предметов. На девяносто девять процентов атом состоит из пустоты. Не пустое в нем только ядро.
Он понимал, что несёт полнейшую чушь, но Кира поправила прядь и серьёзно ответила:
– Представляю себе эту картину. Все давно заметили, что ты знаешь больше физички, поэтому-то она тебя невзлюбила и ставит тройки. Вот только память и ум не отнять. Ты не просто знаешь, ты понимаешь.
– Это опыт, Кира. А имеющие опыт, как известно, преуспевают больше.
Он смотрел на неё, чуть улыбаясь.
– Да какой у тебя может быть опыт? – удивилась Кира.
– Отец всему научил. Сколько себя помню, где он, там и я. Мы же с ним ручками-ручками всю механику и электродинамику перебрали.
– Потому-то в твоей голове полная ясность. А ты ещё постоянно о чем-то спрашиваешь. Для них же главное – не думай, зубри. И не задавай вопросов.
– Это ты про физичку? Я бы и не задавал, только трёп её мешает мозгам, – усмехнулся Кирилл. – Сразу видно, что знания у неё какие-то отвлеченные.
– Она просто делает свою работу, – сказала Кира.
– Вот именно. А хочется иногда поговорить, так сказать, о сути бытия вещей. Опять же, как только наша физичка начинает трындеть, я не могу сдержаться, – насмешливо сказал Кирилл.
– Кстати! – заметила Кира. – Зато с математичкой у тебя полное взаимоуважение.
Кирилл радостно улыбнулся:
– У нашей математички есть главный признак знатока – способность научить. К тому же, Римма Васильевна – человек.
Кира кивнула в знак согласия, хотя к математике была равнодушна.
Кириллу хотелось произвести впечатление. Он взял гитару, положил на колени, прошелся по струнам и запел:
– Этот город называется Москва. Эта улочка, как ниточка, узка…
Длинные пальцы перебирали струны гитары, а сам он неотрывно и с нежностью смотрел на Киру, которая замерла, глядя на его руки.
Когда он с последним аккордом прижал широкой ладонью гриф, Кира вздохнула свободно. С Кириллом ей было легко и просто, и не нужно было притворяться. Он то говорил без остановки, то пел, и вместе с ним в её жизнь хлынула светлая радость и беспорядок, от которого она почему-то чувствовала себя счастливой. То были минуты согласия душ и неведомых ранее чувств.
Она не заметила, как пролетело время, и когда бросила взгляд на часы, оказалось, что минутная стрелка описала новый круг и приблизилась к четырём. Честно сказать, уходить не хотелось, но после школы по средам у Киры был урок фортепиано.
Кирилл, вопрошая взглядом, чуть улыбнулся:
– Не уходи. Побудь ещё.
– Не могу, – улыбаясь в ответ, ответила Кира. – Мне пора.
Он вспомнил, как вечно спешил, пока ходил в спортивную школу. Кирилл уже в восемь лет получил третий юношеский разряд. В конце седьмого класса, хотя ему не было четырнадцати, после победы на областных соревнованиях стал кандидатом в мастера спорта. К тому времени тело само выполняло отточенные до автоматизма движения. Но потом за лето Кирилл вытянулся. К тому же, занятия в секции надоели. Он потерял всякий интерес к тренировкам и начал сначала прогуливать, а после и вовсе забросил. Всё равно становиться спортсменом не собирался, а просто так занимался в свое удовольствие.
Кира, поправляя волосы, проговорила в смущении:
– Надо ещё зайти домой, за нотами.
Кирилл вздохнул с пониманием и пошёл провожать.
Девятый класс
Учебный год в девятом классе был интересным, но суматошным. Дни оказались заполнены до предела, и двадцати четырех часов в сутках явно не хватало. Голова шла кругом, и Кира вечно торопилась куда-то. Ей хотелось побольше узнать, прочитать, посмотреть. Всего было мало, и всё боялась чего-то не успеть. Киру выбрали в городской совет старшеклассников, и в зимние каникулы она ездила в Москву. Там жил сын художника Николая Аввакумова. Он тоже был художником, и пригласил земляков отца в свою мастерскую, чтобы поделиться документами для музея.
Лишь каникулы кончились, Кира снова выступала с докладами на классных часах, писала рефераты, занималась на факультативах и часами пропадала в библиотеке. У неё в ту пору появилась большая тайна: Кира читала «Декамерон» Боккаччо. О том, что существует такой роман, она узнала случайно, из журнала «Иностранная литература», и после такого открытия решила взять эту книгу в профсоюзной библиотеке. Но оказалось, что она есть только в читальном зале. Кира там часто бывала, и потому, придя в очередной раз, безо всякого смущения попросила эту книгу. Разумеется, в своей невинности Кира плохо представляла, о чем же она. Библиотекарь, кажется, даже не удивилась, хотя знала Киру уже несколько лет. За долгие годы работы она успела привыкнуть к таким читателям, которые поглощают книги одну за другой, и потому спокойно ушла в хранилище и вернулась оттуда с толстым томом в потертой обложке.
Чувствуя, как учащается пульс, Кира читала новеллы. Их рассказывали три дамы и семь кавалеров, а Киру всегда увлекала магия чисел.
В чтении «Декамерона» она бы никогда никому не призналась: за такое, без всяких сомнений, учителя обвинят в распущенности. И понятное дело, Кирилл об этом тоже не знал.
Кира ещё не постигла безумия страсти, даже не мечтала о ней, и, конечно же, не понимала сути, но какие-то образы, более общие представления близости у неё возникали, и они будили в ней странные чувства. Она потому и находила что-то волнительное в этом романе, ибо хоть и бессознательно, но сопоставляла описанное с тем, что уже видела в кино, или читала в книгах.
Когда закончился учебный год, в июле школа организовала для выпускников девятого класса летний лагерь. Хотя Кира в лагере никогда не была, для неё это были две недели непрерывного счастья. К тому же одноклассники из французской группы готовились отмечать день взятия Бастилии. Кира ходила на все репетиции, и все танцы и песни выучились сами собой. Она даже пожалела, что начав изучать иностранный язык, записалась в английскую группу. В то время никто не спрашивал желание учеников, просто Элла Игнатьевна взяла журнал, по списку рассчитала на первый, второй, и таким простым способом поделила класс на группы: английскую и французскую. Кира попала во французскую, и ей это не понравилось. Она сразу же заявила, что хочет учить английский язык, и настояла-таки на переводе.
И поначалу с учителем английского языка им повезло. По распределению после окончания педагогического института в их школу пришла работать Людмила Валерьевна. Выглядела она так, какой и должна была быть истинная англичанка: элегантный костюм на точеной фигурке, изящная брошь на краешке лацкана, изысканные кожаные туфельки на стройных маленьких ножках, стильная прическа и легкий макияж. Тут же в неё все влюбились. Она была строгой, но справедливой, задавала писать диктанты, и потому слова учились сами собой. Вот только их город Людмиле Валерьевне не понравился, и больше всего она хотела вернуться в Свердловск. Спустя три месяца случилось именно так, как она желала. После того, как их класс отдали Нелли Андреевне, также, как она, ученики читали свободно, но говорили по-английски с запинками.