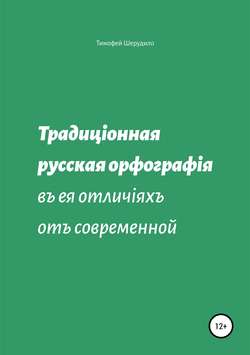Читать книгу Традиционная русская орфография в ее отличиях от современной - Тимофей Артурович Шерудило - Страница 1
Вступительная статья
Оглавление«Изъ всего того, что́ пишется, только наименьшая доля воспроизводится голосомъ для слуха; большею частью чтеніе происходитъ безмолвно. Отсюда ясно, что цѣль письма – не одно воспроизведеніе звуковъ языка, но и удовлетвореніе постигающаго языкъ ума посредствомъ органа зрѣнія. Грамота есть прежде всего орудіе изученія самого языка».
Я. К. Гротъ, «Спорные вопросы русскаго правописанія»
Для орфографической реформы 1918 года насталъ срокъ давности. Это уже не политика, это культура. Ее можно обсуждать спокойно – однако обсужденія почти нѣтъ. Какъ всякая давняя и большая несправедливость, реформа со временемъ приобрѣла видимость законности, если не достоинствъ. «Что взято, то свято». Что о ней можно сейчасъ услышать? Или благополучныя увѣренія въ томъ, что «среди другихъ назрѣвшихъ революціонныхъ преобразованій была и реформа правописанія»; или ссылки на «кривописаніе» (Ив. Ильинъ) и «архангела Михаила» (Бунинъ). Послѣднія, какъ правило, связаны съ опредѣленными политическими убѣжденіями; первыя, впрочемъ, также – просто люди, которымъ въ дѣтствѣ и юности была сдѣлана прививка извѣстнаго міровоззрѣнія, считаютъ его единственно возможнымъ. Довелось слышать и неожиданную похвалу конечному еру за то, что онъ галантно, предупреждая нашъ вопросъ, указываетъ на твердость согласнаго звука…
Поговоримъ о реформѣ по существу.
Разговоры о «технической трудности правописанія» и необходимости упростить жизнь школьниковъ велись въ Россіи давно. Собственно, чисто техническая сторона только и занимала реформаторовъ. О чем-то иномъ, кромѣ техники, вопросъ не ставился. Знаменемъ было «освобожденіе школьника отъ непроизводительнаго труда», ради чего предлагалась «научно обоснованная орфографія», введеніе которой обѣщало всякія блага.
Непріязнь, отчасти заслуженную, вызывалъ конечный -ъ послѣ согласныхъ. Страшнымъ пугаломъ былъ выставленъ ѣ (случаи употребленія котораго было якобы непосильно трудно запомнить ). Изъ какого-то каприза требовали отмѣны і десятеричнаго, «правило употребленія котораго настолько просто, что ради него не стоитъ и копья ломать», примѣрно такъ говоритъ о немъ Я. Гротъ. Требовали отмѣнить ь въ окончаніяхъ: писать рож, плеш, ходиш, даш, реч, вещ; писать подъ удареніемъ: печот, жорнов, лжот… въ общемъ, требовали разрыва съ историческимъ обликомъ и внутренней логикой письменной рѣчи. «Рѣшительнаго разрушенія всей системы русскаго правописанія, во имя, якобы, блага и просвѣщенія народа» (Н. К. Кульманъ).
Постановленія Орфографической подкомиссіи 1912 года были, говорятъ, отправлены Государю Николаю II, и дальше корзины для мусора не пошли. Однако въ 1917 Временное правительство объявило, что «упрощеніе правописанія вновь сдѣлалось предметомъ пожеланій педагогическихъ съѣздовъ, отдѣльныхъ учрежденій и лиц» и потребовало перехода учебныхъ заведеній на новый стиль. Правда, наиболѣе сомнительные пункты были исключены, то есть – какъ это называютъ филологи, воспитанные въ безоговорочной вѣрности реформѣ, – «значительно и безотвѣтственно урѣзаны чиновниками». Выброшено было то самое написаніе рож/мыш, жорнов/лжот.
22 іюня ст. ст. былъ выпущенъ циркуляръ о проведеніи реформы. По сравненію съ пріемами Луначарскаго и Ко, о которыхъ ниже, требованія Мануйлова (министра народнаго просвѣщенія во Временномъ правительствѣ) были скромными:
«Реформа проводится постепенно… При проведеніи реформы необходимо избѣгать насилія надъ желаніями самихъ учащихся… Преподавателю слѣдуетъ относиться терпимо къ правописанію учащихся и, поощряя переходъ всего класса къ новому правописанію, не принуждать къ тому отдѣльныхъ учащихся въ классѣ… въ каждомъ классѣ соотвѣтственно этому могутъ быть двѣ группы: пишущихъ по старому и пищущихъ по новому правописанію…»
Заканчивался циркуляръ любопытнымъ реверансомъ:
«Необходимо всемѣрно выяснять, что настоящее упрощеніе русскаго правописанія отнюдь не стремится ввести произвольное фонетическое письмо, а, напротивъ, новая орфографія является системой научно-обоснованной, которая, сохраняя всѣ прежнія основы нашего правописанія, стремится лишь къ установленію соотвѣтствія между написаніемъ, съ одной стороны, и звуковымъ составом и этимологическимъ строем – съ другой».
Предвидя крайнее сомнѣніе въ отношеніи реформы, Временное правительство звало на помощь пропаганду. Слово «научно-обоснованная», какъ видно, и въ то время обладало магическимъ звучаніемъ и покрывало любые грѣхи противъ здраваго смысла.
Въ октябрѣ 1918 года въ игру вступили большевики. Для нихъ дѣло было чисто политическимъ. Фонетическое правописаніе давало возможность нагляднаго разрыва со старой культурой (въ перспективѣ обѣщая такое благо, какъ недоступность книгъ и документовъ «стараго режима» и эмиграціи для рядового читателя, хотя въ 1918 объ этомъ, скорѣе всего, еще не думали).
На науку большевики уже не ссылались, а «всего лишь» объявляли объ «облегченіи широкимъ массамъ усвоенія русской грамоты» (съ чѣмъ съ чѣмъ, а съ русскимъ синтаксисомъ у составителей декрета было не очень хорошо) и «освобожденіи школы отъ непроизводительнаго труда при изученіи правописанія» (декретъ Совнаркома отъ 10.10.1918). 14 октября послѣдовало Постановленіе Предсѣдателя ВСНХ «Объ изъятіи изъ обращенія общихъ буквъ русскаго языка», требующее прекратить отливку литеръ для запрещенныхъ буквъ, прекратить пріемъ заказовъ на печатаніе по старой орфографіи, изъять изъ наборныхъ кассъ запрещенныя литеры – и карать за «выполненіе каких-либо графическихъ работъ по старой орфографіи» штрафомъ до 10.000 рублей.
О дальнѣйшей борьбѣ за орфографію говорить не буду. Вкратцѣ: русскій пишущій міръ реформу не принялъ. Видимость «пріятія новаго правописанія» была создана средствами внѣлитературнаго принужденія. Заграничная Россія печатала книги и газеты по старому правописанію вплоть до 1960 гг. (чѣмъ дальше, тѣмъ, увы, рѣже), и реформированное правописаніе побѣдило тамъ только въ силу естественной смѣны поколѣній (и цензурнаго давленія западноевропейскихъ властей послѣ 1945 года) – не потому, что кто-то призналъ его достоинства.
* * *
Въ 2017 году позволительно судить объ успѣхѣ или неуспѣхѣ реформы. Сейчасъ можно спокойно признать, что цѣли своей она не достигла. Учащимся не стало легче, двоечниковъ не стало меньше, русскій языкъ остается сложнымъ для малоспособныхъ, лѣнивыхъ или не желающихъ читать, а преподаватели (движущая сила первой реформы) снова требуютъ «освободить школьниковъ отъ непроизводительнаго труда», сократить количество учебныхъ часовъ и ввести написаніе рож и мыш. Ради этого мы пожертвовали цѣнностью прежняго правописанія. Стоило ли?
Мнѣ могутъ возразить, что вопросъ закрытъ, а «реформа – историческій факт». Это странное фактопоклонство. Свобода воли и право искать лучшаго отмѣняется просто потому, что нѣчто дурное уже произошло… Могутъ сослаться на давнюю (столѣтнюю для коренной Россіи и гораздо болѣе короткую для зарубежной) привычку… Но это отговорка лѣниваго ума.
Оба отвѣта не отмѣняютъ вопроса: цѣнность выбраннаго нами способа записи мыслей – убыла, возросла, осталась прежней? Этотъ вопросъ влечетъ другой: обладаетъ ли правописаніе самостоятельной цѣнностью, или его значеніе чисто служебное? Реформаторы вѣрили, что нѣтъ, не обладает; письменный обликъ слова – только безразличная оболочка, совершенно отдѣльная отъ смысла.
Возможна, однако, и другая точка зрѣнія. Правописаніе – не безразличная оболочка, а выразительное средство. Всѣ выразительныя средства языка – пока есть пишущіе, способные ими осознанно пользоваться, – должны сохраняться, вѣдь новыхъ не будетъ