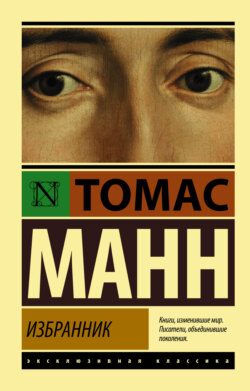Читать книгу Избранник - Томас Манн, Thomas Mann - Страница 1
Кто звонит?
ОглавлениеЗвон, перезвон колоколов supra urbem[1], надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Колокола, колокола! Они с размаху, с разлету взмывают, взвиваются на станинах, на перекладинах в немолчной вавилонской разноголосице. Грузно и часто, гремя и трезвоня – не в лад, невпопад, они говорят все сразу, перебивая друг друга, перебивая самих себя: било ударяет о медь и, не дав умолкнуть разбуженному металлу, бьет, раскачавшись, уже о другой край толстостенного колпака и вторгается в свой же запев, так что не отгремело еще «In te, Domine, speravi»[2], как уже раздается «Beati quorum tecta sunt peccata»[3], а рядом слышатся хрустальные голоса малых звонниц, – будто служка потряхивает сладкозвучным своим колокольчиком.
Наверху звонят и внизу, в семи благодатнейших местах, известных паломникам, а равно и во всех приходских церквах семи епархий на обеих излучинах Тибра. Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над могилой «ходящего в ключах», на Ватиканском холме, со Святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике, в Космедине и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма Пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен – тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозванья? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, – так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного Сретения.
Кто звонит в колокола? О нет, не звонари. Они высыпали на улицу, как и весь римский люд, услыхав столь необыкновенный звон. Взгляните-ка: колокольни пусты, канаты свободно свисают. А все-таки колокола качаются и, гремя, ударяются о стенки била. Неужели мне скажут: никто не звонит? Нет, на это отважится разве лишь человек, ничего не смыслящий ни в логике, ни в грамматике. «Колокола звонят» – это значит: кто-то звонит в них, даром что колокольни пусты. Так кто же звонит в колокола Рима? – Дух повествования. Да неужто же может он быть повсюду, hiс et ubique, к примеру сказать, на башне Св. Георгия в Велабре и где-нибудь у Св. Сабины, сохранившей колонны мерзостного капища Дианы, сиречь в сотне освещенных мест сразу? – Еще как может! Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него различия между «здесь» и «там». Это ведь он говорит: «Все колокола звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духовный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем может идти только в третьем лице и сказать можно единственно: «Это он». И все же он волен сгуститься в лицо, а именно в первое, и воплотиться в ком-то, кто говорит, и говорит от его лица: «Это я. Я – дух повествования, который, нашедши себе пристанище в библиотеке монастыря Санкт-Галлен в Алемании, где некогда сиживал Ноткер Косноязычный, повествует вам в забаву и в преизрядное поучение эту историю; за начало же я беру ее благостный конец и звоню в колокола Рима, то есть сообщаю, что в тот день счастливого Сретения все они зазвонили сами собой».
Дабы, однако, и второе грамматическое лицо не осталось в обиде, задается вопрос: «Кто же ты, называющий себя «я», кто ты, сидящий за налойным стольцом Ноткера и воплотивший в себе дух повествования?» – «Я Клеменс Ирландский, ordinis divi Benedicti![4], гость, по-братски здесь принятый и посланный моим настоятелем Килианом из монастыря Клонмакнуа, ирландской моей обители, дабы поддержать старые связи, что со времен Колумбана и Галла установились между моей родиной и этой надежной твердынею христианства. Великое множество очагов благочестивой учености и пристанищ муз посетил я на своем пути, таких, как Фульда, Рейхенау и Гандерсгейм, Санкт-Эммеран в Регенсбурге, Лорш, Эхтернах и Корвей. Но здесь, где услаждают нам очи псалтыри и евангелия, чудесно расписанные по пурпуру золотом и серебром с добавлением киновари, а также зеленой и синей красок, где братия, под началом отца-регента, поет так благолепно, как мне нигде не случалось слышать доселе, и где силы телесные подкрепляешь отменными трапезами и, кстати сказать, преотрадным винцом, а поевши, с пользою для здоровья, прохаживаешься по монастырскому двору, вкруг водоема, – здесь я решил задержаться на более длительный срок, поселившись в одной из келий, всегда открытых гостям, куда внимательный настоятель, Гоцберт по имени, распорядился поставить для меня ирландский крест, на коем изображены агнец, обвитый змеями, arbor vitae[5], драконья голова с крестом в отверстой пасти, а также Ecclesia[6], сбирающая в потир Христову кровь, тогда как диавол силится отхлебнуть из сего сосуда. Изделие это свидетельствует о раннем процветании художеств у нас в Ирландии.
Всею душой прилепился я к своей родине, богатому бухтами острову Св. Патрика, к его пастбищам, изгородям, болотам. Воздух там влажен, приволен, да и в монастыре нашем, Клонмакнуа, жизнь тоже привольна, то бишь благоприятна для ученых занятий, обузданных умеренным воздержанием. Мы с настоятелем Килианом давно утвердились во взгляде, что Христова вера и любовь к изучению древних должны преодолевать людское невежество согласно и купно, ибо таковое равно презирает и веру и просвещение, а там, где пускает корни первая, непременно расцветет и второе. Ученость нашего братства и в самом деле очень высока, и, как мне сдается, выше даже, чем в среде римского клира. Иные римские монахи не в меру далеки от мудрости древних и подчас пробавляются поистине жалкой латынью – правда, не столь пакостной, как немецкие, – один из коих, кстати сказать, августинец, недавно мне написал: «Habeo tibi aliqua secreta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe propterea temptationibus Diaboli succumbo»[7]. Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду – в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании – монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения Господня почитать более, чем храм Св. Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется связывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине. Но такие соображения – не более чем побочные примечания к истине, истина же заключается в том, что Господь и Спаситель наш, как сказано у Матфея (и кстати только у него одного), поначалу нарек Петра своим наместником на земле, а тот передал викариат епископу Римскому и поставил его главой надо всеми епархиями мира. Ведь в декреталах и протоколах седой старины наличествует даже речь, которую произнес сам апостол при рукоположении первого своего преемника, папы Лина, и это представляется мне подлинным испытанием веры и вызовом духу: пусть-де явит свою силу и покажет, во что только он не способен уверовать.
В своей куда более скромной роли – служить инкарнацией духа повествования – я всемерно пекусь о том, чтобы читатель вместе со мной признал того, кто призван занять sella gestatoria[8], мужем, удостоенным высочайшего и благодатнейшего избрания. Знаком преданности моей Риму является уже и то, что я прозываюсь Клементием. Ведь изначальное имя мое – Моргольд. Но я никогда его не любил, усматривая в нем что-то дикое и языческое, и – вместе с монашескими ризами – облек себя именем третьего преемника Петра, так что в подпоясанной тунике и в наплечье пребывает уже не вульгарный Моргольд, а утонченный Клементий, осуществивший то, что св. Павел в послании «Ad Ephesios»[9] столь удачно назвал «облачением в нового человека». Нет, это уже не бренное тело, шнырявшее по земле в камзоле оного Моргольда! Цингулом препоясано тело духовное – плотское, стало быть, не настолько, чтобы признать вполне правомерным прежнее мое утверждение, будто нечто, а именно дух повести, во мне «воплотилось». Я вовсе не так уж и люблю этот глагол «воплощать», ибо произведен он от «плоти», от бренного тела, которое я снял с себя вместе с именем Моргольд, от тела, которое сполна является вотчиной сатаны и по воле его способно творить такие мерзкие пакости, что даже трудно уразуметь, почему оно к ним тяготеет. Правда, с другой стороны, тело есть то вместилище души и божественного разума, без коего таковые лишились бы всякого крова, а посему оно должно быть признано необходимым злом. На такое признание тело еще смеет притязать, более же восторженного оно в непотребстве своем поистине не заслуживает. Да и станет ли человек, взявшийся рассказать или обновить (ибо ее уже рассказывали неоднократно, хотя и не так, как должно) историю, которая изобилует плотскими мерзостями и ужаснейшими доказательствами готовности плоти ничтоже сумняся предаваться греху, – станет ли он бахвалиться тем, что сам является неким воплощением?
Нет, принявши мой образ и лик, образ инока по прозванию Клементий Ирландский, дух повествования сохранил изрядную долю бестелесной отвлеченности, позволяющей ему звонить одновременно со всех титулярных базилик города, и я сейчас поясню это двумя примерами. Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, – а меж тем это стоило приметить, – что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь Св. Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сижу, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля – Гоцберт – таковою служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» – я на это отвечу кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую примету которой сейчас поведаю.
Ведь вот я пишу, стараясь рассказать вам историю, одновременно ужасную и высоконазидательную. Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки или по-англосаксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудискски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое – язык. Ибо так уж устроено, что дух повествования – это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь Бог есть Дух, и слово превыше всех языков и наречий.
Одно несомненно: пишу я прозу, а не стишки, каковые и вообще не очень-то жалую. В этом отношении я следую за императором Каролусом, который был не только великим законодателем и судьей народов, но также покровителем грамматики и ревностным поборником чистой, правильной прозы. Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четырех ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах – строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:
Жил князь, nomme[10] Гримальд, и жил.
Но вот удар его хватил.
Достались детям дом и власть.
Aht[11], грешили дети всласть!
или в подобном роде – неужто сие строже по форме, чем грамматически добротная проза, в которой я сейчас и поведу рассказ о великой милости Божьей, причем изложение мое будет настолько сильно и ярко, что еще немало потомков: французов, англов и немцев – смогут черпать отсюда и строить на этом свои вирши.
Ну, а теперь от присказки к сказу.
1
Над Римом (лат.).
2
«На тебя, Господи, я уповал» (лат.) – католическая молитва.
3
«Блаженны те, чьи грехи сокрыты» (лат.).
4
Монах ордена Святого Бенедикта (лат.).
5
Древо жизни (лат.).
6
Церковь (греч.).
7
«Имею сообщить тебе некий секрет. Я весьма крепок телом и посему часто подвержен искушениям дьявольским» (вульгарная, синтаксически германизированная латынь).
8
Здесь – папский престол (лат.).
9
«К эфесянам» (лат.).
10
По имени (фр.).
11
Увы, ах (старофр.).