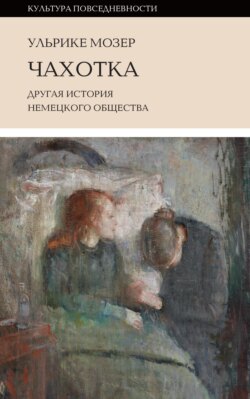Читать книгу Чахотка. Другая история немецкого общества - Ульрике Мозер - Страница 1
Введение
ОглавлениеУ этой болезни много имен. Она известна как чахотка, туберкулез, фтизис, «белая чума», «бледная немочь»[1]. На протяжении многих веков она тяготела над людьми, как проклятие, отнимала силы, принуждала вести с ней бесконечную борьбу, искать способы существовать под ее ярмом – и пытаться постичь ее смысл. Это болезнь со множеством толкований, представлений и метафор. Пораженных этим недугом временами почти обожествляли, позже стали презирать, а в конце концов – даже преследовать.
Вплоть до 50‐х годов XX века чахотка была неизлечима, такой диагноз звучал почти как смертный приговор, и только после Второй мировой войны, с открытием лекарства, болезнь стала понемногу отступать и перестала наводить повсеместный ужас.
Зачем же писать о чахотке, болезни, которую, хотя и не удалось окончательно искоренить, принято воспринимать как недуг ушедших эпох? К чему вообще размышлять о болезни?
Болеть не хочет никто. А между тем болезнь – основополагающий опыт жизни. Человек – существо телесное, уязвимое, несовершенное, «рожденное, чтобы в итоге умереть», как писал в позднем Средневековье врач, мистик и философ Парацельс[2].
Здоровье – это состояние, на которое мы не обращаем внимания и воспринимаем как норму. Гейдельбергский философ Ганс-Георг Гадамер описывал здоровье как «таинственное Нечто, всем нам известное и одновременное неведомое, потому что ведь это такое чудо – быть здоровым»[3].
Мы воспринимаем здоровье и болезнь как противоположности, полярные явления. Болезнь, как обозначает ее Сьюзен Зонтаг, «есть сумеречная сторона жизни»[4]. Это поломка, сбой, авария, нечто нерациональное и требующее исправления. Болезнь оскорбляет человека, ибо он оказывается униженным, отброшенным до самой примитивной невыносимой телесности. Болезнь воспринимается как недостаток, «экзистенциальный дефицит»[5] – и никогда как норма.
Болезнь означает беспомощность и нужду. Она вынуждает к бездействию и обездвиживает, разрушает наше самосознание и зачастую наше существование. Болезнь делает больного зависимым от помощи окружающих, заставляет его чувствовать себя обузой для других.
Пропасть между больным и здоровыми растет и в какой-то момент становится непреодолимой. Мир больного сжимается, скукоживается, вращается теперь только вокруг сиюминутной повседневности, зависит от улучшения или ухудшения его состояния. В глазах близких страждущий – уже какой-то другой, чужой. «Больной покинут здоровым, но и здоровый больным – тоже», – писал больной чахоткой Франц Кафка 6 августа 1920 года Милене Есенской[6],[7]. Ганс Касторп, наивный герой «чахоточного» романа Томаса Манна «Волшебная гора», сам себя называет «потерянным для мира»[8].
Другими словами, болезнь означает отклонение от нормы. Но одновременно она дает право на это отклонение и узаконивает отказ от общепринятого, аутсайдерство и бегство от всего, что считается нормальным[9]. Болезнь создает привилегированное пространство свободы – может быть, единственное, признаваемое обществом. Она предоставляет возможность спасения от повседневных обязанностей и нужд, освобождает от ответственности в семье и профессии, от настойчивых требований общества быть активным, работоспособным и привлекательным. «То был способ удалиться от мира, не возлагая на себя ответственности за такое решение»[10].
По крайней мере, на некоторое время. Потом от больного ожидают скорого выздоровления. Болезнь – это исключительное состояние, которое окружающие готовы терпеть лишь недолго.
Размышления о болезни – способ самопознания, а также проверка для общества. То, как в том или ином обществе обходятся с болезнью и больными, может многое рассказать о его устройстве, о времени, о мировоззрении и системе ценностей, о взглядах на человеческую личность. Болезнь – это не просто биологический процесс или драма конкретного человека, у болезни есть социальное, общественное и историческое значение.
Каждая эпоха отмечена своей болезнью. Австрийский писатель и критик Карл Краус изобрел в 1920 году для этого формулу: «У каждой эпохи та эпидемия, какую эта эпоха заслуживает. У всякого времени своя чума»[11].
Недугами Средневековья были проказа и чума, страшные эпидемии, символ человеческого бессилия. Самый опустошительный чумной мор начался около 1300 года. Из Азии через Ближний Восток по Северной Африке и Европе распространилась «черная смерть» – и стала испытанием похлеще проказы. Между 1346 и 1350 годами чума выкосила миллионов 20 человек, четверть тогдашнего европейского населения. Это было самое опустошительное бедствие в европейской истории[12]. А ведь это была только первая волна. Зараза периодически возвращалась и оставила Европу в покое лишь после 1720 года.
Болезнью позднего Ренессанса и начала Нового времени стал сифилис. В XVI веке он распространился по Европе и, подобно чахотке, носил много имен. Французы звали его «неаполитанской болезнью», прочие европейцы – «французской», поляки – «немецкой», русские – «польской»[13]. На протяжении 400 лет сифилис был эндемическим заболеванием Европы, влияя на повседневность и культуру[14]. Были закрыты общественные бани, традиционные для Средних веков, а парики, испанские воротники, перчатки и косметика должны были скрывать внешние признаки болезни[15].
XIX и XX века стали эпохой чахотки. Она была недугом романтизма и «fin de siècle». В середине XIX века в Германии смертность от чахотки достигла пика: ежегодно из каждых 100 000 человек от нее умирали 270[16]. В Вене четверть всех умерших были жертвами чахотки[17].
На рубеже XIX и XX столетий чахотка была самой распространенной болезнью и причиной смерти. Ежегодно умирали десятки тысяч, а сотни тысяч становились нетрудоспособными. Черной тенью нависала чахотка над целыми семьями, не давала людям ни планировать свою жизнь, ни реализоваться в профессии, ни завести семью. Прежде всего болезнь поражала молодых. Для людей того времени она была постоянной угрозой.
Болезнь никогда не существует просто так, сама по себе: представления о ней развиваются и меняются с течением времени. У каждой исторической эпохи и каждого общества свой медицинский язык, свои понятия о жизни, смерти и страдании. Болезни связаны с культурой, религиозно-духовной жизнью, идеологией и политикой. Болезни отражены в искусстве и литературе.
С точки зрения христианства, телесная немощь преследует человека после изгнания из рая. Болезнь – это стигма, наказание господне, выздоровление же означает прощение грехов. Человек старался искупить вину перед богом и заслужить прощение через покаяние, паломничество, крестный ход, поклонение святым.
Проказа с древних времен считалась господним наказанием за грехи[18]. Прокаженные считались «нечистыми», их изгоняли из общины верующих и изолировали в специальных заведениях, так называемых лепрозориях. Сифилис воспринимался как закономерное последствие сексуальной разнузданности. «Отравленная стрела Амура» или «смертоносный яд Венеры» поражал в первую очередь половые органы – средоточие и источник греха[19]. Вплоть до 1900‐х годов сохранялось представление, что сифилис – это наказание за нарушение норм общественной морали, прелюбодеяние, за преступления против супружеской верности. Сифилис считался болезнью людей аморальных, безнравственных, болезнью унизительной и вульгарной[20].
В эпоху романтизма чахотку переосмыслили и истолковали по-иному, к ней стали относится как к экзистенциальному опыту. Романтики вознесли на пьедестал именно чахотку как признак исключительности и возвышенности личности, судьбу гениев, художников, богемы[21]. Только чахотка могла быть болезнью просветленных и блаженных.
Чахотка не свирепствовала, как другие инфекции, вроде чумы и холеры, не выкашивала с апокалиптической яростью континенты, народы и страны, не изничтожала свои жертвы в считаные дни или часы. Напротив, чахотка протекала медленно, долго, и от момента заражения до первых симптомов могли пройти годы. Это болезнь хроническая, тягучая, зачастую скрытая. Она дает больному время подготовиться к неизбежному концу. Тяжелые приступы сменяются иногда недельными улучшениями с надеждой на исцеление. Исход, однако, предрешен.
Чахотка казалась недугом избирательным, «загадочной болезнью индивидуумов… смертоносной стрелой, которая способна поразить каждого и находит себе жертву одну за другой»[22]. Эта болезнь считалась знаком избранности, особенности, уникальности, своего рода ценой, которую приходилось платить гению за его уникальность и дарование[23].
Мишель Фуко в своем труде «Рождение клиники» писал: «Человек XIX века становится легочным, обретая в этой лихорадке, торопившей вещи и искажавшей их, свой невыразимый секрет. Вот почему грудные болезни принадлежали той же самой природе, что и болезни любви: они были страстью жизни, которой смерть предоставляет свой неизменный лик»[24],[25]. Эта болезнь, казалось, делает жизнь интенсивней, ускоряет ее: лихорадка окрыляет, рождает творческие мысли и силы, облагораживает душу и утончает интеллект. Конец чахоточного больного тих, спокоен, мягок, возвышен и даже прекрасен, в отличие от чудовищных обстоятельств смерти от прочих недугов.
От проказы губы и нос человека утолщались, отчего его лицо приобретало звериные черты[26]. На следующих стадиях болезнь уродовала нос, уши, пальцы, отмирали конечности, плоть больного разъедали гнойные язвы. Проказа вызывала отвращение и ужас. Больного воспринимали как «нечистого», омерзительного и гадкого, он становился изгоем, чужим, едва похожим на человека.
Сифилис начинался с нескольких ранок и высыпаний в области половых органов[27]. В дальнейшем, прогрессируя, болезнь вызывала отвратительные нарывы и язвы, разъедала кости, нос, губы, гениталии и уродовала человека. Тело больного наглядно являло последствия его предполагаемой сексуальной разнузданности, а в худшем случае – не только тело, но и лицо. Прогрессивный паралич – заключительная стадия сифилиса, приводящая к деменции и смерти.
Еще в XIX веке полагали, что больной сифилисом разлагается заживо: живя, он становится воплощением собственной смерти. В 1861 году братья Эдмон и Жюль Гонкуры в своих дневниках подробно описывали, как умирает от сифилиса их коллега, автор романа «Богема. Сцены из парижской жизни» Анри Мюрже: «Мюрже умирает от болезни, при которой плоть разлагается заживо, от старческой гангрены, осложненной карбункулами. Это ужасно, он буквально распадается на куски. На днях ему пытались подстричь бороду, так вместе с бородой у него отвалилась нижняя губа»[28].
Наибольшее осуждение вызывают те болезни, которые не просто убивают, но уродуют тело. «В основе моральных суждений о болезнях часто лежат эстетические воззрения о прекрасном и отвратительном, чистом и нечестивом, родном и чуждом или об ужасном», – пишет Сьюзен Зонтаг[29].
Чума, лепра (проказа) и сифилис с их ярко выраженными внешними признаками клеймили людей, как тавром. Чахотка же, напротив, не заметна для других. «Безболезненный, мимолетный недуг, чистоплотный, без запахов, едва уловимый», – заметил страдавший туберкулезом французский философ и писатель Ролан Барт[30].
Чахоточный больной не менялся внешне, оставаясь самим собой, чахотка только смягчала его черты, делала их тонкими, хрупкими и изящными: бледность, прозрачность, лихорадочный румянец, тени вокруг глаз, худоба – всё это, наоборот, делает больного более привлекательным[31]. Чахоточная красота казалась таинственно родственной смерти. Кроме того, если прочие недуги настигали человека как наказание за грехи, то чахотка воспринималась как незаслуженная беда, поражающая художника или писателя и выделяющая его из толпы[32].
У болезни есть творческая сила, она способна порождать произведения искусства и литературы. Это искусство дает место человеку в его инаковости и отчужденности. Оно фиксирует то, что остается без внимания в медицинской литературе: это страх смерти, беспомощность, оставленность на произвол судьбы. Болезнь – это, конечно, одиночество и опыт отчуждения, но одновременно и общественная проблема.
Ужасы чумных эпидемий запечатлены в искусстве позднего Средневековья, апокалиптических видениях смерти, в образах ада, дьявола, пляски смерти (danse macabre), в образе смерти как жнеца с косой и песочными часами в руках[33]. Позднее – в европейской литературе от Джованни Боккаччо с его «Декамероном» до Даниэля Дефо и его романа «Дневник чумного года», от романа Алессандро Мандзони «Обрученные» с панорамой чумного Милана в 1630 года до «Чумы» Альбера Камю 1947 года. Это литературная традиция, повествующая о человеческом бессилии, безнадежности и хрупкости бытия.
Венерические заболевания, в первую очередь сифилис, стали темой и образом в литературе уже в эпоху модерна: Шарль Бодлер, братья Гонкур, Ги де Мопассан, Жорис Карл Гюисманс и другие с болезненным удовольствием живописали источенные сифилисом тела, изуродованные лица, гнойные раны[34]. Эта болезнь служила ярким свидетельством того, какая пропасть отделяла художника от прозаичной пошлой здоровой банальности обычных буржуа.
Но ни одна болезнь, начиная с эпохи романтизма до современности, не нашла такого отклика и многообразного представления в литературе и культуре, как чахотка, ни один другой недуг не изображался в искусстве так широко и разнообразно.[35]
Так, разнообразные сочинения сложились в целую традицию изображения чахоточных персонажей, в первую очередь, женских. Артур Шницлер в новелле «Умирание» изобразил все стадии болезни обреченного человека и его любви. В романе Теодора Фонтане «Эффи Брист» заглавная героиня умирает от чахотки – как и целый ряд героинь и героев у Льва Толстого и Федора Достоевского. Максим Горький, сам страдавший туберкулезом, в пьесе «На дне» выводит образ умирающей чахоточной Анны. Томас Манн посвятил чахотке целый роман «Волшебная гора» и более раннюю новеллу «Тристан», в обоих произведениях действие происходит в альпийском легочном санатории. Чахотка – самая литературная болезнь XIX века, в том числе и потому, что многие литераторы, от Новалиса до Кафки и Клабунда[36], страдали от чахотки.
Художники Эдвард Мунк и Оскар Кокошка изобразили лицо этой болезни. Одновременно состоялся «выход» чахотки и на оперную сцену, где возвышенно и утонченно в последних нотах испускали дух чахоточные женщины. За 40 лет, между 1853 и 1896 годами, были написаны три оперы, в которых смертельный недуг появлялся на сцене. Джузеппе Верди первым вывел на сцену в своей «Травиате» («сбившаяся с пути») смерть от чахотки (или вообще смерть от специфической болезни)[37]. Умирающая куртизанка Виолетта стала воплощением романтической болезни, благородного возвышенного недуга. Зная о скорой своей смерти, она, жертвуя собой, отказывается от своей любви и отпускает возлюбленного. В 1881 и 1895 годах были написаны еще две «чахоточные» оперы – «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха и «Богема» Джакомо Пуччини.
Во всех этих произведениях о чахотке не просто говорят: болезнь определяет действие и сюжет[38]. Их главные героини, медленно и прекрасно погибающие юные и хрупкие девушки, делают эти оперы такими волнующими.
Чахотку изображали живописцы, перекладывали на музыку композиторы, описывали литераторы, осмысляли ученые и философы, иногда переживая опыт этого заболевания лично, иногда наблюдая за другими, обывателями и интеллектуалами.
Ну а так называемые простые люди редко оставляли свидетельства о своем недуге. Крестьяне или берлинские рабочие умирали в своих лачугах или на городских задворках без того, чтобы зафиксировать свой опыт болезни и оставить о нем свидетельство. Низшие сословия долгое время были не субъектом истории, а ее объектом. Объектом сожаления, сочувствия, жалости, чаще – презрения. Их чахотка была другой, не возвышенной и не утонченной, но низменной и настолько массовой, что разрушала образ романтической болезни избранных, одиночек, романтиков и гениев.
Чахотка – болезнь «особая» не только потому, что ее вознесли на пьедестал романтики. С XVIII века представления о чахотке постоянно менялись, иногда накладываясь друг на друга[39]: «романтическая болезнь» в XVIII веке и до середины XIX века, «пролетарская болезнь» с конца XIX до первой трети XX века и «асоциальная болезнь» при национал-социализме. Пожалуй, ни один другой недуг не пережил столько драматических перемен в своем толковании.
Поначалу чахотка была частью романтического мифа об избранной исключительной личности, болезнью, подчеркивающей индивидуальность, духовно окрыляющей, возвышающей, недугом художников. Превращению чахотки из романтического мифа в полностью противоположный образ массовой болезни нищего пролетариата способствовала тотальная европейская индустриализация в последней трети XIX века. Туберкулез стал самой частой причиной инвалидности и нетрудоспособности среди некогда здоровых трудоспособных людей. Эстетизация чахотки кончилась, теперь речь шла о болезни нищеты и грязи, о пошлой пролетарской бацилле. Некоторое время две противоположные концепции чахотки еще сосуществовали.
Как болезнь рабочих, низших слоев общества и нищеты, чахотка стала символом невыносимых условий труда, скудного питания и трущобных условий проживания. Она считалась теперь «болезнью грязи», социально маркированной, следствием маргинального и деклассированного образа жизни и поведения, нужды и убожества по собственной вине, в конце концов – признаком вырождения, дегенерации.
Отсюда оставался один шаг до «асоциальной болезни», каковой чахотку объявили национал-социалисты. Больных туберкулезом принудительно изолировали в специальных лечебницах-тюрьмах, где их и не думали лечить, а, наоборот, старались скорее уморить, в клиниках и концентрационных лагерях на них ставили медицинские опыты, туберкулезные больные становились первыми жертвами эвтаназии.
Чахотка вызывала ужас, но и служила вдохновением для искусства. Она существенно повлияла на ясные и простые формы архитектуры модернизма – для туберкулезных больных были созданы особые лечебницы: архитекторы легочных санаториев, как и идеологи движения Neues Bauen[40], проектировали здания, которые способствовали бы здоровью людей. В большой степени туберкулез повлиял и на развитие законодательства в области здравоохранения.
Эта книга намеренно сосредотачивается на периоде с начала романтизма до окончания национал-социализма, представляет два противоположных отношения к болезни и больным – от их идеализации до уничтожения. Объединяет эти два крайних отношения неизвестность, тайна: лекарства от туберкулеза не было. А ведь если бы чахотку умели лечить, в эпоху романтизма она не была бы так возвышенно-загадочна, так романтична, потому что исчезла бы тайна. Будь туберкулез излечим, и врачи Третьего рейха не осмелились бы на свои бесчеловечные опыты. Лишь после Второй мировой войны, когда нашли лекарство, туберкулез и чахотка превратились в банальную инфекцию.
Эта книга рассказывает об истории чахотки как об истории в первую очередь немецкого общества, но одновременно с этим автор бросает взгляд и на историю других европейских стран, прежде всего на судьбы и творчество художников и литераторов, которые создали определенные представления, образы и метафоры болезни.
Историк Дирк Блазиус назвал туберкулез «сигнальной болезнью», «культурным, общественным и политическим феноменом, обозначающим взлеты и падения, пути и перепутья Германии»[41].
Такой путь общественного восприятия чахотки от вершины до пропасти прослеживается в этой книге: вниз с романтического пьедестала, через культуру, искусство, музыку, последний иронический отголосок у Томаса Манна. И еще ниже: в разряд болезней нищеты и в самую бездну, вплоть до бесчеловечной нацистской идеологии. Это спуск с «волшебной горы» Томаса Манна в концентрационный лагерь. История чахотки – это история обесценивания.
1
Туберкулез, чахотка и измождение используются в этом тексте для обозначения легочной формы туберкулеза. Название туберкулез придумал медик Иоганн Лукас Шёнляйн (Johann Lukas Schönlein). Он назвал похожие на узелки патологические изменения в легких туберкулами (уменьшительная форма от лат. tuber – шишка, клубень, опухоль, вспухание, вздутие) и в 1834 году образовал таким образом слово туберкулез. Причину болезни ему тогда установить не удалось. В современной профессиональной литературе и в литературных текстах конца XIX века все названия болезни используются одинаково. Когда в 1882 году Роберт Кох обнаружил возбудителя болезни, новый термин туберкулез постепенно стал заменять старый чахотка. Такие традиционные обозначения, как фтизис, чахотка и истощение, использовались еще некоторое время и дальше. Сам Роберт Кох время от времени употреблял слово чахотка. Термин фтизис употреблялся наряду с туберкулезом до 1938 года. См. об этом: Dietrich-Daum E. Die «Wiener Krankheit». Eine Sozialgeschichte der Tuberkulose in Österreich. Wien; München, 2007. S. 31, 39.
2
Цит. по: Schipperges H. Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. Berlin; Heidelberg, 1999. S. 166.
3
Цит. по: Ibid. S. 22.
4
Sontag S. Krankheit als Metapher. Frankfurt/M., 2012. S. 9.
5
Цит. по: Schipperges H. Krankheit und Kranksein im Spiegel der Geschichte. S. 7.
6
Цит. по: Engelhardt D. von. Tuberkulose und Kultur um 1900. Arzt, Patient und Sanatorium in Thomas Manns «Zauberberg» aus medizinhistorischer Sicht // Auf dem Weg zum «Zauberberg». Die Davoser Literaturtage 1996. Frankfurt/M., 1997. S. 323–345, зд. S. 329. Перевод цит. по: Кафка Ф. Письма к Милене / Пер. с нем. А. Карельского, Н. Федоровой. СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 68.
7
Здесь и далее письма Кафки цитируются в переводе А. Карельского и Н. Фёдоровой. – Примеч. пер.
8
Цит. по: Mann T. Der Zauberberg. In der Fassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe. Frankfurt/M., 2015. S. 899.
9
См об этом: Pohland V. Das Sanatorium als literarischer Ort. Medizinische Institution und Krankheit als Medien der Gesellschaftskritik und Existenzanalyse. Frankfurt/M., 1984. S. 26.
10
Susan Sontag, Krankheit als Metapher. S. 32. Здесь цит. по: Сонтаг С. Болезнь как метафора / Пер. с англ. М. Дадяна, А. Соколинской. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 14.
11
Цит. по: Leven K.-H. Die Geschichte der Infektionskrankheiten. Von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Landsberg/Lech, 1997. S. 141.
12
См.: Porter R. Geschröpft und zur Ader gelassen. Eine kurze Kulturgeschichte der Medizin. Zürich, 2002. S. 27.
13
См.: Leven K.-H. Die Geschichte der Infektionskrankheiten. S. 59.
14
При эндемии (эндемия – постоянное наличие какого-либо заболевания в ограниченной географической местности) болезнь всегда латентно присутствует у населения и поражает отдельных людей, эпидемия же, напротив, развивается взрывообразно и поражает сразу большие группы населения.
15
Ср.: Leven K.-H. Geschichte der Medizin. Von der Antike bis zur Gegenwart. München, 2008. S. 43.
16
См.: Schader B. Schwindsucht – Zur Darstellung einer tödlichen Krankheit in der deutschen Literatur vom poetischen Realismus bis zur Moderne. Bern; Frankfurt/M., 1987. S. 2.
17
См.: Lenger F. Metropolen der Moderne. Eine europäische Stadtgeschichte seit 1850. München, 2013. S. 56.
18
См.: Ruffie J., Sournia J.-Ch. Die Seuchen in der Geschichte der Menschheit. München, 1992. S. 91.
19
Ibid. S. 186.
20
Ср.: Schonlau A. Syphilis in der Literatur. Über Ästhetik, Moral, Genie und Medizin (1880–2000). Würzburg, 2005. S. 13.
21
См.: Hähner-Rombach S. Künstlerlos und Armenschicksal. Von den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Tuberkulose // Das große Sterben. Seuchen machen Geschichte. Berlin, 1995. S. 278–297, зд. S. 278.
22
Sontag S. Krankheit als Metapher. S. 35.
23
Landsteiner G., Neurath W. Krankheit als Auszeichnung eines geheimen Lebens. Krankheitskonstruktion und Sexualität anhand der Lungentuberkulose um 1900 // Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ÖZG). 5. Jahrgang, 1994. S. 358–387, зд. S. 382f.
24
Foucault M. Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Frankfurt/M., 2011. S. 185.
25
Перевод А. Тхостова. – Примеч. пер.
26
См.: Ruffie J., Sournia J.-Ch. Op. cit. S. 90.
27
См.: Porter R. Die Kunst des Heilens. S. 167.
28
Цит. по: Herzlich C., Pierret J. Kranke gestern, Kranke heute. Die Gesellschaft und das Leiden. München, 1991. S. 102.
29
Sontag S. Aids und seine Metaphern. Frankfurt/M., 2012. S. 107.
30
Цит. по: Pohland V. Op. cit. S. 59.
31
См. об этом: Landsteiner G., Neurath W. Op. cit. S. 386.
32
См.: Schader B. Op. cit. S. 5.
33
См.: Porter R. Die Kunst des Heilens. S. 125.
34
Ср.: Herzlich C., Pierret J. Op. cit. S. 187.
35
См.: Schader B. Op. cit. S. 4.
36
Клабунд (настоящее имя Альфред Хершке, 1890–1928) – немецкий поэт, драматург и прозаик, представитель экспрессионизма. Умер от туберкулеза. Подробнее о Клабунде см. наст. изд., c. 165–174. – Примеч. ред.
37
См.: Dietl N. Die Schwindsucht auf der Opernbühne. Verdi, Puccini und Offenbach als musikalische Bearbeiter einer stilisierten Krankheit im 19. Jahrhundert. Saarbrücken, 2008. S. 49.
38
Ср.: Winkle S. Geißeln der Menschheit. Kulturgeschichte der Seuchen. Düsseldorf, 2005. S. 136.
39
При подразделении на различные фазы и их обозначении автор следует книге: Hähner-Rombach S. Sozialgeschichte der Tuberkulose. Vom Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs unter besonderer Berücksichtigung Württembergs. Stuttgart, 2000. S. 30.
40
Neues Bauen («Новое строительство») – направление в архитектуре модернизма, декларирующее примат функциональности над декоративностью, приверженность новым строительным технологиям и материалам. Расцвет направления пришелся на 1920–30‐е годы. – Примеч. ред.
41
Blasius D. Tuberkulose: Signalkrankheit deutscher Geschichte // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1996. Bd. 47. S. 320–332, зд. S. 320.