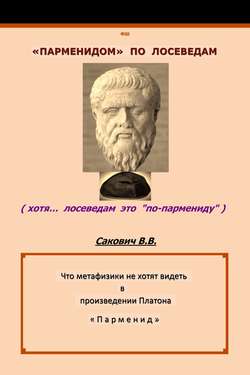Читать книгу «Парменидом» по лосеведам - Вадим Владимирович Сакович - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеВ.В.Сакович
«Парменидом» по лосеведам
(хотя… лосеведам это "по-пармениду")
Введение
1 Конец – делу венец
2 Начальная ремарка – комом (в горле)
3 Зачем Платону лже-Аристотель?
4 О проблеме формы и содержания
5 Цель написания произведения
6 «А был ли мальчик?»
7 Подайте идею… на пропитание
8 Неоплатоники и перипатетики
Приложения
Парадокс лжеца
Парадокс брадобрея
Разрешить или запретить парадокс Рассела?
Введение
Сочинение Платона «Парменид» уже около двух тысяч лет привлекает внимание философов, теологов, литературоведов, историков и лингвистов. Несмотря на некоторые различия в толковании отдельных фрагментов, основная идея произведения каких-либо разногласий не вызывает. Главная его идея – это… идея. Вернее – идеи, а ещё точнее – учение об идеях: и об идее вообще, и о некоторых конкретных идеях, в частности. Среди последних принято выделять особо идейные идеи, например, идея целого и частей (единого и многого), идея существования идеи, идея принадлежности чего-то к идее, а также наоборот – принадлежности идеи к чему-либо и т.д.
Все, комментаторы творчества Платона, конечно же, согласились бы с тем, что создание учения об идеях было той главной ЦЕЛЬЮ, которую ставил перед собой автор «Парменида».
Понятно, что философское сообщество посчитало бы неадекватным любого, кто утверждал бы нечто противоположное, а именно, что:
– создание учения об идеях вовсе не было целью написания Платоном этого сочинения;
– это произведение вообще не является каким-либо учением о чём-либо, в том числе и учением об идеях;
– исследователи, сосредоточившись на теме идей в «Пармениде» на самом деле снизили значимость этого сочинения, не желая того.
З_а_м_е_ч_а_н_и_е_: всё дальнейшее изложение выстроено именно для доказательства правомерности этих "неадекватных" утверждений.
[ Посещая данный “зоопарк”, читателям не рекомендуется скармливать здешним неадекватам (в клетках) те мысли, которые они заполучили от Платона непосредственно. Тутошние неадекваты питаются лишь текстами (а не мыслями) Платона. ]
Несмотря на очевидность наличия темы об идеях в данном платоновском сочинении, "безыдейное" его прочтение позволит, как это будет показано дальше, увидеть, что эта тема выбрана автором лишь в качестве наглядного примера – фона.
Знаменитый мыслитель мог бы взять из своих "запасников" другую тему в качестве такого фона, и ценность работы ничуть от этого не пострадала бы. Проблема же подкралась совсем с неожиданной стороны. Изображая с такой тщательностью дискуссии об идеях, Платон не мог себе вообразить, что именно отточенность описания сыграет такую злую шутку с будущими метафизиками – комментаторами «Парменида». Оказалось, что старательность выписанных "идейных" аспектов загипнотизируют метафизиков настолько, что они этот задний (фоновый) план изображения примут в качестве основного.
Поскольку философская среда только метафизикам предоставляет привилегию впадать в гипноз, надо сразу предупредить о следующем. Весь дальнейший анализ не покушается ни на эту привилегию, ни на заимствование иных традиционных "метафизических ценностей".
Впрочем, несмотря на такое обещание, читатель всё равно, как всегда, должен тщательно "следить за руками!" автора.
[ Здесь и далее, говоря о платоноведах, подразумеваются в первую очередь те комментаторы платоновских произведений, метафизические взгляды которых в большей или меньшей степени приближаются к теологическим. Именно их глазами читатель как бы вынужден прочитывать Платона.
Типичным платоноведом в этом плане можно считать, например, переводчика Платона на английский язык, богослова и филолога Бенджамина Джоуитта (1817-1893), обширные комментарии которого предваряют текст его перевода «Парменида».
Один из переводчиков Платона на русский – проф. Духовной Академии, философ В.Н.Карпов (1798-1867) – тоже типичный платоновед. Объём его комментарий «Парменида» (введение + сноски) более чем в два раза превосходит объём самого произведения.
К этому же лагерю принадлежит видный исследователь древнегреческой культуры, проф. А.Ф.Лосев (1893-1988) и его окружение. Поэтому выражение "лосеведы" будет здесь использоваться, чтобы подчеркнуть современное состояние платоноведения. Комментарии Лосева к переводу «Парменида» на русский (Н.Н.Томасовым) не столь обширны, но они сопровождают все последние издания Платона в России.
Первоначалом же "воистину истинно идейного" исследования данного сочинения следует, конечно, считать знаменитого философа Д.Прокла (412-485 гг н.э.), который не просто завершил начатое Плотиным (204 -270 гг н.э.) возведение Платона в ранг религиозного культа, но также использовал его в качестве противовеса наступающему христианству. Впрочем, ему это было "положено по штату", так как он долгое время возглавлял Платоновскую Академию, которая к тому времени существовала уже около восьмисот лет. ]
1
Конец – делу венец
Замахнувшись так легкомысленно на святая святых академической школы платонизма, логично было бы и само исследование текста «Парменид» начать на такой же легкомысленной ноте. Начать – с конца.
Самая объёмная заключительная часть произведения представляет собой дискуссию между Парменидом и Аристотелем (75% всего текста). Важно заметить, что и Аристотель как участник диалога не совсем тот, чей надо Аристотель, и саму дискуссию можно назвать лишь якобы дискуссией. На это нам явно указывает сам автор устами Парменида, который просит общественность выдать ему такого непритязательного оппонента, чтобы «…его ответы были бы для меня передышкой». Так и получилось. Этот якобы Аристотель, отлично исполнил в якобы дискуссии, роль якобы оппонента. Он полностью удовлетворил якобы заниженные требования Парменида. А вот зачем автору, т.е. Платону, понадобился оппонент, который… не оппонирует – об этом узнаем позже.
Но уже сейчас не мешает вспомнить о сплочённой команде платоноведов разных стран и эпох. Они ведь считают главной темой произведения – учение об идеях. И тут получается, что их автор (великий Платон) предваряет дискуссию по якобы главному предмету своего учения вот таким именно высказыванием своего героя: мне бы для дискуссии на эту важнейшую тему кого-нибудь попроще.
Неужели такие нюансы в тексте Платона позднейшие почитатели философа считали случайными ляпами? Ну, мол, немного болтливым оказался наш старик Платон – простим ему это с высоты полёта НАШЕЙ (подчеркнём!) философской мысли. Однако тут в президиум поступило предложение отложить на некоторое время прощение Платону допущенных им нелепостей. Возможно, что и прощать-то будет нечего!
Итак, о чём же говорит нам главный персонаж, – Парменид, – формируя из промежуточных выводов, окончательные итоги этой якобы дискуссии? Конспективно они звучат так:
Следовательно, его [единое] нельзя себе мыслить… ни как подобное, ни как неподобное… ни как тождественное, ни как различное, ни как соприкасающееся, ни как обособленное, ни… как имеющее другие признаки, которые… и т.д. Оно [иное] обнаруживает, что… ничем таким иное не может ни быть, ни казаться, если единое не существует,.. то ничего не существует… и существует ли единое или не существует, и оно и иное… по отношению к самим себе и друг к другу безусловно суть и не суть, кажутся и не кажутся.
Представленные Платоном выводы выглядят полным абсурдом – противоречиями высшей пробы. Нам предстоит убедиться, что это Абсурд с большой буквы, гениально сконструированный абсурд. Причём, это не шутка. Скорее шуткой можно считать вразумительность пояснений всего этого нашими выдающимися платоноведами и "лосеведами".
Методы прочтения мыслей Платона (не столько через текст, сколько "напрямую") – типичны для метафизиков. Разбирая эти платоновские "навороты", ими обнаруживался некий "тайный ход карт" с такими замысловатыми разъяснениями, которые (для непредвзятого читателя) могут показаться выбиванием клина клином: абсурд – абсурдом. По-видимому, они вполне искренне пытались обосновать полученные Платоном итоговые выводы при помощи несравненно более глубокомысленных соображений, чем те, на которые мог бы отважиться их кумир.
Как будет показано далее, Платон конструировал противоречия сознательно, в отличие от спонтанного их возвеличивания комментаторами-платоноведами и большинством неоплатоников. В этом нам ещё предстоит убедиться, но пока небольшое бытовое отступление.
Представим себе на минутку, что его – Платона – хотя бы бегло, но изучают, так сказать, в семье и школе (ну, например, вместо Гарри Поттера). Допустим, приходит ученик 9-го класса из школы домой и приносит вышеприведённый набросок основных выводов из произведения "Парменид", чтобы на этих мыслях "учиться, учиться, и ещё раз – учиться"…
Вырвав из тетради лист с записью этих выводов, он подходит с этим к отцу, чтобы тот подсказал хотя бы направление мысли по проблеме "что делать?" с этим отрывком от самого Платона, и "с чего начать?" постижение древнегреческой истины.
Ситуация, думается, будет выглядеть в зависимости от национальных особенностей семьи примерно так:
– русский папа отправился бы немедленно в магазин за бутылкой, причём мать, ознакомившись с содержанием вырванной страницы, разумеется, не посмела бы преградить мужу дорогу;
– американский папа воспользовался бы случаем напомнить сыну о незыблемой свободе слова в стране: и ты, сынок, можешь такое говорить, даже возле Конгресса;
– еврейский папа дал бы ребёнку несколько шекелей, чтобы тот ни в чём себе не отказывал, и заодно поинтересовался бы: может учительнице нужно кого устроить;
– украинский батько сказал бы что-нибудь про эту москальську мову, и воскликнул бы: "А поворотись-ка, сын!.. И эдак все в вашей академии ходят с такими вот бумагами?";
– китайский папа подошёл бы с сыном к окну, и, устремивши задумчивый взгляд на уходящую за горизонт дорогу, рассказал бы что-нибудь из вечного Дао;
– англичанин указал бы ребёнку на тот факт, что когда-то, мол, и мы были сильной нацией, владычицей морей, а сейчас не в состоянии освоить древний, тысячи раз объяснённый текст…
– и т.д.
Правда, такая вот бытовуха не включает в себя одну важную деталь. Впрочем, с деталью было бы, кажется, ещё хуже. Дело в том, что пока мы рассмотрели лишь итоги представленной Платоном дискуссии – выводы. Но ведь каждый из этих выводов сопровождался доказательством – рассуждениями! И не просто рассуждениями, а вполне здравомыслящими, аргументированными рассуждениями.
Ведь, если от чтения всего лишь выводов, папа ученика может побежать в магазин за водкой, тогда что же ему делать, если он прочтёт вполне логичные доказательства этому… абсурду?! Тут уж прямая дорога в сумасшедший дом. Причём, особых преувеличений здесь не так уж и много. О вариантах с "сумасшедшим домом" будет ещё сказано.
Интересно снова заметить, что наши платоноведы-идеялюбы и не пытались встать на место учеников 9-го класса – "мальчишек и девчонок, а также их родителей", учителей и другой уважаемой читательской публики.
Уж, какой век "академики" копаются в отдельных нюансах произведения, выковыривая из текста разные идейные детали, группируя их для обоснования… с_о_б_с_т_в_е_н_н_ы_х (ещё раз подчеркнём) философских измышлений. Конечно, многие фрагменты произведения им не подходят, и тогда – ату эти фрагменты, будем считать их второстепенными, в которых Платону позволялось и глупость сморозить.
Кажется, настал черёд расследовать всё это систематически. Не забудем только, что в дальнейшем надо будет ответить на один образовавшийся ключевой вопрос, а именно: зачем Платон столь явно и красиво, со всеми нюансами, конструировал противоречия и даже оформил их отдельным блоком в качестве окончательных выводов?
2
Начальная ремарка – комом (в горле)
Теперь подступимся к проблеме с другой стороны – не с конца, а с начала. Возможно, это покажется кому-то смешным, но сначала давайте под началом произведения понимать его супер начало – самое что ни на есть начало, такое начальное начало, что дальше уже некуда!
Вчитаемся в первую же строку-ремарку после заглавия:
« Кефал (рассказывает) »
Дальше, как говорится, не надо. Пока не надо. На этом "фрагменте" текста необходимо задержаться подольше. Сейчас будет ясно почему.
Для этого вспомним некоторые биографические данные. В первую очередь следует поинтересоваться, когда же произошли указанные в произведении события, то есть сам разговор между Парменидом, Зеноном и Сократом?
Платон и тут вполне точен в деталях. Вот что он пишет:
«Парменид был уже очень стар, совершенно сед, но красив и представителен; лет ему было примерно за шестьдесят пять. Зенону же тогда было около сорока…»
По дате рождения Зенона, довольно легко догадаться, что это был примерно 450-й год до н.э. Сократу, следовательно, было около 20 лет, Платону ещё предстояло через два десятилетия родиться. Написал же он это произведение, когда ему было, примерно,.. 65 лет.
Ох, и неспроста автор указывает на очередную "незначительную" деталь о том, что человек этого возраста «уже очень стар». Об этом ещё успеем поговорить, но пока очень важно отметить следующее.
Сократ – друг и учитель Платона, непосредственный участник беседы с Парменидом. Именно от его лица Платон мог бы рассказать о тех событиях 85-летней давности. Ведь именно так он и делал во всех своих работах – излагал философию своего учителя путём описания его диалогов с другими людьми. А тут почему-то… И это несмотря на то, что со слов платоновского персонажа – вышеупомянутого Кефала – само событие встречи местные любители философии запомнили надолго, оно совсем не было рядовым. Как же так? Получается, что Сократ как бы СКРЫЛ(!) от Платона факт этой встречи, и только некий подвернувшийся Кефал пролил свет на "тайную вечерю".
Итак, первой же короткой фразой Платон сообщает читателю, что всё произведение это рассказ некоего… Кефала. Ну, конечно же, это очередной ляп – непродуманность сочинения шестидесяти пятилетнего мыслителя! Не стоит на такую ерунду обращать внимание!
Однако дальше Платон почему-то усугубляет заданный начальной ремаркой темп развития небрежностей в тексте. Не жалея пергамента, он для чего-то описывает вроде бы совершенно "никчемушные" подробности. В частности, в первых же строках Платон как бы предупреждает читателя о несущественности того, что рассказ ведётся от неизвестного нам Кефала. Ведь оказывается и сам Кефал услышал его от не более известного нам Антифонта. Более того, в свою очередь и Антифонт заучил эту повесть со слов другого афинского гражданина – заведующего тамошним философским клубом – Пифодора.
Возникает вопрос – как долго платоноведы собираются стоять "в третьей позиции", не предпринимая даже попыток объяснить ПРИЧИНЫ (подчеркнём) столь странных особенностей текста? Неужели они и вправду считают, что эти нюансы получились у Платона в связи со старческой невнимательностью (или и того хуже – невменяемостью)? Ведь наивность поставленного вопроса поразительна! Мы позволили себе усомниться в том, что Платон – ученик Сократа и учитель Аристотеля – философ, почитаемый во всём мире, не мог пресечь в себе излишнюю болтливость.
Если болтливость Платона не принимать по умолчанию, то пора высказать как минимум такое допущение: начиная произведение с ремарки «Кефал рассказывает», автор чуть ли не прямо говорит, что смысл произведения мало будет зависеть от точности передаваемых диалогов между персонажами произведения, а ищи, мол, в чём-то другом.
Воспримем это так, как дрессированная собака воспринимает команду «Искать!». Такое сравнение не следует считать обидным и, кроме того, приказ командира-Платона – это ведь закон для подчинённого-читателя. Спешить, впрочем, тоже не надо. Искать следует не торопясь, хорошо подумав предварительно. Но и не следует забывать, что со времён Платона прошло вполне достаточно времени, чтобы считать подготовительный период законченным. Может быть, уже настала пора пошевелиться?
Кстати, здесь опять не до шуток, ибо и в этих сарказмах лишь доля сарказма – намного меньшая, чем это может показаться на первый взгляд. Впрочем, у Платона об этом говорится без всякой иронии – надо только внимательно читать. Ведь Сократ совсем не был в обиде на Зенона, когда тот сравнил его с «лаконскими щенками», которых греки из провинции Лакония разводили как раз для сыскных дел. Так что, если сам Сократ не обижался, то чего уж нам-то… Сказано «искать!» – значит надо искать! Зачем Платону понадобился Кефал как рассказчик – об этом ещё будет сказано, но пока…
…Самое время привести ещё один отрывок из начала произведения, которому не уделяется должного внимания. А зря! Это серьёзная наводка для понимания сути всего сочинения.
Итак, Зенон, вспоминая одно своё давнее сочинение, которое он только что устно изложил присутствующим, делает замечание Сократу, который успел вставить свои "пять копеек" комментируя изложенное. Вот что Зенон ему говорит:
«…ты не вполне постиг истинный смысл сочинения. Хотя ты, подобно лаконским щенкам, отлично выискиваешь и выслеживаешь то, что содержится в сказанном, но прежде всего от тебя ускользает, что моё сочинение вовсе не притязает на то, о чем ты говоришь, и вовсе не пытается скрыть от людей некий великий замысел. Ты говоришь об обстоятельстве побочном. В действительности это сочинение поддерживает рассуждение Парменида против тех, кто пытается высмеять его, утверждая, что если существует единое, то из этого утверждения следует множество смешных и противоречащих ему выводов. Итак, моё сочинение направлено против допускающих многое, возвращает им с избытком их нападки и старается показать, что при обстоятельном рассмотрении, их положение ['существует многое'] влечёт за собой ещё более смешные последствия, чем признание существования единого. Под влиянием такой страсти к спорам я в молодости и написал это сочинение, но, когда оно было написано, кто-то его у меня украл, так что мне не пришлось решать вопрос, следует ли его выпускать в свет или нет. Таким образом, от тебя ускользнуло, Сократ, что сочинение это подсказано юношеской любовью к спорам, а вовсе не честолюбием пожилого человека. Впрочем, как я уже сказал, твои соображения недурны».
Ещё раз. Процитированное замечание Зенона следует за первым же высказыванием Сократа относительно сути дела. Сути того дела, которое, – по мнению всех исследователей, – является главной темой произведения.
Эта "суть дела" только ещё впервые всплыла в беседе, а мудрый Зенон тут же отвечает молодому и горячему Сократу, пытаясь отвлечь его от этой сути, указывая именно на то, что не в этом суть, что НЕ ЭТО было главным в том его давнем сочинении.
Зенон при этом настаивает, что главным там была диалектика. Разумеется в нормальном понимании этого слова. Напомним, что диалектика по-древнегречески дословно переводится как искусство ведения спора. Они ведь там ещё не успели осознать "истинный" смысл этого термина, так как не все ещё начитались Гегеля, неимоверными усилиями которого это понятие вообще перестало означать что-либо конкретное, тем более – в сочетании с им же исковерканным понятием логика. Ох, и не зря большинство поздних платоноведов заодно и гегельянцы.
Итак, Зенон прямо заявляет Сократу: извини, мол, брат-Сократ, я написал это в молодости «под влиянием страсти к спорам» и оно [произведение] «вовсе не притязает на то, о чём ты говоришь».
Получается, что Платон, вкладывая в уста Зенона это замечание, предупреждает читателя – будь внимателен, НЕ В ЭТОМ дело, не в том, о чём спрашивает Сократ. Однако, что нам – великим платоноведам – какой-то там Зенон. Ведь и ежу ясно, что и в данном фрагменте Платон впопыхах перемешал важное и второстепенное. Да ещё, не сумев погасить в себе чрезмерную говорливость, предоставил Зенону для ответа не в меру большой абзац. Чего только не сделаешь для разминки руки.
Ладно, пусть Зенон нам не товарищ. Ну, а как же Сократ? Ведь он с этим замечанием в свой адрес вполне соглашается, отвечая Зенону: «Принимаю твою поправку…»
Перед тем как перейти к следующим "мелким" странностям текста, не забудем один нюанс упоминаемый Зеноном: в молодости, когда он написал это своё сочинение, его рукопись похитили. Это замечание нам ещё пригодится. Опустим его пока в копилку. Мы ведь вообще – на подножном корму. Питаемся тем, чем побрезговали поколения платоноведов. Что ж, последнему поросёнку – последняя цицька. Утешает, правда, что количество "недочётов" у Платона не даст нам умереть с голоду.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу