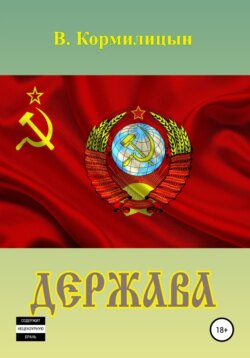Читать книгу Держава - Валерий Аркадьевич Кормилицын - Страница 1
ОглавлениеЛистопад!
В Царском Селе безумствовала осень.
Дворцовый парк поменял зелёный цвет на жёлто-багряный и медленно ронял листья, украшая ими дорожки аллей.
На скамье, держа красный лист рябины и любуясь им, ожидал великую княжну Максим.
Рядом, отчего-то грустный, понурившись сидел Ёршик, безразлично глядя на красоту деревьев.
Татьяна издалека заметила Рубанова, и, вдыхая терпкий запах осеннего парка, не спеша шла к нему, шурша опавшими листьями и стараясь продлить отпущенное Богом, совместно проведённое время.
Увидев её, Максим поднялся, и у него тоскливо сжалось сердце от вида тонкой женской фигуры в сером платье с красным крестом на белом фартуке.
А она, подойдя, любовалась им, сдерживая слёзы, и стараясь запомнить на всю оставшуюся жизнь синие глаза, русые волосы и побледневшее от переживаний лицо.
Он стоял перед ней в морской форме с золотыми погонами, красивый, как древний славянский Бог, и глядел в её душу синими глазами, видя там безмерную любовь, счастье встречи, и горечь разлуки.
Ни той, после которой вновь наступает встреча, а Вечной Разлуки…
– Я люблю тебя, Принцесса, шёпотом произнёс, уронив к ногам красный лист рябины.
Сердце её замерло от бесконечного счастья, и бесконечного горя…
«А ведь я больше не увижу его, – отчего-то подумала она, не впустив ещё эту мысль в своё сердце и купаясь в синеве его глаз. – Это не море, это бездонное, вечное небо… Да почему вечное? – испугалась она. – Просто синее небо. Родное, ласковое и тёплое… Но отчего сегодня так красны листья? – на секунду задумалась, но тут же выбросила из головы эту ненужную мысль. Не хотелось думать о плохом – ведь рядом ОН. И его глаза. И сколько в них любви, – задохнулась от счастья. – Господи, продли до вечности этот миг, – взмолилась она. – Он, я, любовь и счастье… Безмерное счастье… И безмерная тоска расставания… Тоска вечной Разлуки… Здесь, на земле… А синее нежное небо обещает нам встречу ТАМ… Высоко… Где живут Влюблённые Души, которые не смогли соединиться в этом мире, где рябина плачет красными листьями…»
– Женщинам принято преподносить цветы, – с хрипотцой в голосе произнёс он, – а я дарю тебе несчастного пёсика, – взял терьерчика и протянул ей, поразившись, с какой нежностью она прижала к груди этот пушистый тёплый комок, и слёзы побежали по её лицу. – Я не смею прикоснуться даже к твоей руке, – горло перехватило от волнения. – Но мысленно миллион раз целую тебя.
– Прощай, – отчего-то прошептала она, дотронувшись губами до мужской щеки, и повернувшись, быстро пошла в сторону переделанного под лазарет дворца, изо всех сил стараясь держать себя в руках и не разреветься, как простая питерская гимназистка.
А он, замерев от горя, глядел ей в след, с тоской замечая, как красные листья ложатся на землю, скрывая её следы.
В середине сентября, когда критическое положение на фронте миновало, и германская операция под названием «Свенцянский прорыв» закончилась неудачей, император пригласил в Ставку своих министров, но встретить их решил прохладно, вернее сказать – даже холодно.
«Что-то познабливает, – на скорую руку позавтракав не в столовой, а в кабинете, Николай поднялся из-за стола и, размышляя о предстоящем рандеву с министрами, неслышно ступая по мягкому ковру, который недавно прислала Александра Фёдоровна, подошёл к голландской печке. Приложив ладонь к изразцовым плиткам и обжегшись, тут же отдёрнул руку. – Не заболеть бы. Некогда сейчас хворать. Кабинет министров, – глянул на часы, – судя по времени, сейчас подъезжает к Могилёву. Как выражаются солдаты – придётся крепко намылить им шею, – обернулся на скрип двери. – Так и есть. Граф Фредерикс. Лишь ему разрешено входить без стука и в любое время».
– Доброе утро, Николай Александрович, – добро глядел на императора выцветшими, слезящимися глазами министр Двора.
– Доброе утро Владимир Борисович, – улыбнулся старику государь, и, подойдя, поздоровался за руку. – Ваши коллеги подъезжают уже. Да садитесь ради Бога, – пожалел царедворца, с трудом держащегося на трясущихся ногах. – Плохо чувствуете себя?
– Как? – подставил к уху ладонь Фредерикс.
– Говорю, важные документы принесли? – кивнул на папку с золотым вензелем в левой руке министра.
– Не читал, э-э-э, ваше величество, – невнятным голосом произнёс граф, преданно глядя на царя из-под седых кустистых бровей.
«А каким красавцем был, когда лейб-гвардии Конным полком командовал. Что старость с людьми делает… Неужели через пару десятков лет и я так выглядеть стану», – со вздохом оглядел ссутулившегося на стуле вельможу. Его морщинистые щёки и длинные усы, обвисшие на широкие, с поблекшим золотом, погоны.
– Вспомнил, что хотел сказать, – прошамкал Фредерикс, вскинув седую голову. – Мне кто-то доложил, что генерал Алексеев прошёл в штаб, – тонко намекнул царю о его неизменном утреннем распорядке.
«Дворцовую выучку даже в Конном полку не пропьёшь», – благодарно кивнул генерал-адьютанту Николай.
Когда император вошёл в кабинет начальника штаба, тот, оторвавшись от бумаг, не спеша поднялся, качнув витыми аксельбантами, и глухо, будто негромко скомандовал, поздоровался.
«Нет у генерала того почтения, что у Фредерикса, – пожал протянутую руку и сел в своё кресло с именным вензелем на спинке, задумчиво оглядев заваленный картами, бумагами и какими-то документами стол. – Бардак словно у штатского столоначальника», – вздрогнул, услышав на этот раз чеканно прозвучавший, особенно в сравнении с Фредериксом, голос начштаба, доложившего, что за истёкшие сутки на фронтах ничего существенного не произошло.
– На ваше имя пришла сводка, – порылся в бумагах и взял нужную, – что у военной промышленности иссякает запас меди.
– Да сейчас всё иссякает, – не слишком вежливо перебил его государь, вновь вспомнив о министрах. – Чуть позже разберусь и с медью, винтовками, отсутствием снарядов. А сегодня мне предстоит разбираться с министрами. Надеюсь, вы не отдали распоряжения торжественно встретить их на перроне, усладив слух российским гимном и привезти сюда в экипажах, организовав им обильный завтрак после дороги?
– Никак нет, – заинтересованно глянул на Верховного Главнокомандующего. – Для этого генерал-квартирмейстер имеется.
– Вот и ему прикажите не делать этого, – вновь перебил Алексеева государь, поднимаясь из-за стола. – Пойду в свой кабинет, а они пусть завтракают в пристанционном буфете и добираются сюда на извозчиках. Должны с первых минут почувствовать моё неудовольствие. А ближе к вечеру встречусь, пока предоставив им время для обустройства в гостинице, – забрав кое-какие документы, расположился в недавно отремонтированной, обитой голубыми штофными обоями светлой комнате в противоположном крыле здания штаба.
Всю мебель, что стояла здесь, прислала из Царского Села жена, чтоб супруг даже вдали от неё вспоминал дом и семью.
Усевшись за стол, по словам Алекс: украшенный неповторимой резьбой, выполненной более двухсот лет назад северными корабелами, распорядился никого не пускать к нему и занялся взятыми у Алексеева документами.
В полдень его отвлёк стук в дверь: «Опять Фредерикс?» – оторвался от бумаг, и устало потёр глаза.
Но это оказался великий князь Андрей Владимирович.
– Николай, министры прибыли. Топчутся в коридоре и всем мешают, – прошёл в кабинет и без разрешения уселся в кресло, независимо забросив ногу на ногу. – Я закурю с твоего разрешения?
– Кури, Андрей, – пододвинул к нему портсигар.
– Извини, я лучше свою сигару.
– Ну что министры? – закурил папиросу Николай.
– Все в сметённых чувствах, разговаривают вполголоса, передвигаются, по выражению моих гвардейских конноартиллеристов «на цирлах», не знаю – как это, и пристали с просьбой рассказать – что здесь сейчас происходит после смены власти.
– И что же ты им сообщил? – заинтересовался государь.
– Всю правду, – поменял ноги. – Что штаб теперь неузнаваем. Куда делись царившие нервозность и страх. И во время Свенцянского прорыва паники не наблюдалось. Все спокойно выполняли свои обязанности, уверовав, что раз государь здесь, то всё будет в порядке.
– Благодарю, Андрей, – загасил папиросу император. – На самом деле так, или немного утрируешь?
– Чистая правда, – поднявшись, перекрестился великий князь.
– Ну что ж. Пойдёшь мимо, передай министрам – скоро приму их, – подобрел Николай, со сдержанным смешком подумав, что ласковое слово и коту приятно, особенно если оно сказано представителем амбициозного, честолюбивого и самоуверенного клана Владимировичей.
Ещё с полчаса промурыжив высших чиновников государства Российского, прошёл в зал заседаний, с удовлетворением отметив, как энергично при его появлении подскочили сидевшие за длинным столом министры, уставившись на монарха робкими глазами побитых собак.
«Следует ещё немного страху на них нагнать», – решил государь и зычно, с фельдфебельскими перекатами в голосе рявкнул:
– Не понимаю, господа, как вы, зная, что моя воля к принятию командования непреклонна, тем не менее, позволили себе ЭТО письмо? – оглядел собравшихся. – Садитесь, – хозяйской походкой прошёл во главу стола и уселся на стул с высокой спинкой. – А Сазонов, как мне доложили, мало того, что кричит больше всех, так ещё в последнее время на заседания Совета министров перестал ходить. Вы что, сударь, забастовщик? – грозно вперился взглядом ему в переносицу.
– Никак нет, – задрожал голосом, быстро поднявшись на ноги, министр иностранных дел. – Просто у меня произошли словесные столкновения с Председателем.
– Ну да, – медленно и с кряхтением встал со стула Горемыкин. – Вы, Сергей Дмитриевич, изволили во всё горло пугать меня сценами ужаса на Петроградских улицах, которые произойдут, если Дума будет распущена. Дословно помню ваши слова: «Улицы будут залиты кровью, и Россия ввергнута в пропасть». – А я вам отвечал: «Дума будет распущена, и никакой крови не будет». – Так оно и вышло. Третьего сентября на собравшемся утром сеньорен-конвенте, – язвительно сморщил лицо Горемыкин, – Родзянко, войдя в роль трагика, завопил, что Думе следует объявить себя Учредительным собранием… Но остался в меньшинстве. И Госдума и Госсовет разошлись без гама и шума. И на улицах Питера тоже не было возмущений, митингов и демонстраций… Не говоря уже о мешках пролитой крови, – ехидно сжал губы, глянув на Сазонова. – Вели вы себя совершенно неприлично, милостивый государь.
– Садитесь господа. В ногах правды нет, – чуть подумав, государь дополнил: – в Сазоновских.
Но большинство министров, как понял из их полемики Николай, поддерживали министра иностранных дел, во всех смертных грехах обвиняя своего председателя. Царю надоело слушать их перепалку, и он властно произнёс:
– Хватит, господа. По моему мнению – договориться вы не сумеете. Дней через десять я приеду в Царское Село и этот вопрос разрублю, – потряс суровым тоном присутствующих обычно деликатный и вежливый монарх.
Прибыв, как и обещал, в последних числах сентября в столицу, первым делом отправил в отставку Самарина и Щербатова, а чуть позже – Кривошеина, пообещав в скором времени, если не образумятся, ту же плачевную участь и остальным.
– Наше дворянство совершенно сошло с ума, – делился своими впечатлениями с супругой Максим Акимович. – По поводу увольнения Самарина на императора ополчилась вся дворянская Москва. За министра внутренних дел князя Николая Борисовича Щербатова всколыхнулись харьковские и полтавские дворянские круги, намереваясь избрать его членом Государственного Совета от полтавского земства. Ранее они уже избирали в Госсовет камергеришку в двенадцатом году. Высшее сословие дошло до ручки, коли считает, что государь не вправе увольнять своих министров…
– Сударь, растолкуйте тёмной женщине, что означает выражение: «дойти до ручки», – дабы сбить с супруга кипение и накал страстей, задала некорректный, на его взгляд, вопрос Ирина Аркадьевна.
– Это сложнее, чем заячий ремиз, – нахмурился он. – Давным-давно, в достопамятные времена, калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Народ, не удержавшись от вкусного запаха, ел их прямо на ходу, держа калач за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку не ели, кидая её бродячим псам. А про тех, кто не брезговал и, пардон, лопал её… ну-у, это московское и полтавское дворянство, – к радости супруги разгладил чело и улыбнулся ей, – про таких говорили: «дошёл до ручки». То есть опустился -дальше некуда…
«Ну вот и славненько», – ответно улыбнулась она, поддержав вдруг заинтересовавшую её тему:
– Да что там дошедшие до ручки москвичи… Любочка сообщила мне по секрету, – хихикнула Ирина Аркадьевна, – что у нас в Петрограде, после опубликованного в газетах Указа и выражений сожаления об их отставке, передние квартир опальных министров забиты посетителями, пришедшими со словами поддержки. Твой младший брат тоже нанёс визит бывшему министру внутренних дел, выразив ему своё сочувствие.
– Это же надо подумать, – иронично хмыкнул Максим Акимович. – Мой брат выражает сочувствие министру внутренних дел, коего я и в копейку не ставлю. Не иначе – конец света грядёт… А на должность князя поставили форменного дурака – Алексея Хвостова. Беспардонного, жирного, невменяемо-весёлого шута, который считает себя человеком без задерживающих центров, и, не стесняясь, говорит: «Мне ведь решительно всё равно – ехать ли с Гришкой Распутиным в публичный дом или его с буфера под поезд сбросить…» Совсем обезлюдила русская земля на умных, ответственных чиновников. Не стало государственных мужей.
– Когда-нибудь и сбросит, – перекрестилась Ирина Аркадьевна. – Старец, кроме царицы, всем поперёк горла стал.
– Да туда ему и дорога, – тоже перекрестился Максим Акимович. – Припёрся недавно из Сибири в Питер.
– Сударь, мадам Камилла пришла бы в неподдельный ужас, услышав вас. Даже эсквайры Пахомыч с Власычем выражаются культурнее, нежели вы, милостивый государь.
– Да как же, матушка, я могу выражаться, – вскипел Максим Акимович, – когда в обществе открыто уже говорят о необходимости государственного переворота. Дошло до того, что в Яхт-клубе набил морду одному пожилому шпаку, действительному статскому советнику между прочим, который в голос орал, что необходимо назначение регента, коим он видит Николая Николаевича, ибо грядёт мартовское развитие событий, при которых в тысяча восемьсот первом году произошла смерть Павла Первого. До чего договорился, мерзавец. Жаль, генерала Троцкого в Яхт-клубе не было. А то бы всю их штафирскую компанию разогнали бы. Теперь жду вызова на дуэль. Правда, у рябчиков сие не принято. В суд может ходатайство подать.
В последний день сентября Рубанов-старший вновь получил приглашение выехать в Ставку, куда 1 октября император с небольшой свитой благополучно отбыл от столичных сплетен, великосветской кутерьмы, лжи и злобных инсинуаций.
Вечером уже были в Пскове, где на станции государь принял доклад генерала Рузского, и следом, стоя вместе с сыном, который упросил венценосного отца взять его в поездку, произвели на платформе смотр Псковскому кадетскому корпусу.
Кадеты, забывая дышать от счастья и изо всех сил держа равнение, бодро протопали церемониальным маршем перед государем с наследником, стоящим по стойке смирно в шинели солдатского образца, туго перетянутой кожаным ремнём, в полевого образца фуражке и начищенных сапогах.
«Красивый и ладный будет следующий император, – подумал, глядя на цесаревича через стекло вагонного окна Рубанов. – Но это мои сыновья, в генеральских уже чинах, станут служить ему, – потёр ладонью защемившее вдруг сердце. – Стар становлюсь такие вояжи делать, – уселся на мягкий диван. – В следующем году откажусь, сославшись на здоровье», – качнулся от несильного рывка тронувшегося поезда, услышав неуставные вопли счастливых кадетов и звуки «Боже Царя храни», когда вагон медленно проезжал мимо оркестра.
Утром следующего дня литерный поезд остановился в Режице, где государь с сыном, на автомобиле, объехали полки 21-го армейского корпуса, построенного на обширном поле.
Затем, выйдя из машины, пропустили войска мимо себя.
Николай, скрывая добрую улыбку, время от времени любовался сыном, восторженно глядевшим на боевых солдат, дравшихся на полях Галиции и не раз смотревших в лицо смерти.
«Как оно выглядит, лицо смерти? – вздрогнул Алексей, тут же отогнав от себя ненужные вредные мысли, и неожиданно вспомнил строки басни: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась, да ПРИЗАДУМАЛАСЬ…» – улыбнулся глупым своим мыслям, – всё-таки я ещё ребёнок, – осудил себя. – Но ежели бы ворона не призадумалась, то сыр достался бы ей. Вывод: думать меньше и действовать по уставу».
«Радуется, – не сдержавшись, улыбнулся Николай. – Видно понравился блестящий вид войск», – став серьёзным, громко поблагодарил дефилирующий с распущенным знаменем полк, за образцовую службу и боевой вид.
Утром 3 октября царский поезд прибыл в Могилёв, а 5 числа Ставка праздновала именины Наследника.
Была отслужена торжественная обедня в присутствии именинника, после чего отец подарил ему шикарный перочинный ножик.
«Жить хорошо», – засыпая поздним вечером, сунул руку под подушку именинник, с удовольствием погладив подарок.
Рано проснувшись, поначалу даже не понял – где он, разглядывая сонными ещё глазами небольшой столик с образками, фотографиями и балалайкой в футляре, разделяющий его металлическую кровать с отцовой. Услышав ровное дыхание папа' счастливо зажмурился, вытащив из-под подушки перочинный ножик.
После завтрака, пока отец общался в штабе с генералами, цесаревич, под началом своего дядьки – матроса Деревенько, целый час маршировал с обструганной палкой вместо винтовки, во всю глотку распевая при этом вместе с дядькой строевую песню про вышедшую из ворот Дуню. Затем, под смех пришедшего отца, пошёл заниматься науками с потрясённым народной песней гувернёром Жильяром, и наконец, вдвоём с папа', катались в лодке по Днепру.
«Жить хорошо», – засыпая, вновь подумал он, забыв назидательный факт с задумчивой крыловской вороной.
На следующий день ездил с отцом в авто, и даже сам рулил, под присмотром папа', мотором. Проголодавшись, выбрали место на берегу реки, развели костёр и пекли на углях картошку, что принёс из соседней деревушки крестьянин.
После прогулки отец занимался документами, подписав Манифест об объявлении войны Болгарии, а сын, расположившись за соседним столиком у окна, готовил заданные Жильяром уроки.
«Как хорошо жить», – засыпая, думал Алексей.
Свита на все лады склоняла болгарского царя Фердинанда Кобургского, со всеми царскими потрохами попавшего под тлетворное влияние главного «ганса» Вильгельма.
– Вот и жди от этих братушек благодарности за пролитую кровь, – горячился Максим Акимович, сидя с приятелями за партией домино.
11 октября, в полдень, литерный поезд с царём и наследником выехал из Могилёва, утром следующего дня прибыв в Бердичев.
Государя познабливало. Он зябко передёрнул плечами выйдя из вагона на платформу, и приняв доклад командующего Юго-Западным фронтом генерала от артиллерии Иванова, пожал ему руку. Обернувшись к сыну, хрипловатым голосом произнёс:
– Алексей, погода сегодня пасмурная, ветреная и холодная, может, в вагоне побудешь? – ласково глянул на отрицательно покачавшего головой мальчишку и вместе с ним скорым шагом обошёл построенных для встречи чинов штаба, поблагодарил их за службу, удостоив некоторых рукопожатием, и, обнявшись с командующим, поспешил в тёплый вагон, тут же отбыв в Ровно – место штаба генерал-адьютанта Брусилова.
– Здравия желаю, Алексей Алексеевич, – после доклада генерала от кавалерии, протянул ему руку император. – Ваша Восьмая армия выше всяких похвал. Хочу поблагодарить войска.
– Ваше величество. Представители армии собраны в двадцати верстах отсюда. Ровно позавчера подверглось обстрелу и бомбардировке с вражеских цепеллинов. Имеется опасность повтора нападения с воздуха, – обрадовал своими словами наследника.
Когда автомобили остановились перед построенным каре, Алексей больше глядел не на войска, а на небо, где реяли несколько русских аэропланов, чтоб немцы не сделали налёта.
К его разочарованию всё прошло тихо и мирно, без долгожданных воздушных столкновений, и последующей бомбёжки. Отец, побеседовав с некоторыми офицерами и солдатами после того, как войска прошли церемониальным маршем, поблагодарил их за службу, отдельно сказав Брусилову:
– Алексей Алексеевич, я вижу, что за время боевых действий вы показали себя большим мастером маневренной войны и успешно руководите армией в самых различных условиях боевой обстановки. Вы один из самых успешных моих генералов, – попрощавшись, сели с сыном в автомобиль.
И вот тут-то наследник испытал счастье, потому как ехали в полной темноте при включенных фарах и благополучно заблудились, выехав на незначившуюся в маршруте станцию Клевань.
Узнав, что по соседству, в лесу, находится лазарет, Николай решил обязательно посетить его. Сердце Алексея замирало от приятного ужаса, а по спине бегали предательские мурашки, когда, держа всё ж отца за руку, шли по узкой лесной тропе, освещаемой казаками с факелами в руках. Зловещий шум деревьев, отблески факелов в ночи, уханье филина, от которого ёкало сердце, и дальний гул артиллерии – как всё это радовало… Расстраивало лишь отсутствие вражеских цепеллинов с бомбами.
Когда, посетив лазарет и наградив раненых солдат, рассаживались по моторам, сёстры милосердия плакали, прощаясь с государем и наследником.
Немного поколесив, нашли станцию с императорским поездом.
Намаявшись за день, ночью отец с сыном спали как убитые, с трудом разлепив веки в 9 утра, когда состав остановился в Галиции на станции Богдановка.
– Здесь главный – генерал Щербачёв, – умывшись, сообщил сыну Николай. – Умный, эрудированный командир. Я отношусь к нему с уважением.
После смотра войск император медленным шагом обошёл построенных в ряд особо отличившихся солдат, каждому пожав руку, одарив образком и наградив – кого Георгиевским крестом, а кого медалью.
Затем, встав по центру, громко произнёс:
– За вашу геройскую службу и нанесение серьёзного контрудара Южной германской армии после Горлицкого прорыва весной этого года, жалую командующего армией генерала Щербачёва орденом Святого Георгия третьей степени, – надел крест на шею растерянно склонившего голову генерала.
Опомнившись и придя в себя, Щербачёв скомандовал:
– Слушай на краул! Во славу державного вождя – ура! – и солдаты дружно закричали «ура!»
Ознакомившись с картой, Николай надумал осмотреть Печёрский пехотный полк, находящийся в непосредственном соприкосновении с противником.
– Ваше величество, это опасно, – опять растерялся Щербачёв. – Только вчера они вели бой с неприятелем и подверглись интенсивному артобстрелу, – сделал попытку отговорить государя от инспекции полка.
Но император РЕШИЛ.
– Ничего, Дмитрий Григорьевич. Где наша не пропадала… Уверен, ничего плохого не случится, – бросил взгляд на сына, в свою очередь умоляюще глядящего на отца. – Тем более и цесаревич со мной поедет, – вверг в шок генералов.
Оставив мотор в лесу, Николай с сыном, небольшой охраной и несколькими генералами направились к поспешно строившемуся батальону, выведенному с позиций на отдых.
– Вражеский аэроплан, – побледнев, указал на далёкую точку в небе Щербачёв.
– Да не волнуйтесь, Дмитрий Григорьевич. Я же сказал, что всё будет хорошо, – подошёл к построенным солдатам.
– Братцы, я счастлив, что вместе с наследником встретился с вами недалеко от боевых позиций. От всего сердца благодарю за службу России, – с трудом справился со спазмом в горле и набежавшими на глаза слезами. – Всем вам, ребята, и здесь присутствующим, и находящимся в окопах – сердечное моё спасибо, – пошёл по рядам, раздавая образки и награды.
Алексей шёл рядом с отцом, уважительно глядя на недавно вышедших из боя солдат и прислушиваясь к не такой уж далёкой канонаде.
Вражеский самолёт, покружив над русским окопами, сбросил две бомбы и улетел.
Вскоре опустились сумерки, автомобили, следуя за головным, с показывающим дорогу офицером генштаба, на скорости направились в сторону населённого пункта Богдановка, где на станции ожидал литерный поезд.
К огромному восторгу наследника, вновь заплутали в темноте, где-то свернув не на ту дорогу. Два раза меняли направление и, наконец, увидели пристанционные огни. Это оказался городишко Волочиск.
Ясное дело, на станции поднялся переполох, а в автомобилях смех и шутки. Представители генштаба алели лицами, что было заметно даже в темноте, стыдясь за своего товарища.
Видя довольное лицо сына, император соизволил пошутить:
– Уж не родственник ли Ивана Сусанина этот генштабист?
На станции оказался распределительно-питательный пункт княгини Волконской. Все как раз проголодались и с удовольствием отведали пищу, что давалась проходившим через пункт раненым, пока начальник станции, по приказу Спиридовича, телефонировал в Богдановку, чтоб направляли сюда литерный поезд.
Алексей был очень рад неожиданному приключению.
Ночью государь с наследником и доминошная свита спали, по словам летописца: «без задних ног».
Весь следующий день литерный поезд нигде не останавливался, и доминошники отбили ладони, наслаждаясь игрой.
Царь проводил время с сыном и документами.
– Не следовало подвергать государя с наследником такому риску, – отстаивал свою точку зрения летописец Дубенский, не забывая хлопать ладонью с костяшкой по столику. – А ну-ка – вражеская авиация!?
– Да будя тебе, старче, – насмешил всех оборотом речи адмирал Нилов. – Наши летуны в секунд ихние цепеллины бы с неба посшибали, – добился того, что Дубенский, отложив костяшки домино, записал в блокнот народные выражения, произнеся:
– Авось пригодится.
– А колонновожатый – полнейший бездарь и читать карту в академии не научился, – несколько сменил тему Рубанов. – Ну ладно мы с генералом Троцким как-то вместо Большой Морской оказались на Малой, и перепутали кабаки, – в свою очередь рассмешил товарищей. – Но царя-то с наследником почто по лесам и полям ночью таскать?..
– То-то государь Ивана Сусанина упомянул, – заржал Воейков.
Дубенский, забыв положить на стол домино, хлопнул себя кулаком по лбу и записал про колонновожатого и Сусанина – вдруг потомкам пригодится.
– Главная цель поездки, господа, чтобы войска вновь обрели веру в себя после тотального летнего отступления, – подытожил Рубанов, и все согласно покивали, а летописец записал. – По-моему мнению, государь за недавнюю Вильненскую операцию, в результате которой ликвидировали так называемый Свенцянский прорыв, должен был получить Георгиевский крест, – сделал ход Максим Акимович, и все опять согласно покивали, а Дубенский занёс в блокнот понравившуюся мысль.
– Георгия государь заслужил, на мой взгляд, ещё в бытность на Кавказском фронте, – оглядел высокопоставленных игроков летописец. – Это ж надо, на какую высоту тогда забрались, в высокогорное селение… как бишь его… Меджингерт, если не ошибаюсь. Не помню, сколько футов…
– Фунтов… – отчего-то съязвил Нилов. – Вёрстами следует отмерять…
– Да ну вас, батенька, к этому, как бишь его?..
– Чёрту, – под смех приятелей подсказал Рубанов.
– Ну да! – повеселел летописец. – Старичок – командир корпуса не сообразил проявить инициативу и ходатайствовать перед Георгиевской Думой Кавказской армии о присвоении императору Георгия четвёртой степени. А Илларион Иванович Воронцов-Дашков больше о своей болезни думал, нежели о наградах.
– Как вы правы, господа, – в волнении подскочил, а после плюхнулся на своё место, отложив домино, Воейков. – Следует тонко намекнуть об этом Николаю Иудовичу Иванову, – стал развивать он мысль: – Александр Первый в тысяча восемьсот пятом году выслужил четвёртую степень Георгия за личную храбрость, как говорилось в реляции. Николай Первый – за двадцатипятилетнюю выслугу в офицерских чинах. Александр Второй – за личное мужество «в деле против кавказских горцев». Александр Третий получил аж Георгия второй степени в1877 году за русско-турецкую кампанию, а у Николая Второго – шиш!
– Первой степени, – дополнил Рубанов – отставникам можно.
– Несправедливо, – было общее мнение, которое исхитрился услышать Николай Иудович, обратившись через несколько дней к государю с телеграммой и сообщив, что цесаревич Алексей получил Георгиевскую медаль четвёртой степени «в память посещения армий Юго-Западного фронта в близи боевых позиций», после чего счастливые отец с сыном выехали в Петроград.
21 октября Георгиевская Дума Юго-Западного фронта постановила, что изъявив желание посетить воинскую часть, находящуюся на боевой линии Его императорское величество явил пример истинной воинской доблести, подвергая опасности свою жизнь, в желании лично выразить войскам монаршую благодарность. На основании вышеизложенного Георгиевская Дума Юго-Западного фронта единогласно постановляет: повергнуть через старейшего Георгиевского кавалера генерал-адьютанта Иванова к стопам государя Императора всеподданнейшую просьбу: оказать войскам великую милость и радость, соизволив возложить на себя орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й ст.
Это постановление с орденом было направлено в столицу с генералом Свиты Его величества князем Барятинским.
25 октября государь принял орден, отправив благодарственную телеграмму Иванову и фронтовой Георгиевской Думе, записав в дневнике: «Незабвенный для меня день получения Георгиевского Креста 4-й ст. Целый день после этого ходил как в чаду».
И вновь поездки по фронтам и войскам.
Император побывал в Ревеле, Риге. Затем – Витебск и вновь Могилёв. Оттуда государь с наследником выехали для осмотра войск Южного фронта. 7 ноября прибыли в Одессу, отправившись вскоре на границу с Румынией, в Измаилский уезд Бессарабской губернии. Потом Херсон и Николаев. Через несколько дней императорский поезд вновь отправился в Ставку, где 26 ноября государь отпраздновал день Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Были вызваны по два награждённых Георгиевскими крестами солдата и одному офицеру от каждого корпуса. Не забыли и про флотских героев.
После молебна Николай с сыном – тоже Георгиевские кавалеры, обошли построенных перед зданием штаба солдат и офицеров, каждого поздравив с праздником и поблагодарив за службу.
Дольше всего государь беседовал со старшим лейтенантом Арсением Георгиевичем Рубановым, расспросив его, за что получен орден.
– А как здоровье вашего брата, лейтенанта Максима Рубанова?
– Прекрасно, ваше величество. Нога не болит, рана затянулась, и всё это, – понизил голос морской лётчик, – по его мнению, благодаря уходу сестры милосердия, великой княжны Татьяны…
– Мои дочери часто вспоминают моряка. Кроме очередного чина, если мне не изменяет память, он высочайше жалован Владимиром четвёртой степени?
– Так точно, ваше величество.
– Ну, как увидите, передайте ему моё «спасибо» за службу, – направился к следующему офицеру.
Затем был праздничный обед, на котором генерал-адъютант Алексеев провозгласил тост:
– Господа офицеры, предлагаю поднять бокал вина за нашего вождя и Георгиевского кавалера – Российского императора!
– Ура! – долго гремело в зале.
«Праздник храбрых вселил глубокую веру в победоносный для России исход войны», – записал в блокноте генерал Дубенский.
В начале декабря цесаревич Алексей простудился, и, как определил лейб-хирург Фёдоров, от сильного чиханья лопнули сосуды в носу, в результате чего началось кровотечение. Доктор посоветовал государю вернуться в Царское Село.
По дороге у Алексея поднялась температура, и временами он даже терял сознание. Голову лежащего на диване сына держал на коленях отец, постоянно промокая сочащуюся из носа кровь.
Положение, по словам медика, стало очень серьёзным.
В 11 часов утра поезд пришёл в Царское Село, и с большими предосторожностями цесаревича перевезли во дворец-госпиталь.
Глядя на бледное лицо сына, Александра Фёдоровна подумала, что мальчик умирает.
– Где Вырубова? – увидела фрейлину. – Поезжай в Питер за старцем и вези его сюда. Я не верю, что доктора спасут моего сына.
Распутина нашли и быстро доставили во дворец. Подойдя к постели больного он долго всматривался в восковое, страдальчески морщившееся лицо, и чего-то шептал, крестя цесаревича. И тому неожиданно стало легче. На щеках появился румянец, исчезла гримаса страдания и боли, а через некоторое время он уснул, спокойно уже дыша носом. Кровотечение прекратилось.
– Серьёзного ничего нет, – буркнул старец императрице, и шатаясь от навалившейся усталости, вышел из комнаты, не заметив, с какой благодарностью глядит ему в спину Александра Фёдоровна.
«Но разве я отдам молитвенника на растерзание врагам?» – в который уже раз подумала она:
– Аня, угости Ефима Григорьевича чаем, а я пока посижу возле сына, – велела Вырубовой.
Глянув на умиротворённую супругу, Николай понял, в чём сила Распутина – в его жене. Она его защита и он за ней ни то, что за каменной стеной, а за гранитной скалой. Никому не даст в обиду, и пусть будет – что будет…
А газеты уже исходили ядом и желчью, в своей интерпретации подавая события и роль старца. Смакуя описывали, как императрица целовала мужику руку, а он крестил её, целуя в лоб.
«Биржевые ведомости» и вовсе расстарались, поместив статью «Книга Илиодора», где журналюга, с согласия редактора разумеется, дал аннотацию книги «Святой чёрт», так прозвал автор своего бывшего друга Распутина, и сделал соответствующие духу времени выводы.
Другие газеты мусолили тему «измены» княгини Васильчиковой, намекая, что заговор зреет в Царском Селе, в покоях императрицы. Что немцы прислали бывшую фрейлину, которая жила перед войной в своём имении в Австрии, дабы она уговорила Александру Фёдоровну повлиять на супруга и заключить с Германией сепаратный мир.
После публикаций либеральные круги и высшее общество подняли бурю негодования по этому поводу. Актёр Больших и Малых театров, а по-совместительству председатель Государственной Думы Родзянко вопил по гостиным, что Васильчикова хлопочет о сепаратном мире. Того же добивается «немецкая партия» при Дворе, возглавляемая русским мужиком, конокрадом Гришкой Распутиным, и что царица, практически, уговорила мужа замириться с Германией.
Николай, почувствовав настроение столицы, уехал от льющихся потоков грязи и клеветы на фронт, оставив на этот раз сына в Царском Селе.
«Верховный главнокомандующий совершенно пересилил в Николае монарха, – сидя в купе поезда размышлял Рубанов. – Император недооценивает ситуацию в тылу, и не желает вникать в неё. Ладно бы за его спиной стояли такие сильные личности как Столыпин, Плеве или Дурново, которые сумели бы скрутить зреющий заговор, но дурачок Хвостов на это неспособен… Николай в душе военный, а не царь. И ему противны интриги, от которых сломя голову бежит на фронт, к армии».
В середине декабря император прибыл на станцию Чёрный Остров Подольской губернии, приняв на платформе доклад генерал-адьютанта Иванова.
– Ну и грязища здесь у вас и тепло. В Царском Селе, когда уезжал, морозы стояли, – пожал руку козырнувшему после короткого рапорта командующему Гвардейским отрядом генералу Безобразову. – Ну что, Владимир Михайлович, выполнили мой приказ? Собрали гвардию, повыдёргивав разрозненные части с фронтов? – и на утвердительное: «Так точно», ответил: – Сегодня проверим вверенные вам кавалерийский и два пехотных гвардейских корпуса. Здесь, как понимаю, сосредоточена конница, судя по почётному караулу Кавалергардского полка? – проехали на недалёкое поле, где выстроилась 1-я гвардейская кавалерийская дивизия.
– Странно видеть конницу в чёрных дублёных полушубках, а не шинелях, – улыбнулся государь, держа руку у околыша фуражки, и пропуская мимо себя полки дивизии. – Граф Фредерикс какой молодец, – похвалил сидящего на жеребце шефа 4-го эскадрона Конногвардейцев.
– Держится на коне великолепно, ваше величество, – поддержал императора Безобразов, думая про себя, как бы дедушка не навернулся с лошади и не сломал себе шею.
После смотра командирам частей был предложен чай в вагоне-ресто-
ране, и царский поезд двинулся к Подволочиску, где державного главнокомандующего встретил на платформе почётный караул лейб-гвардии Преображенского полка.
В нескольких верстах от станции, стоя под мелким дождём, выстроились в ожидании государя 1-я и 2-я гвардейские дивизии.
– Препоганнейшее жидовское местечко, – дымил сигарой Гороховодатсковский, хмуро глядя то на затянутое тучами небо, то в сторону раскисшей дороги, ведущей от станции.
– На мой взгляд, полковники должны относиться к жизни и армейским тяготам философски, несмотря даже на отсутствие матрёшек с неваляшками. Это несчастным капитанам можно ворчать сколь душе угодно, – выдул из янтарного мундштука окурок папиросы Аким. – Похоже, едут.
– Равняйсь, ребята, – заорал Гороховодатсковский, подбежав к своему батальону. – Смирно! – вытянулся во фрунт перед строем.
Подкатив на автомобиле к построенным войскам, император поздоровался с гвардейцами, и, выслушав дружный ответ, стал объезжать полки, выходя иногда из мотора для разговора со знакомыми офицерами.
Заметив стоящего перед своим батальоном капитана Рубанова, выбрался из авто и выслушав короткий рапорт, с улыбкой протянул офицеру руку. Обернувшись, велел флигель-адьютанту пригласить Рубанова-старшего.
– Максим Акимович, непорядок, – обескуражил подошедшего отставника. – Ваш сын во второй войне кровь проливает – и всё капитан.
– Ну-у… – развёл в стороны руки несколько растерявшийся Рубанов-старший.
– Следует исправить недоразумение, – хлопнул по плечу офицера царь. – Жалую вас полковником за отличие по службе, господин капитан, – не эстетично фыркнул и сурово сжал губы, заметив, как сначала глаза офицера заморгали в смятении, а затем загорелись восторгом: «Приятно дарить людям радость», – направился к автомобилю государь.
Начинало смеркаться.
Стали служить молебен. Торжественно звучали голоса певчих, коих освещали снопы света от фар автомобилей. После слов «Многая, многая лета», наступила тишина. Слышалось лишь шуршание дождя.
Автомобили тронулись, а государь, поднявшись, помахал воинам рукой, и тут поле огласилось оглушительным криком «Ура!»
К высочайшему ужину государь пригласил в вагон-ресторан командиров батальонов, полков и дивизий.
Полковник Рубанов сидел за столом рядом с довольным не менее него отцом и не пропускал тосты за гвардию в целом, и отдельно за каждый полк.
Гофмаршальская часть расстаралась, и столы ломились от закуски и запрещённого Указом алкоголя.
Новый год император встречал ни в Царском Селе, а в Ставке, 31-го декабря обратившись к армии и флоту: «Минул 1915 год, полный самоотверженных подвигов моих славных войск. В тяжёлой борьбе с врагом, словно щит Родины, вы остановили вражеское нашествие.
В преддверии 1916-го года Я шлю вам мои поздравления. Сердцем и мыслями Я с вами в боях и окопах. Помните, что без решительной победы над врагом Россия не может обеспечить себе самостоятельной жизни и права на пользование своим трудом, на развитие своих богатств. Проникнитесь поэтому сознанием, что без победы не может быть и не будет мира.
Мы должны дать Родине Победу!»
Новогодье началось с метели.
К утру дорогу занесло и Николай с небольшой свитой, состоящей, в основном, из доминошников, по сугробам побрёли в церковь к заутрене.
– Метёт, Максим Акимович, – жизнерадостно воскликнул государь, обтирая платком лицо. – Поезда, говорят, еле ползут из-за снежных заносов. Придётся несколько дней провести в Могилёве.
После богослужения император принимал поздравления, а затем, попив чаю с пышками, направился в штаб к Алексееву, где и провёл время до обеда.
Никто и подумать не мог, что пошёл последний год Царской службы.
На Крещение, 6-го января, в Могилёве состоялся грандиозный Крестный ход.
– Крещение Руси – главный выбор, который сделал для нас святой равноапостольный князь Владимир, – на крыльце губернаторского дома столкнулся с Рубановым Николай. – Духовное – важнее мирского, – перекрестился он. – В Евангелии сказано: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей навредит?» – И погода сегодня, слава Богу, отменная.
После торжественной церковной службы многолюдная процессия под водительством высокопреосвященного Константина, нёсшего крест, двинулась в сторону реки. Следом за ним шёл государь, сопровождаемый свитой и генералами.
По сторонам процессии выстроились войска, и военные музыканты с чувством исполняли «Коль Славен».
Казаки ночью обустроили Святую Иордань и постоянно очищали палками покрывавшуюся тонким ледком купель. После водосвятного молебна и освящения воды, когда Константин погрузил крест в Днепр, загремел орудийный салют и народ закричал «Ура!»
«Духовное совместилось с мирским и военным», – подумал Рубанов, слушая громкие звуки военной молитвы «Коль Славен».
В городском театре устроили синематограф для учащихся могилёвских гимназий, и они с восторгом глядели кино про славную битву «Варяга» с неприятелем. По фильму так складывалось, что русский крейсер победил вражеские корабли, потопив весь японский флот. Ученики, благодаря волшебной силе искусства, не сомневались в этом, во всю глотку подпевая бренчащему на фортепьяно тапёру: «Врагу не сдаётся наш гордый Варяг», наплевав с высокой мачты – как там было на самом деле.
15 января, когда император расчищал широченной деревянной лопатой дорожки в саду, Воейков, предварительно с минуту покашляв, чтоб отвлечь монарха от важного занятия, со скорбью в голосе доложил:
– Ваше величество, получена телеграмма, что сегодня ночью, в Алупке, скончался бывший Наместник Кавказа, член Государственного Совета, граф Воронцов-Дашков.
– Как же так!? – выронил лопату Николай, и, поникнув головой, сказал ни столько для Воейкова, сколько для себя: – Ушёл из жизни последний русский вельможа, просвещённый и мудрый человек, один из лучших друзей моего отца, – медленно пошёл в дом, вспоминая встречу во время поездки по Кавказу с больным уже Илларионом Ивановичем. – Владимир Николаевич, следует послать телеграмму соболезнования его жене, – приказал он дворцовому коменданту, – а мне пора ехать в Царское Село.
Не успев отдохнуть в домашней обстановке, сходу был атакован супругой по вопросу назначения на пост премьер-министра вместо Горемыкина – Бориса Владимировича Штюрмера.
– Санни, да он ведь тоже не молод – шестьдесят восемь лет. Назначался на должности Новгородского и Ярославского губернаторов. В свете прослыл ловким карьеристом, правда, после губернаторства, в начале века, стал ближайшим сотрудником Плеве.
– Ники, зато Борис Владимирович отличается безусловной верностью императору, то есть – лично тебе, и в феврале двенадцатого года от Госсовета участвовал в организации московских мероприятий в связи с трёхсотлетием Дома Романовых, а в мае тринадцатого сопровождал нас в Ярославле…
– Да у него узкий кругозор и мизерная работоспособность. Одной верностью такие недостатки не восполнишь. Прекрасно помню, как мы планировали поставить Штюрмера Московским городским головой, но москвичи дружно его прокатили, – хохотнул Николай.
– Москвичи – весьма ангажированные люди.
– Это как?
– Это – так! – улыбнулась царица. – Милый, не спорь. Занимайся лучше генералами, а с министрами я как-нибудь и сама управлюсь. Верные люди сейчас наперечёт. Пусть будет дурак – но верный трону дурак!
20 января царь назначил Штюрмера председателем Совета министров, отправив верного своего визиря, как называли Горемыкина думские оппозиционеры, в отставку. Этим политическим шагом император пошёл навстречу Думе, имевшей к председателю Императорского правительства личные счёты.
Государь, дабы подсластить пилюлю бывшему председателю, как писали некоторые газеты, присвоил ему чин действительного тайного советника, что равнялось Второму классу Табели о рангах среди гражданских чинов. Выше стоял лишь чин Канцлера, но он давно не присваивался.
9 февраля самодержец подъехал на автомобиле к подъезду Таврического дворца. К удивлению Николая, председатель Думы Родзянко и целая свора депутатов встретили его в вестибюле, и словно простые солдаты, во всю глотку вопя «Ура», чуть не на руках пронесли в Екатерининский зал, где проходили заседания.
После короткой речи государя, Родзянко пробасил здравицу в честь императора, внутренне радуясь отставке «старого и усталого» премьера:
– Великий государь, – поразил царя и своих сторонников обращением к Николаю думский трибун, – в тяжёлую годину войны ещё сильнее закрепили Вы сегодня то единение с верным Вам народом, которое выведет нас на верную стезю победы. Да благословит Вас Господь Бог Всевышний. Да здравствует Великий Государь всея Руси. Ура!
Раздалось «ура», плавно перешедшее в исполнение депутатами всех фракций Национального гимна «Боже, Царя храни».
Видя такую удобную минуту, Николай предложил народным избранникам проголосовать за кандидатуру нового председателя правительства – Штюрмера.
Находясь в эйфории от отставки Горемыкина, депутаты, недовольно кривя лица, всё же проголосовали за предложенного императором премьер-министра.
1 марта Николай, по давно заведённой традиции присутствовал в Петропавловской крепости на панихиде по убитому революционерами своему деду, императору Александру Второму.
Полная интриг столица утомила его. Теперь царица доказывала мужу, что в Хвостове они ошиблись, доверив глупому толстяку пост министра внутренних дел, и его следует снимать с этой высокой должности.
Поразмышляв, 3 марта Николай отправил Хвостова в отставку, повелев быть министром внутренних дел Штюрмеру. Приняв это трудное решение, государь укатил в Ставку. Но и здесь его ожидали проблемы кадровых вопросов.
Осенью прошлого года, приняв должность главнокомандующего, император, прочтя слезливое письмо члена Государственного Совета Алексея Николаевича Куропаткина, «генерала от поражений», как называли его в обществе, смилостивился, и в пику опальному великому князю Николаю Николаевичу, наотрез отказавшему Куропаткину, военные чины которого сохранились, в командовании воинским подразделением, дал тому Гренадёрский корпус, а в начале февраля доверил командование Северным фронтом, о чём тут же пожалел.
8 марта новый начальник фронта произвёл безрезультатное наступление. Весна была ранняя, снег быстро таял, как и лёд на Двине. Разлившаяся, по выражению солдат: будто водка из опрокинутой бутылки, река, затопила равнину, а главкому Северным фронтом приспичило наступать.
«В русско-японскую следовало таким бодрячком быть», – ворчали солдаты, идя в бой по пояс в воде, и не имея возможности укрыться от огня противника.
На Западном фронте генерал Эверт тоже решил наступать, назначив ударной 2-ю армию, коей приказал атаковать на Свенцяны – Вильно.
Войска наступали в весеннюю распутицу в болотном районе, когда пушки, при выстреле, осаживались по ступицу колёс.
В начале марта корпус за корпусом пошли на германские окопы, вдруг выяснив, что не хватало ножниц для резки проволоки, возле которой наши полки безнаказанно расстреливались противником.
Бойня продолжалась до середины марта, пока Николай не велел генералу Алексееву прекратить неподготовленное наступление.
В письме жене 15 марта он написал: «Случилось то, чего я боялся. Наступила такая сильная оттепель, что позиции, занимаемые нашими войсками, где мы продвинулись вперёд, затоплены водой по колено, так что в окопах нельзя ни сидеть, ни лежать. Дороги портятся, артиллерия и обоз едва передвигаются. Даже самые геройские войска не могут сражаться при таких условиях. Поэтому-то наше наступление приостановлено, и нужно выработать другой план. Чтоб это обсудить, я думаю вызвать трёх главнокомандующих в Ставку».
В другом письме он написал: «Я намерен прикомандировать старика Иванова к своей особе, а на его место назначить Брусилова или Щербачёва. Вероятно, первого».
17 марта царь вызвал в Ставку Брусилова, сообщив тому, что он поставлен на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Пожав руку, дополнил:
– Пока принимайте войска, а через несколько дней я приеду к вам в штаб фронта и поговорим.
Как и обещал, император навестил нового командующего, и обойдя построенный на платформе почётный караул, пригласил Брусилова в салон-вагон попить чаю.
– Алексей Алексеевич, имеются ли у вас какие-либо вопросы ко мне, либо просьбы? – отхлебнул из серебряного стакана чай.
– Так точно, ваше величество. Имею доклад. И весьма серьёзный. Будучи в штабе Ставки узнал, что мой предшественник внушает генералу Алексееву мысль, будто войска Юго-Западного фронта в силу разных причин не способны наступать, а могут лишь обороняться.
– А вы с этим не согласны? – требовательно глянул в глаза нового главкома.
– Категорически. Полностью не согласен, – выдержал тот царский взгляд.
«Уверен в себе и не трепещет передо мной, как многие генералы», – отчего-то с удовлетворением подумал государь, слушая доводы начальника фронта.
– … Твёрдо убеждён, что четыре вверенных мне армии находятся в отличном состоянии, и это, безусловно, не голословное мнение. Сужу по бывшей своей Восьмой армии, коей сейчас руководит генерал Каледин. Потому настоятельно прошу ваше величество убедить Алексеева, что вверенный мне фронт не только может, но и должен наступать, согласованно, конечно, с двумя другими фронтами.
– Доведу ваше мнение до начальника штаба Ставки, а вы, в свою очередь, озвучьте его на военном совете первого апреля в Могилёве.
Первоапрельский день оказался серым и дождливым.
Максим Акимович Рубанов всё же постеснялся отказать Николаю в просьбе вновь поехать с ним в Ставку, и через аляповатые дождливые капли, покрывавшие стекло окна, тоскливо разглядывал улицу с далёким облезлым зелёным вагоном городского трамвая, который, напрягаясь, тащили по рельсам две мокрые лошади.
«У них ещё «сорок мучеников» ездят», – хмыкнул он, повернувшись к сидящим за столом доминошникам:
– Господа, вчерашним вечером беседовал с Куропаткиным и Эвертом. После мартовских боёв сии полководцы совершенно пали духом, разбиты физически и морально, потому, смею полагать, всякое наступление будет казаться им неприемлемым и немыслимым. Государь, напротив, бодр, энергичен и целеустремлённо настроен наступать.
– Вчера Куропаткин имел честь беседовать со мной… Тьфу! Я имел честь беседовать с господином Пердришкиным, как назвал его когда-то покойный генерал Драгомиров, произведя фамилию от французского «пердрикс», что в переводе – куропатка, – хохотнул адмирал Нилов.
– Уж Михаил Иванович, Царствие ему Небесное, скажет, бывало – так скажет, – перекрестился Рубанов, подумав, что куропаткинский «пердрикс», пожалуй, почище «заячьего ремиза» будет.
– Так вот. Этот дряхлый пердришка поведал мне, уцепив за пуговицу, и чуть не открутив её, что на успех его фронта рассчитывать трудно, о чём он непременно доведёт до государя. Видно надеялся, что я доведу прежде него.
– Чтоб это случилось, он должен был коробку коньяка «Хеннеси» вам преподнести, – встрял в разговор Воейков.
– А вам, Владимир Николаевич, ящик нарзана «Кувака», что вы в своём имении изготавливаете, – отчего-то обиделся на Дворцового коменданта флаг-капитан императора. – Вас-то тоже за глаза «генералом от кувакерии» зовут, – наповал сразил он приятеля.
– Тише, тише господа. Спокойнее. Не нужно ссориться, – урезонил царедворцев летописец, на всякий случай чего-то записав в блокнот.
«Про пердришкина или кувакерию?» – от нечего делать стал гадать Рубанов, и, почесав затылок, высказал забежавшую в голову мысль:
– Не стало грамотных генералов, вот его величество и вытащил за уши из сундука Куропаткина. Однако никто не думал, что он вновь получит столь высокое назначение. Но и Эверт не лучше. Один штабной рассказал мне, что этот обрусевший немец в приказе, вместо «Армия», пишет «Мария», чем приводит штабистов ни то что в уныние, а неописуемое отчаяние, – рассмешил Дубенского.
– Это наподобие как «сифилитик» и «филателист», – в свою очередь развеселил тот компанию, чиркнув удачную мысль в блокнот.
– Один генерал от кавалерии… Кавалерии я сказал, – уточнил Воейков. – И нечего улыбаться. Особенно боцману Нилову… Так вот. Что я хотел сказать? Ах, да. Генерал от кавалерии Брусилов требует поставить перед своим фронтом задачу – наступать. И ручается за победу.
– Первые двое и в русско-японскую не считали возможным наступать, – вставил Рубанов, оглянувшись на стук в дверь и улыбнувшись знакомому скороходу, пригласившему господ на царский завтрак, ибо специально для этого прервали совещание.
Завтрак накрыли в столовой губернаторского дома, и когда друзья-доминошники прошли туда, важный своими обязанностями гофмаршал князь Долгоруков, заглянув в список, указал им места.
Император вошёл последним, сев во главу длинного стола.
«Война есть война», – оглядел серебряный сервиз Рубанов, благосклонно кивнув налившему в серебряную стопку из серебряного кувшина, официанту.
Его гофмаршал устроил рядом с довольным Брусиловым, а по другую сторону грустно хмурился бывший командующий Юго-Западным фронтом Иванов.
– Максим Акимович, выдаю военную тайну, – обратился к нему Брусилов, иронично подмигнув Иванову, отчего тот недовольно забарабанил пальцами по столу.
«Не дети уже, а всё жестами и мимикой пикируются, – отметил для себя Рубанов, – видно здорово на совещании поспорили».
–… Высказал на Совете точку зрения, что могу не только находиться в резерве, но и наступать… Государь согласился на то, что действия моих войск будут носить демонстрационный характер для отвлечения внимания и сил противника, начавшись раньше главного удара.
После завтрака к ним подошёл Куропаткин и, извинившись, пониженным голосом, чуть не шёпотом, произнёс, обращаясь к одному Брусилову:
– Алексей Алексеевич, вы делаете роковую ошибку, когда доказываете, что можете наступать.
– Роковую ошибку? – недоумённо поднял брови генерал.
– И никакую иную, – утвердительно кивнул Куропаткин.
Рубанов с интересом прислушивался к разговору.
– Ваше наступление непременно закончится разгромом, потому как вы однозначно переоценили возможности своего фронта, не взяв во внимание нехватку снарядов, снаряжения, оборудования медицинской помощи и малое количество авиации…
– Алексей Николаевич, главная составляющая успеха – воинский дух. А он высок – как никогда, – раздражаясь, прихлопнул ладонью по столешнице генерал.
– Ещё раз извините, – сожалеющее глянул на визави Куропаткин и непонимающе пожал плечами. – Ваше имя стоит сейчас высоко. За боевые заслуги вы получили в подчинение фронт, охота вам рисковать своим положением? Какую пользу извлечёте вы лично для себя из неминуемого поражения? – поняв свою нетактичность, отошёл от Брусилова всю русско-японскую войну битый полководец.
«Я ищу и желаю пользы только для России», – выпивая вечернюю рюмку чая, делился с Нестором-летописцем услышанным диалогом Рубанов. – Ох, дорогой вы мой Дмитрий Николаевич, – со смехом произнёс он, – с вами совершенным сплетником становлюсь.
– Это не сплетни, уважаемый Максим Акимович, это информация для потомков.
Командующий 8-й армией генерал-лейтенант Каледин 7 апреля собрал командующих корпусами и дивизиями с их начальниками штабов, дабы довести до сведения подчинённых выработанный Брусиловым план предстоящей операции.
– Господа, как вы знаете, позавчера главнокомандующий Юго-Западным фронтом собрал в Волочиске командующих армиями, доложив нам обстановку и поставив задачу широкого наступления фронта в мае-месяце. Суть операции Алексей Алексеевич письменно изложил в директиве № 1048 от сего числа, – потряс листами бумаги, – в коей указал переход нашего фронта в энергичное наступление с задачей оказать посильное боевое содействие войскам Западного фронта, – аккуратно положил листы на стол. – Основная цель – разгром живой силы противника и овладение его позициями в междуречье Стыри и Прута. Причём главный удар главнокомандующий фронтом доверил нашей Восьмой армии. Остальным трём армиям поставлена задача атаковать противника, нанося удары на избранных командармами направлениях. Только настойчивая атака всеми силами, на возможно более широком фронте, по словам Брусилова, способна действительно сковать противника, не дать ему возможности перебрасывать свои резервы. Господа генералы и офицеры, – внимательно оглядел присутствующих. – Наши корпуса нанесут главный удар из района севернее Дубно в общем направлении на Луцк. Один из корпусов пойдёт в направлении Ковеля. Брусилов приказал на выбранных участках прорыва приступить к земляным работам, с целью как можно ближе приблизиться к противнику, – глянул на часы. – Через час обещал подъехать начальник инженеров армий Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Величко – недавно беседовал с ним по телефону. Он наметит на выбранных участках инженерный плацдарм, чтоб подвести войска возможно ближе к передовым линиям противника. Плацдарм будет состоять из семи-восьми параллельных траншей, расположенных на расстоянии семидесяти-ста шагов одна от другой. Генерал оставит здесь подполковника Дмитрия Михайловича Карбышева – вы его хорошо знаете, так как офицер занимает сейчас должность старшего производителя работ Управления начальника инженеров Восьмой армии. Построим участки позиций и будем обучать войска их преодолевать.
– Ну что, друг мой Васильич, – обратился к Антонову Дубасов, встретившись с однокашником после совещания. – Какое задание нашей дивизии генерал Каледин преподнёс?
– Скорое наступление, друг мой Виктор.
– Так давай пообедаем, и поведаешь, что к чему, – повеселел командир полка. – Славно всё-таки вместе с приятелем служить.
– Идея, положенная в основу наступления, дружище Дубасов, по словам Каледина весьма парадоксальна, – сидели они за импровизированным столом в землянке, – …но нова, нетривиальна и доселе никем из военачальников не апробирована. Мы будем первыми.
– В чём идея-то?
– Брусилов отказался от сосредоточения в одном месте «кулака», который германские лётчики мигом обнаружат, а решил наступать в нескольких местах, ведя подготовку по всему фронту. Скоро все землекопами станем, но враг, литературно выражаясь, свихнёт башку, разгадывая, в каком месте будет нанесён удар. Эта смелая идея, опрокидывающая принятые доселе шаблоны, поначалу смутила нас, и, по-видимому, командармов, но сейчас начинают прорисовываться выгоды от разброса ударов. Причём главный удар наносит соседний Западный фронт, а мы, оказывается, лишь производим «стратегическую демонстрацию», в расчёте сковать неприятеля.
– Потому нетривиальное, что Брусилов не заканчивал академий, как и я, мы с ним просто самородки военной мысли. И нечего улыбаться. Война – войной, а ведь десятого апреля Пасха, – хлопнул себя по колену Дубасов. – Вот бы славно в Питере до войны погуляли, – расчувствовался он. – Я бы непременно Буфф разгромил…
– Не отчаивайся, друг мой, здесь тоже найдётся, чего разгромить, – успокоил приятеля Антонов. – К тому же в твоём подчинении целый полк головорезов…
– Кстати, послал денщика, Петьку Ефимова, коего из Новочеркасского с собой забрал, берёзовый сок добывать, – улыбнулся Дубасов. – В детстве с братом на Пасху непременно берёзовый сок пили в маленькой родовой деревушке. У реки вербы пушатся, весной пахнет и колокольный перезвон… Кроме нашей церкви, даже из соседней усадьбы малиновый звон доносился. Россия и Пасха, – счастливо зажмурил глаза. – Визиты. Нарядные дамы. Христосованье. Где всё это? И повторится ли когда?
Император, по исконному дворцовому ритуалу, который не отменил и в Ставке, христосовался с нижними чинами, выстроенными в затылок друг другу и по очереди подходившими за поздравлениями к царю. Похристосовавшись, Николай вручал солдату красное фарфоровое яичко, вынимая его из корзины на столе.
На следующий день торжественный обряд продолжился для войск, несущих охрану Ставки. Даже жандармы и полицейские удостоились пасхального поцелуя и яичка. Причём от многих государь чувствовал запах запрещённого алкоголя.
Но Пасха! Что тут скажешь?
Отдохнув два дня, войска Юго-Западного фронта продолжили сапёрные работы.
В мае нижние чины дубасовского полка прокопали окопы в сторону австрийских позиций, приблизившись к ним на полтораста шагов. Бесчисленные ходы сообщения соединяли передовые траншеи с тылом.
21 мая Дубасов с Антоновым обошли полосу передовых окопов, откуда начнётся наступление полка, ещё раз проверив боевые позиции. Всё было согласно уставу и норме.
– Мы с начальником дивизии будем находиться на наблюдательном пункте в полуверсте за тобой. В резерве имеется батальон. В случае чего поддержит твой полк. А в полуверсте за нами расставлена артиллерия.
– Лёгкой артиллерии, друг мой Сергей Васильевич, тут нечего делать. Позавчера разведчики пленного притащили, так у австрияков, оказывается, укрепления имеют накатники в шесть-семь рядов брёвен, присыпанных, в придачу, слоем земли в несколько саженей. Есть и бетонные укрепления, с рельсами вместо брёвен. Тяжёлые мортиры нужны.
– Обещали направить сюда огонь тяжёлых орудий. Так что проходы в сети проволочных заграждений, ежей и рогаток к моменту штурма позиции, проделают.
– Твои бы слова – да на марш полка переложить, – пожал другу руку, прощаясь, Дубасов.
На рассвете 22 мая русская артиллерия начала обстрел вражеских позиций, проделывая проходы в проволочных заграждениях и разрушая окопы первой, а местами и второй линии обороны противника.
– Согласно плану, чуть не в ухо кричал Дубасову Антонов, пришедший на наблюдательный пункт его полка, – мы пойдём на штурм завтрашним утром. По замыслу Брусилова, так, по крайней мере, его преподнёс нашему комдиву генерал Каледин, пехота будет вести атаку волнами цепей, коих, для первоначального штурма требуется не менее трёх-четырёх, имея за ними резервы.
– Ага! Где я четыре волны возьму? – не отрываясь от окуляров бинокля, заорал Дубасов. – Мы и первой всех затопим. А ваш резервный батальон, это, конечно, страшная сила, – захмыкал он, оторвавшись, наконец, от бинокля. – Уверен, что как опереточный полицейский, опоздает на помощь прийти… Я-то ещё в Буффе, где оперетту глядел, тренировался по молодости на официантах господина Тумпакова неприятеля громить…
– Ну да! Наслышаны о легендарных ваших подвигах. А роль неприступных железобетонных позиций выполнял оркестровый рояль, – в свою очередь иронично похмыкал Антонов.
– Так точно! А ты в те достославные времена стучал на барабане и с козлом Шариком бодался, – неизвестно на что обиделся командир полка. – Куда собрался?
– На свой наблюдательный пункт. Надо новости у комдива узнать.
– У комдива Шарика? – тут же повеселел Дубасов, вновь поднеся к глазам бинокль.
– Пока мы здесь прохлаждаемся, любуясь фейерверками, Шестой корпус командующего Одиннадцатой армией генерала от кавалерии Сахарова, в полдень прорвал фронт противника, захватил стратегическую высоту и закрепился на склоне другой.
– Дело пошло! – обрадовался известию Дубасов.
– А его Семнадцатый корпус прорвал позицию австрийцев против деревни Сопаново, – развернув карту, подполковники нашли эту деревушку. – Пришли сведения, что наши захватили три линии окопов, взяв в плен свыше двух тысяч нижних чинов и несколько десятков офицеров.
– Завтрашним утром мы тоже дадим им прикурить, – замечталось Дубасову.
Ночью побрызгал небольшой дождишка, и, выбравшись с восходом солнца из землянки, Дубасов задохнулся от свежего воздуха, приправленного душистым запахом сирени, неожиданно вспомнив Дудергоф, Павловское училище и совершенно ни к месту – грациозно выходящую из воды Полину, смахивающую ладошкой с плеч капельки влаги и раскачивая этим движением из стороны в сторону маленькие грудки с розовыми сосками…
– Виктор, что с тобой!? – отвлёк его от приятного видения голос Антонова. – Чем, интересно, вызвана блаженная твоя улыбка? – вздрогнули от грохота начавшей обстрел австрийских позиций артиллерии.
– Представил, что три пушки захватил и Каледин Георгиевский крест на грудь вешает: «Как же, дадут тут даже мысленно женой полюбоваться… Да и там целая толпа набежит во главе с Рубановым, чтоб на мою Полину пялиться… Ну, держись австрияки», – внутренне психанул он, обвинив их во всех тяжких…
Противник, словно прочтя мысленные его угрозы, не остался в долгу, ответив на огонь русской артиллерии, своей, попутно накрыв и роты дубасовского полка.
Пережидая обстрел, офицеры надумали попить чаю, «раскочегарив» для этого благого дела Петьку Ефимова.
– Да чичас, чичас налью, – бурчал тот, разогревая на камельке чайник.
Подполковники, в ожидании, смолили папиросы, машинально пригнувшись от оглушительного разрыва над головами, треска брёвен наката и посыпавшейся земли.
Но весь этот грохот перекрыл визгливый голос денщика, машущего руками, приплясывающего и воющего различные гласные русского алфавита.
– Ефимов! Мать твою в чайник ети. Чего орёшь как беременный заяц? – наконец удосужился поинтересоваться у солиста Дубасов.
– Да не рожаю я, мышь за шиворот свалилась с потолка-а-а. И щекотает та-а-а-м… у-у-у-у, – до слёз рассмешил офицеров.
– Ну что ж, пора, – отсмеявшись, глянул на часы Дубасов. – Хрен нам в золотой оправе, а не чай.
– И обстрел как раз прекратился, – добавил Антонов, – благожелательно разглядывая, как денщик, вытряхнув мышь, прыгает, исполняя гопак, и топая то правой, то левой ногой, стараясь раздавить мечущееся животное.
– Батальон, вперёд, – щурясь от солнца, скомандовал Дубасов, выбравшись наружу, и ротные подхватили его команду.
– Первая рота, в окопы… Вторая рота…
Солдаты бежали гуськом по ходам сообщения, накапливаясь в передовых окопах.
– С Богом! – сняв фуражку, перекрестился Дубасов, оставив на связи заместителя и направившись в первую линию окопов.
Антонов вернулся на свой наблюдательный пункт.
– Штурм! Первый батальон пошёл, – выстрелил из ракетницы командир полка.
Русская артиллерия прекратила огонь и батальоны пошли в атаку.
С третьим батальоном ринулся в бой и Дубасов.
Он больше не вспоминал мирную жизнь, а с криком «ура» повёл на штурм своих солдат. Ободрав бедро о разорванную и топорщившуюся в стороны колючую проволоку, побежал ко второй линии вражеских окопов – первую уже взяли, замечая на бегу то стоптанные подошвы австрийских сапог, торчащие из воронки, то разорванные вдрызг останки человека. Споткнувшись об оторванную ногу и совершенно не испытав от этого брезгливости, спрыгнул в окоп, угодив на чей-то мягкий труп, выстрелил в пытающегося поднять винтовку раненого австрийца, спросив, пока он заваливался на бок – где находится ближайший телефон, и не получив ответа, не спеша пошёл по ходам сообщения, перешагивая через лежащие мёртвые тела. Затем выбрался на бруствер и повёл батальон в сторону третьей линии обороны противника, случайно наткнувшись на вылезших из блиндажа австрийцев с пулемётами. Разрядив в них барабан револьвера, выхватил шашку и с криком: «за мной, ребята», бросился на растерявшийся пулемётный взвод, не успевший обстрелять наступающих русских, и поднятых ими на штыки.
Вскоре его полк взял третью линию окопов, пленив батальон австрийцев.
– Победа полная и безоговорочная, – подвели вечером итог сражения встретившиеся однокашники.
– Такого ещё за эту войну не было. В течение трёх дней наступления наши войска добились небывалого успеха. На направлении главного удара Восьмой армии, неприятельские позиции оказались прорванными в глубину до тридцати вёрст. Наша дивизия немногим уступает Четвёртой стрелковой деникинской, кою называют «железной», – радовался Антонов. – А твой полк выше всяких похвал. Пленных целый батальон захватили. Кроме того восемь пулемётов взяли, а в рапорте они почему-то не указаны.
– Самим сгодятся. Машины отлаженные и готовы к применению, – оправдался Дубасов. – Намного полезнее того ордена, что получил бы за них. Однако Третий батальон Тринадцатой дивизии генерала Деникина, под командой капитана Тимановского обошёл меня, первым прорвав на своём участке шесть линий опутанных проволокой неприятельских позиций. А какой-то разнесчастный прапор Егоров с десятью разведчиками, скрытно пробравшись в тыл неприятеля, заставил сложить оружие венгерский батальон, взяв в плен двадцать три офицера, восемьсот нижних чинов и четыре пулемёта, отразив ещё при этом конную атаку вражеского эскадрона. Вот герой – так герой! Даже я это признаю. Чего же он, интересно, в Буффе крушил? – задумался подполковник.
25 мая железные стрелки Деникина ворвались в Луцк. Их активно поддерживала и дивизия, где начальником штаба был Сергей Васильевич Антонов.
– Представь, – в перерыве между боями друзья пили чай в каком-то доме без крыши. – Каледин сказал нашему комдиву, что генерал Брусилов планировал стремительную атаку двух конных корпусов, что торчат сейчас где-то в Полесье, по водным преградам, болотам и перепутанной колючей проволоки, с ходу взять Ковель. Но кавалерии это оказалось не по зубам. Лучше обстояли дела у двух пехотных корпусов. Упорными трёхдневными боями они отбросили за Стырь Второй австро-венгерский корпус, одержав на этом направлении лишь тактический успех. Оказалось, что полная победа ждала русскую армию на луцком направлении.
– А чему тут удивляться? – отхлёбывал именуемый чаем, слабо заваренный кипяток Дубасов. – Здесь же мы с тобой воюем. Это гвардия в резерве прохлаждается, – вспомнил Рубанова.
– Зато без наград останутся. Уже некоторые итоги подбили, – выплеснул остатки чая в угол избы. – Согласно статистическим отчётам генштабистов, в Луцком сражении трофеи нашей армии составили пленными девятьсот с лишним офицеров, почти сорок четыре тысячи нижних чинов, шестьдесят шесть орудий…
– Число дьявола, – успел вставить Дубасов. – Может, мы его разоружили?
Пропустив гипотетическую сентенцию приятеля мимо ушей, Антонов продолжил перечень:
– Семьдесят один миномёт и бомбомёт, а так же полторы сотни пулемётов. Думаю, что это не все, – укоризненно глянул на друга. – И шёпотом, не для посторонних ушей, комдив поведал, что бо'льшая часть неприятельской артиллерии – чуть не триста пушек и мортир, могла бы стать нашей, ибо осталась без прикрытия за гибелью либо бегством своей пехоты. Но вся наша конница гарцует по брюхо в воде по ковельским болотам, и потому некому, как пишут поэты: пожать плоды победы. На луцком направлении находится лишь Двенадцатая кавалерийская дивизия. Её начальник барон Маннергейм просил Каледина разрешить преследование разгромленного врага, но получил отказ.
– Недаром офицеры говорят, что став главными военачальниками, Брусилов с Калединым забыли, что были когда-то кавалеристами… Ефимов. Петька! Ставь ещё чайник, – распорядился Дубасов.
– К сожалению, штаб Юго-Западного фронта, как сообщил мне приятель, стал отказываться от нанесения главного удара на луцком направлении, согласуясь с требованием генерала Алексеева предварительно разделаться с Ковелем. Боюсь, что эта победа станет нашей кровавой Лебединой песней в Великой войне, – закашлял Антонов, приложив к губам платок. – А число дьявола – три шестёрки, потому навряд мы его разоружили.
Вскоре Россия узнала из газет, что количество пленных, захваченных четырьмя армиями генерала от кавалерии Брусилова составило: 24 мая – 41 тысяча человек; 26 мая – 72 тысячи; 28 числа – 108, а 1 июня перевалило за 150 тысяч человек.
И это всего за неделю боёв.
Но сказывались неиспользованные возможности Луцкой победы.
Неприятель спешно подтягивал войска, снимая их откуда только возможно.
В начале лета уже 8-й армии пришлось отбиваться от яростных атак 18 австро-венгерских дивизий.
– Весело живём, – не унывал Дубасов. – Чаю попить некогда.
– Держись, – поддерживал его Антонов. – Наш главком направил Каледину только что подошедший Двадцать третий корпус. Так что скоро полегче будет.
Так и получилось. К 10 июня положение 8-й армии стабилизировалось.
К 12 июня – за три недели боёв, армии Юго-Западного фронта взяли в плен свыше 4-х тысяч офицеров, около 200 тысяч солдат, 400 с лишним орудий, миномётов и бомбомётов и 650 пулемётов. Причём пулемёты большей частью оставляли у себя, не указывая в отчётности, переделывая их потом под русский патрон, и сдавая лишь неисправные.
В середине июня ведение контрнаступления на русскую 8-ю армию кайзер поручил лично фельдмаршалу Гинденбургу.
Особенно жестокое сражение разгорелось у Затурцев, где вёл бой 10-й германский корпус. Его лучшая брауншвейгская Стальная 20-я пехотная дивизия была практически сокрушена русской Железной 4-й стрелковой.
Поражённые таким отпором брауншвейгцы, бахвалясь, вывесили на передовой линии плакаты: «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, но мы его разобьём».
Обидевшись, стрелки 4-й дивизии вывесили ответ: «А ну попробуй, немецкая колбаса».
Дубасов страшно завидовал деникинцам.
– Васильич. Посоветуй комдиву назвать нашу дивизию бетонной. Даже – железобетонной. Ведь мы не хуже 4-й стрелковой дерёмся.
Выдержав австро-германские контратаки, 22 июня генерал Брусилов вновь перешёл в наступление 3-й и 8-й армиями на Ковель, как того требовал начальник штаба Ставки Алексеев.
– Господа казаки, наконец-то начальство решило задействовать кавалерию, – собрал командиров полков начальник Забайкальской казачьей дивизии. – Нам поставлена задача – атаковать населённый пункт Маневичи. Смотрите не подведите.
– За Первый Читинский головой ручаюсь, – поднялся со своего места Ковзик.
– Господин войсковой старшина, а где полковник Шильников?
– Болеет, ваше превосходительство. Пока я его замещаю.
– Принято к сведению. Слава Богу, командиры Первого Верхнеудинского и Первого Аргунского находятся в здравии. Передайте казакам, господа, что георгиевские кресты висят на пушках, а не на пулемётах. Вот чего в первую очередь следует захватывать у врага. Ну и, разумеется, побольше пленных. Особо ценятся офицеры. А сейчас, по русскому обычаю, рюмочку за победу, и ступайте готовить подразделения к наступлению.
Перед боем казаки надели чистые рубахи, попрощались друг с другом, наказали товарищам, если что случится, письма родным отправить, а себе забрать часы, Ваське передать серебряный образок, а Мишке – кинжал с наборной рукоятью: « Всю войну, с тех пор, как убыли со станции Даурия первого сентября четырнадцатого года в Четвёртую армию генерала Эверта, являвшегося наказным атаманом Забайкальского казачьего войска, на кинжал завидует, собачий сын. Пусть заберёт и вспоминает меня…»
– Храни Вас Бог, господа казаки, – сидя на коне перед строем, произнёс Ковзик. – Шашки вон! – скомандовал он, тоже выхватив из ножен оружие. – Намётом… В атаку… Марш! – повёл за собой полк.
Командир читинцев остался руководить подразделением на наблюдательном пункте.
Конница молниеносно перестроилась и, развернувшись в лаву, перешла на галоп.
С посвистом и гиканьем казаки пошли в атаку.
С двух сторон от Первого Читинского ринулись в бой верхнеудинцы и аргунцы.
Навстречу Читинскому полку намётом шла австрийская конница.
Размахивая шашкой, на Ковзика с криком нёсся крепкий кавалерийский офицер. Приблизившись, он чуть перегнулся вправо, готовясь к рубящему удару, но был сметён с коня хлёстким выпадом клинка Ковзика. Второго кавалериста войсковой старшина, поразил выстрелом из револьвера через голову своего коня.
Казаки яростно рубились с австрийскими уланами, вскоре обратив вражескую кавалерию в бегство, и на их плечах влетели в Маневичи.
В этом бою забайкальцы взяли в плен командира уланского полка, коим оказался раненый Ковзиком кавалерист, помимо него ещё 26 офицеров и 1400 нижних чинов. Кроме того – 2 бомбомёта, 9 пулемётов и к ним 41 зарядный ящик, а самое главное, к зависти сослуживцев, 1-й Верхнеудинский полк захватил 2 орудия.
Как потом подсчитали штабисты, 16-й уланский Новоархангельский полк, принимавшей участие в атаке на противника, взял в сражении 13 пушек, уступив 7 из них помогавшему в бою 397-му пехотному Запорожскому полку. Черниговские гусары отбили у врага 3-х орудийную тяжёлую батарею. Всего же в сражении с 22 по 26 июня на Стоходе войсками 3-й и 8-й армий захвачены: 671 офицер, 21145 нижних чинов, 55 орудий, 16 миномётов и 93 пулемёта. Урон австро-германцев превысил 40 тысяч человек.
Блестящие возможности остались неиспользованными – у Брусилова не оказалось резервов, чтоб бросить их в бой.
Лишь 26 числа Алексеев, с горечью поняв, что генерал Эверт найдёт любые причины, лишь бы не наступать, своей директивой перенёс главный удар с Западного на Юго-Западный фронт, промедлив, таким образом, почти на месяц, и подарив неприятелю эти драгоценные дни, за которые тот подтянул резервы, превратив долину Стохода и Ковельский район, и без того богатые естественными преградами: озёрами и болотами, в неприступную крепость.
Так закончилось знаменитое Брусиловское наступление, в результате которого к июню были разгромлены австро-венгерские армии, а к июлю практически сокрушены лучшие войска кайзера, оставив в руках русских 272 тысячи пленных и 312 пушек.
Июльские сражения к нему уже отношения не имели, хотя цель оставалась прежней – взятие Ковеля.
Россия ликовала.
Со всех концов в штаб Брусилова летели письма и телеграммы. От великих князей и простых людей.
По телефону поздравил начальника Юго-Западного фронта и император.
Великий князь Николай Николаевич прислал из Тифлиса короткую телеграмму: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю».
«Суворовский стиль письма, – расчувствовался генерал. – А вот и послание председателя Земского союза князя Львова. Шпака за версту видно, – улыбнулся своим мыслям Брусилов. – Пишет напыщенно, длинно и велеречиво, – однако, с удовольствием прочёл послание: «Ваш меч, тяжёлый, как громовая стрела, прекрасен! Молнией сверкнул он на Западе и осветил радостью и восторгом сердце России. Наши взоры, наши помыслы и упования прикованы к геройской и несокрушимой армии, которая с великими жертвами, полная самоотверженности, сметает твердыни врага и идёт от победы к победе. С восторгом преклоняясь перед подвигами армии, мы одушевлены стремлением по мере всех своих сил служить ей и, чувствуя в эти дни Вашу твёрдую руку, глубокую мысль и могучую русскую душу всем сердцем хотим облегчить Вам, Ваше почётное славное бремя». – Хотя финал послания не совсем понял, но этот главком, тьфу, председатель всех русских земств, удивительно приятно и правдиво всё описал. Отправлю-ка ему ответ, – уселся за стол и, макнув перо в чернильницу, задумался, почёсывая мизинцем то бритую щёку, то седую щёточку усов. – Государь величает Алексеева: «мой косой друг», – с иронией подумал царский генерал-адъютант. – А меня, как доложил один доброжелатель, назвал: «генерал в резиновых калошах». – Ну, нравится мне в них иногда щеголять, что поделаешь? Папаха, лампасы и калоши – суть генеральского отличия от простых смертных офицеров», – склонившись, быстро написал: «Опираясь на могучий непоколебимый дух армии и при духовной поддержке всей России, глубоко и твёрдо надеемся довести победу до полного разгрома врага. От всего сердца, горячо благодарю Вас за истинно-патриотическое приветствие и приношу Вам и всему Земскому союзу мою искреннюю благодарность за приветствия и пожелания».
Взяв кипу газет, пересел на диван и стал просматривать напечатанные дифирамбы о своей победе. Через полчаса, положив бумажные листы на колени, задумался, вспомнив слова другого доброжелателя – после победы их стало удивительно много: «Самый грустный в Ставе – это генерал Иванов, который шепчет по углам, что успех Брусилова – здоровенный гвоздь в крышку его гроба», – улыбнулся командующий Юго-Западным фронтом.
«Нельзя наступать, нельзя наступать, – кого-то передразнил он. – И у Эверта с Куропаткиным обострился хронический недуг, именуемый «синдром Сальери» – запредельная зависть к чужому успеху. У самих-то ума не хватает побеждать».
23 июня располагавшийся у местечка Молодечно Павловский полк торжественно встретил прибывшее из Петрограда под командой полковника Гороховодатсковского пополнение.
– Человеческий материал совершенно сырой. Кроме строя, маршировки и отдания чести ничему не обученный, – поздоровавшись с Акимом, Ляховским и Платоном Благовым, сообщил он однополчанам. – Пал Палыч, доказывая свою невинность…
– Невиновность, – поправил его Рубанов.
– Какая разница… Сбил с мысли… Ага… Валит всё на не нюхавшее пороху тыловое начальство… И передаёт вам горячий фельдфебельский привет.
– Ну, я-то, положим, не знаком с вашим легендарным сверхсрочнослужащим, но лишний привет в хозяйстве не помешает, – пожал руку полковнику главный полковой связист. – Амвросий Дормидонтович, я вам, если помните, книги заказывал купить.
– Ох, уважаемый Платон Захарович, помню, что вы рождены для служения высшей гармонии… Оправдаюсь в стихотворной форме:
Когда-то был я молод и не слаб.
Любил я книги, выпивку и баб.
Прошли года, я постарел и сник,
Теперь, конечно, стало не до книг.
После не очень бурных аплодисментов и смеха, офицеры направились к небольшому кирпичному дому, где жили и столовались у местного купца.
Махлай с чего-то бурчащим Барашиным, тащили за ними громоздкие чемоданы.
– Дети мои, ежели предстоит нешуточная борьба с зелёным змием, я вам непременно окажу посильную помощь. Злой нынче на него – страсть, – вопросил в основном у приехавшего из Питера Гороховодатсковского отец Захарий, случайно столкнувшись с подозрительной компанией.
Офицеры, как один, устремили, по мысли святого отца: «алчущие взоры» на полковника.
– Непременно помогите, господин аббат, – ухмыльнулся тот, оглянувшись на нижних чинов с чемоданами в руках. – Твой отец, Аким Максимович, передал тебе презент, состоящий из пяти бутылок коньяка со слоном на этикетке. И я кое-что прикупил в винном магазине господина Смирнова.
– Ну да! Вам стало только ни до книг, – подытожил связист.
– Амвросий Дормидонтович, Христом Богом прошу, не называй меня аббатом, – насупился отец Захарий. – Я – православный священник, а не какой-то там католический ксендз.
– Принято! Тогда стану называть вас: адъютант Господа Бога.
Так и провоцируете нарушить одну из десяти библейских заповедей…
– Ту, что гласит, вернее, вопиет: не пожелай жены ближнего своего? – вступил в религиозную полемику Гороховодатсковский.
– Нет! Которая – не убий! – сурово глянув на полковника, уточнил отец Захарий, вызвав улыбки на лицах офицеров. – Это ты, сын мой, произнесённую тобой заповедь без конца повадился нарушать… Пришли, слава Богу. Вот ваше стойбище, неразумные чада мои.
– Питер, несмотря на войну, не меняется, – сидя за скромно накрытым столом, делился впечатлениями после вояжа Гороховодатсковский. – Так же шастают лоточники с накрытыми от пыли белой материей, лотками, во всю глотку вопя: «Пышки-и! Горячие пышки», – перепугал святого отца зычным басом, имитирующим голос торговцев пышками.
– Свят, свят, свят, – перекрестился священнослужитель. – Зело горласт ты, как выпьешь, сыне. Чего-то я не распробовал слоновьего напитка, – налил в чайную чашку коньяк.
– Ещё порция, святой отец, и вы в землемеры засобираетесь, – предупредил полкового капеллана Рубанов. – А я мороженщиков не люблю, – не чинясь, налил по стопкам коньяк. – Вот уж горластые черти, не к ночи будь помянуты…
– Друг мой, что за порочащие связи вы имели по ночам с мороженщиками? – весьма заинтересовался Гороховодатсковский.
– Преступные. Умысливал после их ночных воплей нарушить библейскую заповедь…
– Не пожелай питерского мороженщика? – заржал быстро опьяневший с дороги полковник.
– Её давеча отец Захарий озвучил. Как родители поживают, лучше расскажи. Наверное, и моего сына видел?
– Сын скучает по тебе. Минуточку. Где там вещмешок? – поднявшись, прошёл в угол комнаты, притащив к столу чемодан и, склонившись, раскрыл его. – Вот. Передал тебе собственноручный рисунок самолёта и открытку под названием «Зимний путь». Летнего пути не нашлось, видимо, – протянул Акиму лист с рисунком и открытку.
Чуть не со слезами на глазах прочтя на обратной стороне написанные корявым почерком Максимки строки о том, как он скучает и ждёт отца, Аким бережно убрал рисунок и открытку с нарядным ямщиком на санях, мчащихся по деревенской накатанной дороге с засыпанными снегом крышами домов по краям, во внутренний карман мундира.
– Отец, окромя коньяка передал четыре чарки в виде павловских гренадёрок, а маман – серебряный подстаканник с гравировкой «Война 1914 – 1915», – продемонстрировал вещицу, – а так же десять круглых металлических коробок монпансье с изображением унтер-офицеров лейб-гвардии Павловского полка.
– Берите по одной, господа, а остальные унтерам и фельдфебелям подарю.
– Но это ещё не всё, – покопался в чемодане, выудив оттуда три серебряных портсигара с царскими вензелями на крышках. – Твой папа' велел преподнести сии вещицы лучшим друзьям.
– Вот и берите по портсигару. Отец Захарий не курит, ему лишнюю порцию коньяка в гренадёрскую чарку нальём.
– Господа, если бы вы знали, с какой женщиной я познакомился в Питере, то обзавидовались бы… Шикарная голубоглазая блондинка с пышной причёской, в узкой облегающей юбке, современного стиля «модерн», и громадной шляпе.
– Модерн какой-то облегающий, – возмутился отец Захарий. – Петрарка годами воспевал Лауру, даже во сне не отваживаясь заглянуть ей под подол.
– Об этом история умалчивает, куда Петрарка нос совал. А вы, святой отец, поймёте весь колоритный шик фигуры, когда землемером станете, – урезонил священнослужителя полковник. – В Буффе её встретил, – продолжил воспоминания. – В компании хлыщей сидела, что земгусарами сейчас зовутся. Поменяли, штафирки, чесучовые пиджаки на гимнастёрки, а шляпы на фуражки, и думают, будто из рябчиков в благородных военных превратились. А сами также торчат на дачах, устраивают концерты и спектакли, манкируя своими обязанностями, и лишь изредка вспоминая, что уже не чиновники, а вроде как находятся на военной службе. На дачах, правда, переодеваются в привычные парусиновые костюмы и соломенные шляпы. Кто пофатоватее – щеголяют в светлых однобортных пиджаках и узких брюках, иногда со штрипками. Под расстрелом такие бы не надел. А некоторые жуиры наоборот, расклешённые носят – последний писк питерской моды.
– Клешёные штаны, прости Господи, носят? – плеснул в гренадёрскую чарку коньяка отец Захарий. – Нет, по всему видно, священнослужителем останусь, – выпил выстраданную порцию.
– Истину говорите, ваше преосвященство. А ещё землемеры любят вырядиться в серые брюки со светлой полоской, а к ним белые штиблеты надеть… Ряса намного элегантнее смотрится.
– Ты отвлёкся, Дормидонтыч, от матрёшки в шляпе, – напомнил опьяневшему полковнику Рубанов, только сейчас подумав, что совершенно забыл спросить у Гороховодатсковского о жене: «Наверное, на санитарном поезде укатила, а то бы сообщил, что с Ольгой общался».
– Какая матрёшка, милостивый государь? Не сойти мне с этого места – настоящая баронесса. Молодая вдова и наследница огромных капиталов.
– Везёт же людям, – позавидовал связист Благов.
– А кому именно? – стал уточнять Рубанов: – Молодой вдове или Гороховодатсковскому?
Но полковник, вспоминая своё, сугубо полковничье, не обратил внимания на неэтичный диалог товарищей, продолжив повествование.
– Как вы знаете, судари мои, за год или два до войны, к торцу веранды в Буффе была пристроена сцена, на которой сейчас даются дивертисменты. Я, ничтоже сумняшеся, решил посетить ревю…
– Чего-о? – вопросил Благов.
– Нисколько не сомневаясь, – старославянское словосочетание, – шёпотом, дабы не сбить с мысли рассказчика, перевёл поручику полковничьи словеса отец Захарий.
– Да я про сцену, – ответил ему главный полковой связист.
– … Помню, сначала пел цыганский хор, затем выступали негры с дурацкой чечёткой, следом – фокусники, и наконец – французские шантанные певицы… У-ух! Одна мне весьма приглянулась… Такая вся… Куда же вы, отец Захарий? – посмотрел на уходящего священника, прихватившего со стола непочатую бутылку коньяка.
Почесав затылок, подсуетился, тут же восполнив убыток четырьмя полуштофами «Смирновской».
– Так на ком я…
– Пока ни на ком, а на чём, – уточнил молчаливый сегодня Ляховский. – Французские проститутки на сцену вышли, – напомнил он рассказчику.
– Ну, право, господин капитан, вы утрируете… Хотя… Я уже собрался было приглянувшейся пассии из кордебалета послать через метрдотеля визитку, чтоб артисточка разделила со мной ужин в отдельном кабинете, что предусмотрительный Тумпаков устроил на втором этаже, но тут как током ударило…
– Это унтер-офицер Махлай в проводке чего-нибудь напутал, – на вся- кий случай снял с себя вину начальник полкового подразделения связи.
– Сразу видно, что вы, Платон Захарович, хотя и рождены для высшей гармонии, но кроме уличной шарманки ничего путного не слышали, – обиделся на офицера полковник. – Так и норовите меня перебить. Никакой дисциплины в русских войсках не стало. Вот тому пример: Как-то иду по проспекту при полном параде – вся грудь в орденах, а навстречу троица матросская в форменках и чёрных клешёных брюках прёт, в упор не обращая на меня внимания и не думая честь отдавать. Ржут о чём-то своём на весь проспект. Я им – замечание. Один из них, горбоносый такой, взъярился: «Я трижды триппером болел, а ты меня учить вздумал!?» – послал меня на тур. Меня! Боевого полковника. В жизни нижних чинов пальцем не трогал, а тут не утерпел. С таким удовольствием этого морячка, на француза похожего, по носу приложил – что, куда бескозырка, куда этот брюнет носатый полетел, чего-то с французским прононсом в полёте прокартавив. В компанию ему и двух других на мостовую отправил. Полковнику ещё хамить будут и руками махать… Неподалёку несколько солдат стояли, но даже не подумали офицеру помочь. Патруль не стал ждать – жалко сверчков полосатых. Ведь моментом в дисбат загремят, канальи. Бросил испачканные замшевые перчатки на бренные тела и дальше пошёл. Не стало дисциплины в столице Российской.
– А с дамой в шляпе как познакомились, Амвросий Дормидонтович? – сгорал от любопытства Благов.
– С какой ещё дамой? – в растерзанных от воспоминаний чувствах, сжимал и разжимал кулаки Гороховодатсковский. – Ах, да! – тут же успокоился, вернувшись к приятной теме. – Встретился мужественным взором с голубыми глазами красавицы и понял, что всю жизнь искал лишь её, – мечтательно улыбнулся полковник.
– На фоне штафирских земгусаров, господин Казанова, вы выглядели, думаю, весьма героически, – пряча в глазах иронию, польстил другу Рубанов.
– Ясное дело! – расправил орденоносную грудь Гороховодатсковский, не став выяснять про Казанову. – И в результате провёл ночь на шикарной даче в Дудергофе. Там и остался жить, наведываясь в Питер лишь по делам службы. После палаток и сельских домишек – огромный кирпичный дом, куда ведёт широкая каменная лестница, окаймлённая по краям начищенными, как на корабле, медными вазонами с розами. Тьфу, нигилисты! – вспомнил наглых питерских моряков. – А за домом – сад с гамаком и кортом, где играли с красавицей в лаун-теннис. Затем принимали ванну. Единственно, что бесило меня после встречи с моряками – это похожий на них здоровый чёрный пёс, всё время торчавший на волчьей шкуре перед кроватью. Смотрит и смотрит на нас дурацкими злыми глазищами, теребя при этом лапами волчью шерсть.
– Неужели когда-нибудь собаки победят волков? – неожиданно для себя воскликнул Рубанов.
Через несколько дней в штаб гвардии пришёл приказ Ставки – по железной дороге выдвигаться из Молодечно на Юго-Западный фронт, а начальник гвардейской группы Безобразов со своим начальником штаба генералом Игнатьевым, вызывались Брусиловым в Бердичев на совещание.
– Господа, – поздоровался главком Юго-Западного фронта с прибывшими генералами. – Поздравляю вас с предстоящим наступлением. Владимир Михайлович, мне известно ваше мнение, что гвардию следует беречь для крупных задач и не трепать её по мелочам, потому как это не только «ударное» войско, но и оплот престола…
– Так оно и есть, Алексей Алексеевич. Наполеон в двенадцатом году отказался двинуть гвардию в битве при Бородино, хотя вероятность победы в результате этого была бы очень высока. А у нас под задрипанной Сморгонью, видимо, чтоб медведей защитить, за два месяца боёв угробили цвет гвардии. В Измайловском полку после боевой страды насчитывалось чуть больше восьмисот солдат и десять офицеров. А сейчас в полках вновь стало по три тысячи человек. В некоторых и больше. Благодаря приказу государя, гвардейские войска пополнились выздоровевшими ранеными, закалёнными прошлогодними боями. Они-то и прививают молодым необстрелянным солдатам гвардейский дух.
– Одного духа мало, Владимир Михайлович. Ещё и выучка требуется, – язвительно хмыкнул Брусилов. – Как мне известно, за несколько месяцев стоянки в резерве, гвардейцев готовили так же, как перед войной в Красносельском лагере, совершенно не преподавая новые, выработанные боями, тактические приёмы. Зато они идеально ходят Александровскими колоннами, словно на юбилейных парадах последних предвоенных годов.
– Алексей Алексеевич, у вас, извините, какое-то предвзятое отношение к гвардии, – обиделся за свои войска Безобразов.
– Не предвзятое, Владимир Михайлович, а реалистичное. Я ничего не имею против гвардии, но только хочу сказать, что её обучали по канонам мирного времени и с минимальным опытом фронта. Ну что ж, господин генерал-адъютант, через несколько дней немцы рассудят, кто из нас прав, а сейчас пройдёмте в оперативное отделение, где на большой стенной карте я покажу намеченный мною, и утверждённый генералом Алексеевым, участок ваших боевых действий.
– То есть, какая-либо полемика неуместна и всё за нас с Игнатьевым уже решено, – нахмурился Безобразов, но Брусилов проигнорировал его выпад, взяв указку и водя ею по карте.
– Господин генерал-адъютант, – официальным уже тоном, без дружественных ноток в голосе, произнёс главнокомандующий, давая понять, что именно он здесь всем руководит, а остальные должны беспрекословно подчиняться его решениям. – На этом участке вашим войскам предстоит сменить полностью вымотанный в боях Тридцать девятый корпус, – сурово, не терпящим возражений взглядом, оглядел прибывших генералов. – Помимо входящих в вашу группу: Первого гвардейского корпуса под командой дяди императора великого князя Павла Александровича, Второго гвардейского корпуса, а также гвардейской и армейской кавалерии, вам приданы для усиления опытные Первый и Тридцатый армейские корпуса. Чем вы недовольны, уважаемый господин Безобразов? Отчего у вас столь едкий вид лица? – поставил длинную указку к ноге, словно солдат винтовку.
– Не едкий, ваше превосходительство, а сардонический, – изволил пошутить главный гвардейский начальник. – И отчего мой вид должен быть не желчный, коли вы посылаете гвардию наступать по открытой и плоской, как доска, полосе Суходольских болот, затем велите форсировать глубокую реку с высоким и обрывистым левым берегом, на котором закрепился враг, сбить его и гнать по лесисто-болотистым дефиле до самого Ковеля. Этот гнилой участок реки Стоход с её широкой болотистой долиной неприятель может защищать малыми силами. К тому же у него преимущество в тяжёлой артиллерии и авиации, – недовольным голосом произнёс Безобразов. – Вновь повторится Сморгонь и от гвардии останется пшик.
– Вы ещё в бой не пошли, а уже запаниковали, – улыбнулся, отчего-то став довольным, Брусилов. – Где же ваш хвалёный гвардейский дух? – вновь ткнул указкой в карту. – Это уже не обсуждается, Владимир Михайлович. Ваша задача – свежей ударной массой прорвать фронт противника и взять Ковель. Всё! Гвардейская группа выдвинется между Третьей и Восьмой армиями. Гвардия – таран, а две названные армии станут обеспечивать главный удар с флангов. Дата наступления – десятое июля.
Недовольный Безобразов даже не остался обедать, сразу после совещания отбыв в свой штаб.
Гвардия 6 июля, как ей было предписано, сменила в заболоченных окопах 39-й корпус генерала Стельницкого и стала обживаться и готовиться к наступлению.
– Господин мастер любовных интрижек, – ввёл в задумчивость – почётно это или нет, своим обращением Гороховодатсковского Рубанов. – Коли возникла оперативная пауза с дамами и на фронте, то следует поднатаскать новобранцев по вопросу штыкового боя и привить хотя бы элементарные навыки действий при прорыве многорядных окопных полос, со всех сторон перевитых колючей проволокой. Уверен, Палыч им это не преподавал. Леонтий, – увидел проходящего мимо Сидорова. – Озадачь взводных и старослужащих передачей боевого опыта пополнению. Только Барашина к ним не подпускай. Тут же внесёт во вновь прибывшую солдатскую массу упадочническое настроение, хотя и георгиевский кавалер.
– Так точно, – улыбнулся Сидоров. – Трофимка опять ногу подвернул, в окоп прыгая – вражеский аэроплан померещился, а то проезжающий муфтабиль звук мотором издавал. Таперя, чтоб, значится, вражескую авиацию не привлекать, обучает прибывшее пополнение накрывать трубы окопных печей мешками, дабы дым не поднимался к небу столбом, а над землёй стелился. К тому же велел им сена раздобыть, чтоб, значится, мягче отдыхать было. Ежели бы так самолётов не пужался, вполне приличным командиром отделения был бы, – козырнув полковнику, направился исполнять приказ.
– Сухозад, Дришенко… Тьфу. Всю роту своими фамилиями поганите. Батальонный велел занятия с молодыми проводить. Строевая подготовка не нужна, Пал Палыч их обучил, – иронично хмыкнул фельдфебель, – а вот штыковой бой непременно нужон. И окопному делу обучайте. Прежде на ящике с песком. Пусть линию окопов проведут, из ниток и палочек проволочные заграждения делают, и кумекают, в которых местах лучше их пересекать. Потом ножницы возьмёте и на практике покажете, как проволоку резать и по доскам через неё перебираться. Действуйте, братаны мои ананасные.
Через пару часов пришёл проверить, как взводные командиры проводят занятия.
Дришенко, прохаживаясь перед стоящим по стойке «вольно» взводом и временами щёлкая ножницами для резки проволоки, нравоучительно вещал:
– Перед проволочными заграждениями положено выставлять караулы и секреты. Причём секреты выставляются в точно определённых местах и отличаются от караула тем, что в них три, а в карауле – семь архаровцев. Передохнули, братаны мои ананасные? Теперь айда снова проволоку резать.
Неподалёку Сухозад, обняв измочаленное штыками, привязанное к столбу несчастное чучело в драной фрицевской форме и ржавом детском горшке на голове вместо каски, стоя перед взводом, тоже занимался «словесностью».
– У своих проволок хитрожопые гансы часто устанавливают дистанционные огни – те ещё химики. Насыпают, гады, специальный порошок в герметично закрытые стеклянные трубочки, и закапывают их у поверхности земли, а то и вовсе песком присыпают. У Сморгони так делали. Наши секреты ночью идут языка брать, хрясть, наступили… лучше бы в дерьмо… Трубочка лопается под сапогом, вспыхивая, будто небольшой прожектор, снопом яркого света от реакции порошка с воздухом… А так как в трубочках порошок неодинакового состава, то она и огонь даёт разного цвета. Ихние дежурные пулемётчики палят в направлении огненного столба на соответствующую его цвету дистанцию.
– Это как? – задал вопрос один из нижних чинов.
– Очень просто. Ежели, к примеру, видят красный, то шмаляют на семьдесят саженей, а ежели синий, то палят на сто. И крантец! Нет нашего секрета. Рассекретился…
Постояв некоторое время рядом с фельдфебелем и понаблюдав, как идут занятия, Рубанов решил в одиночестве прогуляться по новым местам, внутренне оправдав себя тем, что проведёт рекогносцировку местности.
Бродя по реденькому лесочку, случайно наткнулся на густо заросшее у берега камышом озерцо.
«Будто в рубановском лесу», – улыбнулся своим мыслям, неспешно пробираясь вдоль берега и выйдя на небольшое расчищенное место с мостками из почерневших гнилых досок, на несколько саженей нависающих над озёрной водой.
Сняв сапоги, уселся на них с краю и ахнул, увидев в серёдке озера белые кувшинки. Болтая в прогретой воде ногами, задумался, любуясь кувшинками и таинственно поблескивающей сквозь лучи солнца озёрной водой рядом с ними, неожиданно вспомнив Натали.
«Оказывается, я скучаю о ней? – удивился он. – Вот уж напрасно. Она жена моего брата… Но как хочется увидеть её», – поднявшись, прошёл по скрипящим мосткам к утлой полусгнившей лодчонке с дырявым дном.
Безжалостно шуганув взбирающуюся по днищу толстую лягушку, уселся на лодку и, обтерев платком ноги, стал надевать сапоги.
А ночью ему сладко снилась Натали. Будто был исход лета – август, а она стояла под дождём не в одежде сестры милосердия, а в светлом летнем платье, что носила до войны, держа над головой в белой шляпке, белый, в кружевах, зонтик, и задумчиво любовалась небрежным падением жёлтых листьев с влажных деревьев, а рядом любовался хозяйкой промокший, сливающийся с листвой, светло-рыжий Трезор.
Натали, погладив собаку, бросила зонт на блестевшую от дождя зелёную траву, затем, сняв шляпку, не глядя, кинула её в сторону зонта, и, растрепав уложенную причёску из волны чёрных волос, замерла, подняв руки к небу, будто что-то вымаливая у него.
«Что она просит у Бога?» – подумал он, и ему послышалось или показалось, что губы её шепчут: «Люблю… Люблю… Люблю…»
Решившись, и не думая, что кто-то увидит их, подошёл к ней и мягко прижал к себе безвольное женское тело, почувствовав на своих плечах отчего-то горячие руки Натали, а губы её всё шептали: «люблю…», и он нежно коснулся их своими, ощутив исходящую свежесть осени, капельки дождя и вкус вишни.
«Хочу вишни!» – проснувшись, подумал он.
На 10 июля было запланировано наступление.
Но как из ведра, а то и бочки, хлынули дожди, и приехавший с приказом из штаба армии подполковник, довёл до сведения командира Павловского полка, что наступление переносится на 15 число.
– Растёте в чинах, – случайно столкнувшись с Акимом, пожал ему руку приезжий. – А то всё штабистов «моментами» называют.
– В генштабе «моменты», а у нас «мэменто мори», что в переводе с латыни: «помни о смерти», доброжелательно поздоровался с давним знакомцем Рубанов. – Я вас ещё вот таким штабс-капитаном помню, – опустил ладонь до уровня колен. – А сейчас вы уже – во! – переместил ладонь к груди – подполковник.
Посмеявшись, вновь стали серьёзными.
– Ваш генерал к преображенцам поехал, а нам, Аким Максимович, предстоит к семёновцам визит нанести, и ещё раз обсудить совместные действия в будущем наступлении. – Приказ вашего командира полка.
– Да с удовольствием. Заодно и со знакомцами повидаюсь. Тем более, на штабном муфтабиле прокачусь, – пошутил он, собираясь в дорогу и передав Ляховскому распоряжения по батальону.
После совещания у командира Семёновского полка, как часто происходит в армейской обстановке, в штабной канцелярии случайно встретил Шамизона, неожиданно для себя поблаженствовав, когда тот вытянулся перед полковником, козырнув ему.
Добродушно, со словами:
– Вольно, вольно, господин подпоручик, снисходительно похлопал канцелярского воина по плечу. – Однокашники всё же, – вместе направились в роту Афиногенова.
– Представляешь, Аким, «Трижды А» тоже подпоручиком стал.
– Африкан Александрович в подпоручики жалован? – поразился Рубанов. – И не соблаговолил по телефону сообщить…
– Да ещё, как и я, «Станислава» и «Анну» третьей степени заслужил.
– Поздравляю. Настоящие герои стали.
– Благодарю. Но главный сюрприз – это Иван. Пока в резерве гвардия находилась, на прапорщика экзамены сдал, и сейчас в одном батальоне с Афиногеновым ротой командует.
– Вот это новость! – даже остановился Рубанов. – Ну Ванятка и даёт… Теперь не по чину так его называть, – улыбнулся он.
– А спорить стал пуще прежнего. Как втроём сойдёмся, бывает, до хрипоты кричим, свои политические убеждения отстаивая. Вам, монархистам, легче. Знаете свою триаду: «Православие. Самодержавие. Народность».
– Больше ничего и знать не надо… Какие ещё политические убеждения? – не успел развить мысль Рубанов, заметив спешащего им навстречу бывшего учителя и депутата, а ныне подпоручика Афиногенова.
– Не верю своим глазам, – на всякий случай вытянулся тот во фрунт. – Господин полковник.
– Вольно и отставить чинопочитание. Сейчас мы просто земляки, – за руку поздоровался с ротным командиром Семёновского полка, поздравив его с чином и наградами. – А где Иван?
– Сей момент вестового за ним отправлю. А пока милости прошу в мои пенаты, – указал на сарай с маленьким окошком. – У меня ещё одно жилище имеется – землянка. Но под землю лезть пока не хочется. Да и сыро там. Не местность, а сплошные болота. То ли дело у нас в Рубановке, – мечтательно закатил глаза. – Окромя второго жилища ещё и водка имеется… «Аква вите», звучит, родимая, по латыни, – похвалился он. – Или журчит…Надеюсь, больше не станете меня по телефону пугать? – засмеялся бывший педагог. – А то уже гномы мерещатся вкупе с эльфами…
Не успели разместиться за ящиком, выполняющим функцию стола, как вбежал запыхавшийся Иван.
– Ваше высокоблагородие, Аким Максимович, – обнял поднявшегося из-за импровизированного стола Рубанова. – Не чаял уже и встретиться, – смахнул непрошенную слезу.
– Поздравляю с первым офицерским чином, – шутя ткнул гиганта кулаком в грудь Рубанов. – А так же с двумя солдатскими крестами и двумя георгиевскими медалями.
– А вас с последним офицерским чином. Следующий – генеральский, – теснясь, расселись за ящиком.
На правах хозяина застолья, первым, с кружкой в руках, поднялся с табурета Афиногенов:
– Предлагаю поднять тост за «алтари и очаги», как охарактеризовал батюшка Цицерон войну за родину. Дословно: «про арис эт фоцис», – медленно выцедил свою порцию, простонародно, а не как сеятель доброго и вечного, кхекнув потом, и вытерев ладонью губы.
На скорую руку закусив, вновь поднялся с неразлучной кружкой, возгласив:
– Репетицио эст матер студиорум, что означает: повторение – мать учения. А теперь – за встречу…
Перечить и спорить никто не стал. Все дружно, соприкоснув на секунду кружки, выпили за встречу.
Через минуту, резво перекусив, неугомонный учитель вновь был на ногах, держа перед собой наполовину наполненную ёмкость.
– Африкан Александрович, остынь, – несколько остудил его пыл Рубанов, неспешно закусывая и вспоминая сопутствующую случаю фразу по латыни: – Живёшь по принципу: «Пэрикулюм ин мора», что означает: «опасность в промедлении», – наконец выдал он латинский афоризм.
– Да эти меньшевики вечно спешат, – цыкнул зубом Иван, дёрнув при этом щекой. – Их вождь Мартов, единожды, при выборе начальства на съезде партии, остался в меньшинстве, и тут же поспешил обозначить своих сторонников, как «меньшевиков», приняв, таким образом, заведомо проигрышное название, что стало крупным его просчётом. И хотя, в дальнейшем, сторонники Ленина зачастую оказывались в меньшинстве, они всё равно «большевики».
– Ну что ты говоришь, Иван?
– Я говорю, что Ленин сделал сильный политический ход.
– Это название, на мой взгляд, неформально, – разгорячился Афиногенов. – Мы именуем свою партию – РСДРП. А ты и вовсе – черносотенец. Главная ваша опора – деклассированные элементы: мелкие ремесленники, лавочники или приказчики с кистенями в руках. Как говорится: ответь мне, кто твои друзья, и я скажу – кто ты…
– Один умный писатель подметил: «Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречны…». Как учитель, должны бы знать, что супруга и дочь писателя Достоевского, активные черносотенки… И художник Васнецов, учёный Менделеев, а так же капитан крейсера «Варяг» Руднев. Мы гордимся, что русские… И православные… Русский – это язык и состояние души. Да, да, не улыбайтесь, Яков Абрамович. Русский тот, кто принял Православие. Считается, что вместе с верой, человек принял русскую систему ценностей. Пусть даже и не в смысле религиозности, а в смысле несущего веру в Россию. Русские – это цивилизация. Это свой Мир. И как бывший учитель, вы, господин подпоручик, знаете, что русский – прилагательное. Единственное из слов, обозначающих национальность. Это принадлежность к России. Все остальные нации обозначены существительными. Православие является стержнем русской нации. Главной её скрепой. Аким Максимович не даст соврать, что немцы, коих много в гвардейских полках, через два поколения жизни в России, считают себя более русскими и более патриотами, чем кровные русаки.
– Да, это действительно так, – вспомнил Зерендорфа Аким, мысленно перебрав названия наций и уяснив, что все они – имена существительные. То есть СУЩЕСТВУЮТ, пока русские к ним силу не ПРИЛОЖАТ…
Мысль ему понравилась: «Ну, Иван, совсем другим человеком стал».
– В народе бытует мнение, будто черносотенцы – погромщики, и ни за что убили думских депутатов Герценштейна и Иоллоса, что входили в ЦК кадетской партии, – вступил в диспут Шамизон.
– Уж не эсерам об этом говорить. Ваш Каляев в пятом году взорвал карету с великим князем Сергеем Александровичем, дядей императора.
Рубанов, нахмурившись, сурово глянул на Шамизона.
– То – давно минувшие времена. После Манифеста от семнадцатого октября пятого года, большинство, даже одиозный руководитель боевой организации Азеф, высказались за прекращение террора и роспуск БО. Лишь один Савинков с этим не согласился.
– Черносотенцы ликвидировали лишь двух депутатов, а ваша эсеровская братия осуществила сотни терактов, убив двух министров, три десятка губернаторов и семь генералов.
– Да когда это было? – взвился Шамизон. – Сейчас эсеры стоят за войну до победного конца, а также за свободу и демократию. Кто там ещё? – недовольно обернулся на стук в дверь, но тут же улыбнулся, увидев женскую фигуру в одежде сестры милосердия.
– Пгостите, господа, – несколько растерянно произнесла вошедшая. – Я, навегное, не вовгемя.
– Помилуйте, Ася, как можно, вы всегда вовремя, – поднялся из-за стола учитель, а за ним и все присутствующие.
– Знакомьтесь, господа, моя супруга и по-совместительству сестра милосердия в нашем полку, мадам Клепович, – представил жену Шамизон, и, подойдя к ней, склонив голову, коснулся губами дамской руки без перчатки. – Гордая и независимая женщина, – повёл её к импровизированному столу, – мою прекрасную фамилию брать не захотела, – усадил жену на раскладной стульчик рядом с Рубановым.
– Пгостите меня, – шепнула она ему.
– Да за что? – также тихо поинтересовался он.
– За того безногого солдата, над котогым мы издевались, – покраснев, опустила глаза. – Всю жизнь мне за это будет стыдно. Оттого и в сёстгы милосегдия пошла, чтоб свою вину пегед тем солдатом искупить. И вы тогда были пгавы, накгичав на нас.
– Разумеется, прощаю, – бережно взяв её руку, поднёс к губам, поцеловав тыльную сторону ладони, чем вызвал подозрительный взгляд однокашника. – Люди, оказывается, меняются, и не всегда в худшую сторону.
Вечером, после интенсивных дневных занятий, солдаты Павловского полка отдыхали, занимаясь, в меру имеющейся фантазии, своими делами: кто писал письма, кто стирал просоленные потом гимнастёрки, а кто просто, сняв сапоги и раскинув в стороны ноги-руки, валялся на травке или подстеленном под спину сене.
Одним словом наступила кратковременная армейская лепота.
Фельдфебель 1-й роты подпрапорщик Сидоров, сидя на широкой, выломанной из забора доске, задумчиво нюхал портянки, блаженно сгибая и разгибая пальцы на вытянутых ногах. Ум его напрягся от неразрешимой дилеммы – постирать, или ну их на…
Лежавший неподалёку Сухозад, глядя в небо, с удовольствием сосал леденец, держа перед глазами дареную начальством плоскую жестяную баночку с красочными унтерами Павловского полка на крышке, и размышлял, который из них похож на него. К глубочайшему огорчению, все три унтера смахивали ликом то ли на Артёмку Дришенко, то ли на Леонтия Сидорова: «Что за бесталанные художники их малевали? – затужил подпрапорщик, лениво перевернувшись на бок, чтоб перед глазами не маячил всамделишный фельдфебель Сидоров. – Вот уж ненужный вид этого… как его… творчества… Когда служил, по молодости лет, половым в трактире, сколько получил тумаков от хозяина за то, что обе висящие на стене картины, якобы в пыли, – разнервничавшись, вновь лёг на спину, и поперхнулся, встретившись взглядом с Сидоровым.
– Ты чего раскашлялся, Панфёр? – без интереса поинтересовался фельдфебель, вновь задумчиво нюхнув портянки и до сих пор не придя ни к какому, насчёт их, решению.
– Ландринку сглотнул, – прохрипел, усевшись, и стуча себя в грудь, дабы унять кашель, Сухозад: «А всё оттого, что рожу твою окаянную увидел, – подумал он, снова укладываясь на примятой траве: – на одной картине, как сейчас помню, изображены три медвежонка в таком же лесу, как здесь. На поваленное дерево, чертяки, карабкаются, а ихняя мамаша, как фельдфебель Сидоров за мной, наблюдает за меховым выводком. Хозяин, по свой неграмотности, называл картину «Три медведя», – захихикал, расслабившись, Сухозад. – До четырёх считать не научился, дядя, а на меня орать – тут как тут… всегда пожалуйста… хоть десять раз на дню: «Почаму, Панфёрка, три ведмедя' художника Шишкина в пылюке обретаются?» – и бац, бац… В результате на башке растёт новая шишка. До сих пор, как в каком доме копию этой картины увижу, штыком её, заразу, дербаню. А другая «Девятый вал» прозывалась, – язвительно, вспомнив неграмотного хозяина трактира, в голос уже засмеялся он. – Нет там девяти валов… Сколь не вглядывался, не нашёл их на этом, как его, полотне. Ну и дядя… Там уменьшил количество мишек, тут увеличил численность волн. Как же – хозя-я-яин… Что выгодно, то и насчитает… Зато на обломке мачты не медвежата малолетние, а похожие на трёх унтеров с коробки ландрина, мореходы. Слава Те Осподи, – перекрестился на заходящее солнце, – ни один из будущих утопленников со мной мордой не схож. А то ведь пятнадцатого числа тоже кое-кому из роты в реке предстоит потопнуть.
– Ты чего – то ржёшь, то крестишься? – подозрительно уставился на взводного командира фельдфебель. – Про меня чё-нибудь нецензурное подумал?
– Никак нет. Про художника одного… Даже двух. Уразумел чичас, что лучше камчадалом у фельдфебеля быть, чем мальчиком на побегушках в трактире.
– Ага! Мальчиком на поеб…х, – тоже развеселился фельдфебель, услышав голос вылезшего из блиндажа дежурного телефониста:
– С наблюдательного пункта передали: гость к нам вылетел – аэроплан гансы послали, – проорав сообщение, юркнул обратно в блиндаж Махлай.
– Ребята, маскируй место стоянки, – приказал подошедший Ляховский.
– Так и думал, что тать по мою душу прилетит, – завинтил фляжку с немецким трофейным напитком Барашин. – Не успеешь выпить – он уже тут.
– Так и думал, что постирать не успею, – быстро накрутил портянки и сунул ноги в сапоги Сидоров. – Чего разлёгся, Сухозад? В кусты скорее беги, – захрюкал, давясь смехом, ротный фельдфебель, и во всю глотку пронзительно затрубил: – Братцы-ы-ы, прячь веща-а, собирай с кустов портянки, гансы кума со шнапсом послали-и. Барашин, ты что летишь, как угорелый? Ведро прихвати и два медных бака – блестят на солнце, как у кота второй роты, причиндалы, – уцепив попутно приличную охапку сена, шустро полез в блиндаж к телефонистам.
Рубанов с Ляховским пережидали бомбёжку в офицерском блиндаже, потягивая чаёк и солидно обсуждая фронтовые новости.
– Командир полка из высших источников конфиденциально узнал, – поднял глаза к шести накатам потолка, Аким, – что гансы перебросили сюда из-под Вердена огромное количество авиации.
– Это чувствуется, Аким Максимович. Сейчас начнут безнаказанно утюжить наши позиции, совершенно не встречая отпора со стороны русских лётчиков.
– Ну какой отпор, Никита Родионович, – отхлёбывал из стакана, вставленного в дарёный матушкой подстаканник, Рубанов. – Опять-таки от нашего генерала узнал, что в русской действующей армии осталось две с половиной сотни исправных самолётов, а потери доходят до пятидесяти процентов от общего числа аэропланов в месяц.
– Вашскородь, разрешите, гляну, летит супостат или нет? – обратился к полковнику старший унтер-офицер Егоров, исполняющий в командирском блиндаже обязанности дежурного телефониста.
– Ежели любопытствуешь, лезь, погляди, – кивнул на приставленную к стене лестницу Аким.
– Так что, вашвышбродь, рокот пропеллера слыхать, – откинул крышку люка и вылез до пояса наружу Егоров, шаря по небу сквозь окуляры бинокля. – Вона, показался, вражий сын, – полез вовнутрь, захлопнув за собой тяжёлую крышку, и вздрогнул от раздавшегося разрыва авиабомбы.
– Заметил чего, стервец немецкий или наобум сбросил? – задал риторический вопрос, конкретно ни к кому не обращаясь, Ляховский.
– Пётр, ты свои белые подштанники с ёлки снял? – пошутил Аким, мысленно отметив второй, а следом и третий разрывы авиабомб.
– Дык на мне оне, – оправдался телефонист. – Ноне и не думал стираться. Жаль, нет у нас поблизости зенитной антиллерии… Некому сшибить его оттуда. Кажись, улетел, собака ядовитая.
– Завтра наступать, – перешёл к другой теме Ляховский. – Не знаю, сумеем до реки дойти или нет.
– Речушка, вашбродь, ежели по уму разобраться, плёвенькая… Длиной полторы сотни вёрст всего, но местами глубокая, знающие люди говорят. И протекает по болотистой местности, разветвляясь в рукава, количество коих до дюжины доходит, отчего и получила название – Стоход.
– Ну ты, Петро, географ, – похвалил унтера Ляховский. – Не в рукавах самая плохая штука, а в том, – обратился уже к своему начальнику, – что на этих болотистых местах артиллерию трудно сосредоточить, тем более, тащить её за собой. Выяснилось – наступать по фронту гвардия может лишь десятью ротами, остальная масса пойдёт колонной в затылок этим ротам. Шаг в сторону – болото или один из речных рукавов.
– Кирдык, в переводе с немецкого, – просветил офицеров Егоров, подняв их настроение. – Звонит кто-то, – прислонил к уху телефонную трубку. – Да. Так точно. Сейчас позову. Вашвышбродь, – обратился к Рубанову, – господин полковник Гороховодатсковский к телефону зовут, – протянул трубку начальству.
– Здравия желаю, друг мой ананасный. Чего? Да откуда у бабушки… лишние доски? – после некоторой паузы почти довёл до логического завершения свою мысль Рубанов. – А если бы они у неё были, те предметы, – продолжил диалог с командиром 2-го батальона, – она была бы – дедушкой… Доски просит, – положил на рычаг трубку Аким, – для преодоления колючей проволоки. Чует, что артиллерия всю её не порвёт. И вязанки хвороста к ним в придачу выпрашивает, для заваливания болотистых мест.
– Сами ничего раздобыть не могут, – осудил 2-й батальон Ляховский.
– Даже неваляшек, – закруглил последний фрагмент мысли Рубанов.
В ночь перед атакой Акиму неожиданно приснился Гришка Зерендорф. Живой и невредимый. Он внимательно глядел на товарища и жалостливо качал головой.
Разбудил Рубанова громкий звук разорвавшегося неподалёку снаряда.
«Взрыв расколол утро как красивую хрустальную вазу… Вот чёрт, – быстро собирался он, поспешно застёгивая пуговицы гимнастёрки и перепоясываясь портупеей. – Декадентство какое в голову лезет», – забыв про сон, выбрался из блиндажа наверх, услышав на этот раз гул русских батарей, открывших огонь по противнику.
– Доброе утро, ваше преподобие, или вашпрепдоб, по Егорову,– поздоровался с хмурым отцом Захарием. – Чем раздражены, ваше преосвященство? Этуали всю ночь снились?
– Да тьфу на ваши домыслы, неразумный сын мой, – несколько взбодрился священник. – Я привык уже к вашему юмору в момент смертельной опасности. Многих к вечеру отпевать предстоит… От этого и грущу.
– Пути Господни неисповедимы, – перекрестился Рубанов. – Где санитары? – увидел Ляховского. – Скажи им, если найдёшь, конечно, пусть сразу за наступающей цепью следуют, дабы вовремя помощь оказать или из боя вынести.
– Санитары-ы! – с огромной долей сарказма произнёс отец Захарий. – Да они только матом и зелёнкой лечат… Спирт вечно проливается… Или очень шальная, по их версии – безумная пуля, флягу с лекарством пробивает.
– Мат бодрит раненого бойца, а зелёнка вносит успокоение в душу – значит лечат… А вот с кагором, батюшка, вечно та же грустная история происходит, – ехидно – так, во всяком случае, показалось честному отче , ухмыльнулся полковник.
– Санитары опохмелились и сообщили, что к несению тягот службы абсолютно готовы, – улыбнувшись, доложил подошедший Ляховский. – А вот нижние чины, будто во времена покоренья Крыма или Измаила, несут доски, вязанки хвороста, а на винтовки рук уже не хватает. Как отстреливаться-то будут?
– В салонах болтают, то бишь в блиндажах высшего начальства, что какие-то трясины перед нами. А по ним, аки посуху, даже отец Захарий не пройдёт… Вооружитесь, батюшка, хотя бы доской, – посоветовал святому отцу Рубанов. – А вы без паники, капитан Ляховский. Сбросим сегодня супостата в речку купаться.
В полдень, после семичасовой артподготовки, ударные роты гвардейских полков двинулись в атаку, которая не задалась уже с самого начала.
– Чёрт-дьявол, – орал Рубанов. – Сидоров, ты же божился на кресте отца Захария, что посылал людей проделать специальные проходы в проволочных заграждениях. Где они? Солдаты в своей проволоке запутались.
– Да вон же проход, вашскородь, его за версту видно, а дуракам по доскам лазить приспичило, – оправдывался заваливший службу ротный фельдфебель.
– Болото-о! Болото впереди, братцы, – плачущим бабским голосом завопил Барашин. – Уходимси, как один… А я со своей подвёрнутой ногой точно пропаду-у…
– Трофимка, луковица ты баргебонская, – взъярился на паникёра проштрафившийся Сидоров. – Сортиров в нужном количестве тут нема, так пошлю тебя после боя болото осушать, – провёл разъяснительную работу фельдфебель, попутно вдохновив на ратные подвиги и других солдат.
А полк косили немецкие пулемёты, заранее пристрелявшие эту местность.
– Кара-у-ул, тону! – завопил рядом с Барашиным солдат.
– Федька, за доску цепляйся, – видя, что кому-то хуже, чем ему, традиционно взбодрился Барашин. – Митька, подсобляй земляку, – вытянули из тины нижнего чина.
– Спасибо, братцы, век не забуду, – размазывал грязь по лицу солдат. – А сапоги напрочь утопил.
Выбиваясь из последних сил, павловцы ползли по грязи, помогая друг другу и с трудом вытягивая ноги из трясины. Миновав под огнём противника болото, выбрались на более-менее сухую местность, но впереди блестел на солнце водой один из многочисленный рукавов Стохода.
В этот момент на полк перенесла огонь вражеская батарея.
– И окопаться нельзя в этом болоте. Губим людей, почём зря, – скрипел зубами Ляховский, вытирая грязной рукой лицо.
– Отставить причитания, господин капитан. Гвардия не сдаётся, и, как известно, в огне не горит и в болоте не тонет, – ухнул по грудь в воду Рубанов. – Брод некогда разведывать. И без него переберёмся.
К его счастью, неширокий речной рукав был неглубок. За ним расстилалась ровная сухая поляна, а за ней виднелась в окопах какая-то немецкая часть, тут же начавшая осыпать наступающую гвардию ружейным и пулемётным огнём.
– Так понимаю, господин полковник, что наступление застопорилось, хотя и батюшка в первых рядах в бой идёт, – с кхеканьем брякнулся рядом с Рубановым вымазанный болотной тиной штабист-подполковник.
– «Момент» пожаловал, – отнял от глаз бинокль Аким, с удовольствием окинув взглядом офицера-генштабиста. – Своим романтичным обликом вы напоминаете мне прекрасные довоенные времена и привокзальную рекламу шоколада. Отче, – повернул голову в другую сторону, – а вы чего сегодня меня преследуете? Не исповедоваться, не причащаться, вроде, не собираюсь. И шнапса нет. Чего вам за болотом не сидится?
– Потому, сын мой, что не кулик болотный, а полковой священник. И должен вдохновлять воинов.
– А вы нынче не на муфтабиле пожаловали? – хрустнув шеей, повернулся к штабисту Аким. – Ой! Голову с вами, штабистами, свернёшь, – помассировал затылок.
– А вот у вас, гвардейцев, кроме женщин, ни на что иное внимания не хватает. Поднесите к гвардейским очам своим цейс и гляньте на во-о-н тот край опушки, что перед вражескими окопами.
– И что там? Барышни в болоте купаются?
– Тьфу! Прав господин подполковник, – вспылил отец Захарий. – Даже во время наступления все мысли у гвардейцев об этих, как их, прости Господи… неваляшках.
– Матрёшках, святой отец. Мать честная. Да там в кустах…
– Сын мой… Окстись… Епитимью наложу…
– Муфтабиль… Пустой. Без матрёшек и неваляшек.
– Ага! Побоку наступление, – желчно почмокал губами священник и погрозил полковнику нагрудным крестом, – к Гороховодатсковскому на моторе, и вместе с ним к молодым лялям, – насмешил офицеров.
– У меня другое предложение. Берём солдата с пулемётом, запасные коробки с лентами, пробираемся к авто, пока батальон своим огнём гансов отвлекает, и с мотора шмаляем, как выражаются французы, по фрицам из пулемёта, развлекая их меткой стрельбой и давая шанс батальону с наименьшими жертвами добраться до вражеских окопов.
– Авантюра принимается. Оказывается, ни только шампанское пить в академиях учат. Ляховский… Ползи сюда. Мы с приятелем на авто покатаемся, а ты с батальоном готовься наступать. Ваше преосвященство, вы-то куда увязались?
– «Алеа якта эст», – что в переводе с латыни: «Жребий брошен».
– Вот так православные попы папистами и становятся, – пригибаясь, короткими перебежками, приказав солдату с пулемётом следовать за ними, двинулись к рощице. – То-то, смотрю, латинский цитатник пропал. А я, по простате душевной, на честнягу-Ляховского грешил, – шутливо бурчал Рубанов.
– Да не брал я ваш разговорник латинский, – как мог, отбивался от наветов отец Захарий. – С бурсы ещё сие выражение запомнил. – Я ведь землемером мечтал быть, но папенька…
– Тихо! Падай на землю. Засекли нас гансы.
Через несколько минут, когда обстрел закончился, солдат-пулемётчик остался лежать.
– Убили раба божьего, – перекрестился отец Захарий. – Царствие ему Небесное. – Меня Бог пулемётчиком, видно, определил, – благополучно добрались до авто. – И чего оно тут делает?
– Это, батюшка, лишь Бог и одно растение знает, – разбил заднее стекло Рубанов, расположив там пулемёт «Максим». – А вас, батюшка, вторым номером назначаю, коли солдатика убило. Ленту подавать станете.
– Какое растение? – опешил от предстоящей задачи отец Захарий. – Какую ленту?
– Растение – хрен, а ленту – пулемётную. Господин подполковник за извозчика будет. Тут как раз и колея перед проволокой имеется. Видно, главный гансовый инженер на «Мерсе» раскатывал, пока колючку тянули. Ну, господин «момент», заводи мотор, а вы, падре, располагайтесь рядом и ленту с патронами расправляйте, чтоб при стрельбе не заклинило. Загадка, господа, – решил привести в нормальное расположение духа разволновавшегося святого отца. – Мы сидим в автомобиле, впереди нас лошадь, а сзади – аэроплан. Где мы находимся?
– На карусели, господин полковник, – подал голос штабист, трогаясь с места и постепенно набирая скорость. – На первом курсе, в ресторане, эту загадку изучали.
– Ну, давай, сынок, – особо не целясь, нажал на спусковой рычаг и открыл стрельбу по немцам, двигаясь вдоль их протяжённого окопа, Аким.
– Грех, грех-то какой, – перебирая пулемётную ленту, бормотал священник. – Собственноручно помогаю людей убивать.
– Не людей, а врагов, – перезаряжая пулемёт, уточнил Рубанов, быстро продевая новую ленту через окно приёмника. – Где это вы там людей увидели? С рогами-то на голове.
– Один глаз, один рог, но не носорог!? – развернув машину, погнал её в обратную сторону развеселившийся штабист. – Загадка второго курса.
– Ганс с выбитым глазом, – прищурив свой, палил в сторону немцев Аким.
– А вот и нет, – крутил руль подполковник, зигзагами ведя машину, чтоб фрицы в неё не попали. – Корова из-за угла выглядывает, – рассмешил честного отца.
– Всё так! Как давным-давно сказал один человек: шути над смертью, она и не страшна будет, – ударился лбом о пулемёт Рубанов, цепляясь руками за спинку сиденья и переворачиваясь вместе с машиной: «То ли бензобак рванул, то ли артиллерийский снаряд попал, – подумал он, больно ударившись о дверку. – Может, и правда мы в карусели находимся?» – сдвинул с себя отца Захария, уразумев, что находится в перевёрнутом авто.
– Ну-ка дружно, братцы, – услышал голос Сидорова. – Вытаскивай людей из железяки. Живы, вашсродь?
– Вроде жив, – увидел над собой озабоченное лицо ротного фельдфебеля.
– Слава Богу! А отец Захарий с генштабистом, кажись, насмерть убиты. Сухозад, друг ты мой ландриновый, помоги их высокоблагородию. Братцы, гансы отца Захария убили-и. Вперёд, чего встали как штыки. Отомстим подлюкам за нашего полкового батюшку, – повёл в бой солдат неунывающий фельдфебель.
«Как, убиты? – дошло, наконец, до Рубанова. – Зачем убиты!?»
– Панфёр, помоги подняться, – подошёл и встал на колени перед отцом Захарием, услышав слабый стон, а затем, сквозь стиснутые от боли зубы, шёпот:
– За грех убийства Господь покарал, – несильно сжал он ладонь Акима. – Не должно священнику человека жизни лишать, даже если тот и враг, потому как не воин я, а священнослужитель, – замолчал, потеряв сознание, отец Захарий.
– Да где санитары? Панфёр, живо санитаров сюда, – на коленях передвинулся к лежащему неподалёку офицеру-штабисту: «А вот подполковник точно мёртв, – бережно закрыл ему глаза, удивившись улыбке на синеющих уже губах. – А на мне только синяки, ушибы и ссадины, – поднялся на ноги. – Господь знает, кому время пришло, а кому – нет, – медленно, опираясь на подобранную палку, побрёл, перешагивая через колючую проволоку и обходя убитых павловцев, к занятым его батальоном немецким окопам, мимолётно отметив, что фрицы не поленились накрутить восемь рядов колючки на аккуратно оструганные колья. – Много к Гришке Зерендорфу нынче павловцев придёт, – глядя на мёртвые тела, с горечью подумал Рубанов. – Недаром он головой качал».
Пока немцы не опомнились, так же медленно шагая и опираясь на палку, повёл батальон занимать вторую линию вражеских траншей. К его удивлению, немцы особого сопротивления не оказали, и как только наступающие сделали проходы, порезав сохранившиеся остатки развороченной русской артиллерией колючей проволоки, дружно отступили, не доводя дело до рукопашного боя с гвардией.
«Ну и воинство у меня, – разглядывал мокрых и грязных солдат Рубанов, многие из которых были без утерянных в болоте сапог. – Видимо, своим непрезентабельным видом оказали на противника деморализующий эффект, коли тот поспешно вторую линию окопов оставил».
– Махлай, связь наладил?
– Так точно, вашвышбродь. Аппарат фунциклирует.
– Набери тогда командира полка. Ваше превосходительство, основная позиция противника прорвана, – доложил генералу о потерях и боевой обстановке на данное время. – Дмитрий Дмитриевич, сапоги срочно нужны и форма. Батальон на нищих оборванцев похож, а не на гвардейцев, – закончил доклад, попытавшись затем пообщаться с Гороховодатсковским, но традиционно нарвался на Семёновский полк.
Трубку взял, как водится, бывший рубановский учитель.
– Приветствую вас, Африкан Александрович. Как дела?
– Здравствуйте, Аким Максимович. Дела не очень. Наступление захлебнулось в одном из рукавов Стохода. Отрицательную роль играет практически полное отсутствие тяжёлых калибров артиллерии, а их пушкари в данный момент безнаказанно громят занятые нами две линии окопов, и вдобавок создали огневую завесу между первым эшелоном атаки и подходящими к нам резервами, не подпуская их на усиление ударных батальонов. Как я понял, эта тактика оказалась большой неожиданностью для командования. Иван ранен…
– Бог мой. Тяжело?
– Жить будет. Мужик здоровый. А нам с Шамизоном – хоть бы хны. Нет, вру. Яков Абрамович насморк подхватил, ноги промочив, – добродушно хихикнул учитель. Вы как?
– Аналогично! Синяки, ссадины и насморк. Ну, всего хорошего, господин подпоручик.
До Гороховодатсковского Аким дозвониться так и не сумел.
Ранним утром по занятым павловцами окопам интенсивно заработала германская артиллерия, применив ту же тактику, о которой говорил Афиногенов. Блиндажей на позиции немцы возвели мало, и укрыться от огня вражеских батарей было весьма проблематично.
Сапёры за ночь чудом успели замостить на болоте гать из хвороста и досок, по которой артиллеристы сумели переправить целый дивизион.
К огромнейшему удивлению, нет, даже потрясению Рубанова, руководил переправой по «Калинову мосту» никто иной, как граф Игнатьев.
– Сергей Рудольфович, – обнял улыбающегося товарища Аким, – ты, гляжу, уже ни только герцог, но и полковник, с чем тебя от души поздравляю.
– Я тебя тоже, дружище, с тем же славным чином. Как там, у Горького: полковник – это звучит гордо. А удивляться здесь нечему. Мы, Игнатьевы, кругом. Для тебя же не секрет, что вашим штабом руководит генерал Игнатьев…. И мы с ним не однофамильцы… Вот и воспользовался родственными связями, дабы попасть поближе к Павловскому полку, чтоб подсобить дружище Рубанову, – загоготал Игнатьев, похлопав опешившего гвардейца по плечу.
– Да не тому я поражаюсь и дивлюсь, а что Максима Горького читать стал, вместо того, дабы горькую пить.
– А для чего же в Пажеском корпусе алфавит запоминал? До вечера, дружище.
Следом за артиллеристами, к Павловскому полку, по необстреливаемому фрицами болоту пробрались интендантские чиновники, доставив целый обоз с формой и сапогами.
В полдень обстрел прекратился.
– Гансы тоже люди, и понимают, что нам пожрать надо и сапоги с гимнастёрками примерить, – сделал умозаключение Сидоров, взяв раздачу формы в свои фельдфебельские лапищи.
– Раньше мы между собой называли Безобразова «Бэбе ». Новое поколение офицеров уважительно величают его «Воеводой», – сидя в блиндаже с Игнатьевым, довёл до его сведения псевдоним главного гвардейского военачальника Рубанов.
– Кстати, Аким, недавно встречался с господами Дубасовым, – хмыкнул граф, – и Серёжей Антоновым. Обещали, как наступит на фронте затишье, навестить нас. Их часть расположена неподалёку. А про тебя говорят, что героический подвиг совершил, на ворованном «Мерсе» разъезжая и по гансам из пулемёта постреливая.
– Не ворованном, а конфискованном. На самом деле, всё намного грустнее. Товарищ при этом погиб. Как говорят солдаты: одному крест на грудь, другому крест на могилу. Как соберёмся, помянем ушедших…
Ещё неделю русская гвардия вела тяжёлые бои, но не сумела форсировать Стоход.
В двадцатых числах июля наступило недолгое затишье, и Рубанова навестили друзья-однокашники.
Как положено гостеприимному хозяину, Аким встретил гостей перед входом в блиндаж, планируя церемонно и великосветски раскланяться, намекнув этим шутливым поступком, что он гвардеец, а не какая-то там армейская крупа, но увидев друзей, расчувствовался, и бросился обнимать.
– Вы не представляете, господа, как рад вас видеть.
– Ты не поверишь, Аким, – помял его спину Дубасов, – как счастлив размять слабые твои косточки.
– Или вывихнуть руку, – продолжил его мысль Рубанов, – здороваясь и похлопывая по плечу Антонова.
– Игнатьев, чёртов паж, дай я тебя обниму, – развёл в стороны руки Дубасов.
– И на войне бывают приятственные минуты, – забасил артиллерист.
Начинало темнеть. На позицию подъехали кухни и наступила ротная суета – нижние чины подходили к ним с котелками, громко переговариваясь и не обращая внимания, что в нескольких сотнях шагов от них находятся враги, со стороны которых донеслась музыка и гортанные голоса затянули германский гимн.
– Подбадривают себя, – кивнул в сторону немецких позиций Рубанов. – Не забыли, наверное, – обратился к друзьям, – что позвонив у входной двери, и переступая затем порог, не следует делать кислую мину…
– Да где вы там запропастились? – раздался из блиндажа голос Гороховодатсковского. – Не дождёшься вас.
– Козерогий папаша буянит, пойдёмте, пока внеочередные наряды не припаял, – развеселился Аким.
В просторном блиндаже уютно горел камелёк, а в центре стола, в окружении бутылок с водкой, пыхтел паром начищенный медный самовар, стоящий на салфетке с пышной бахромой.
– Ух ты, самовар! – поразился Дубасов, усаживаясь на стул рядом с камельком.
– Сразу видно, что забыли светские приличия, господин Дубасов, – с улыбкой усаживаясь рядом с приятелем, шутливо стал воспитывать его Рубанов. – Согласно Своду законов мадам Светозарской, войдя в комнату, не следует поддаваться виду богатства и роскоши обстановки, как бы она не была велика, – кивнул на пыхтящий самовар.
– Но и хозяева, – боролся со смехом Дубасов, – если они, конечно, светские люди, что весьма сомнительно, ничем не должны возбуждать внимания посетителя, будто забыв о своём огромном богатстве, пусть даже это будет и самовар, – привёл всех в прекрасное расположение духа.
– Сразил, напрочь сразил, – рассмеялся Аким. – Однако, если в комнате топится камин, – указал на камелёк, – не садитесь перед ним и не мешайте щипцами, а также не трогайте руками красивых безделушек, – указал глазами на саблю с георгиевской лентой, – не рвите цветы в горшках, и, главное, не бренчите на рояле, ибо не в Буффе находитесь, а в благородном доме.
– Господа, ну чего вы всякую околесицу несёте? Наливайте уже кто-нибудь, хотя вы все и полковники, – поразился сделанному открытию, глядя на погоны этих «трынчиков», Гороховодатсковский. – Чувствуется моё воспитание. Все в люди вышли. Выпьем, друзья, за золотой полковничий погон, – предложил он тост.
– Амвросий Дормидонтович нынче у нас в полку старший полковник, – закусывал водку Аким. – Это он расстарался самовар где-то спереть…
– Два наряда не в очередь за поклёпы на начальство. Жаль, здесь портретного зала нет, чтоб ваш плюмаж пооборвать.
– Видишь, Виктор, какая у старших полковника гордыня, – разлил по стопкам-гренадёркам водку Рубанов, плеснув себе на донышко стакана в серебряном подстаканнике. – Твой школьный приятель Шамизон канцелярией в Семёновском полку заведует, и то ничего великого из себя не строит.
– Какой он мне приятель? – возмутился Дубасов. – Это что, Шамизонка из земгусаров в боевой полк пошёл? – поразился он. – Господа, недавно случилось ещё более удивительное событие – случайно встретился в штабе с полковником Кареевым.
– Иди ты! – поперхнулся водкой Гороховодатсковский.
– Вот те крест, господин портупей-юнкер, – перекрестился Дубасов. – Как положено, с трепетом встал перед ним во фрунт…
– Надеюсь, не растерял ещё выправку, – строго глянул на рассказчика старший полковник.
– Никак нет, господин козерогий папаша, – отрапортовал ему Дубасов. – Гроза Павловского училища отечески похлопал меня по плечу и произнёс из-под поседевшей, а некогда рыжей бороды: «Вольно, вольно сынок. Сразу видно, что моя наука на пользу тебе пошла. И чином уже со мной сравнялся.
– Он тоже полком командует? – налил в гренадёрские чарки водку Гороховодатсковский.
– Ну, образования-то академического не имеет, вот и не дают легендарному полковнику дивизию, хотя многие комдивы первыми при встрече честь отдают и по привычке во фрунт тянутся.
– Вот и поставили бы Кареева павловцами руководить, – хлебнул из стакана Рубанов. – А то в мае подчинили нас генерал-майору Шевичу, бывшему стрелку полка Императорской Фамилии. Ну и гусь… Ни разу не отдал себе труда наведаться на участок моего батальона. Сидит в своём блиндаже и красное вино попивает. Правда, есть одна особенность – как напьётся своего вина, любит рассказывать о службе в Императорских Стрелках, а когда перепьёт его, делится тайной приготовления какого-то особенного лукового супа, благодаря которому эти самые стрелки, якобы, метко стреляют.
– Ага! Ночью под одеялом, – едко произнёс Гороховодатсковский. – Всех уже донял своими воспоминаниями.
– Действительно неделикатно, надев Павловский мундир, всё время толковать о стрелках, – высказал своё мнение Антонов.
– Не просто неделикатно, а омерзительно, – вскипел Гороховодатсковский.
– И что, до сих пор стрелковой ностальгией вас допекает? – заинтересовался Игнатьев.
–Да полно вам, ваше сиятельство, – хмыкнул Рубанов. – Амвросий Дормидонтович, совершенно не читавший мадам Светозарскую, как-то, хорошенько приняв на грудь вражеского шнапса, с грохотом поставил стул перед генералом, верхом уселся на него, и, вперив суровый взгляд в командира полка, растрепал ему весь плюмаж, грозно зарычав на перетрухнувшего Дмитрия Дмитриевича: «Всё стрелки, да стрелки… Чёрт побери, ваше превосходительство… Коли надели Павловский мундир, станьте Павловцем и умрите им!» – Финита ля комедия… Воспоминания прекратились. Правда, и вином перестал старшего полковника угощать.
– Да без этой кислятины обойдусь, – вновь налил всем водки Гороховодатсковский. – Выпьем за победу, господа. Хотя с такими горе-военачальни-
ками победить весьма проблематично. Алексеев – ни столько генерал, сколько столоначальник. Таким в своё время Куропаткин был, и помните, чем всё закончилось в русско-японскую.
–Куропаткина, недавно, царь отстранил от командования Северным фронтом, назначив Туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками Туркестанского военного округа. С туземцами он умеет воевать. У тех главное оружие – кетмень, а не тяжёлая артиллерия, – закашляв, поднёс платок к губам Антонов. – А вот Брусилов – умный генерал, – убрал платок в карман.
– Был бы умным, не стал бы гвардию по болотам в наступление гнать. Вы, армейцы, после Луцкого прорыва без ума от командующего Юго-Западным фронтом, а гвардия его ненавидит… Солдаты, безо всякого стеснения, называют Брусилова «Ковельский мясник». Ещё одно подобное сражение, и я тоже поддержу солдатское мнение, – вспылил Гороховодатсковский.
– Вы, господин бывший портупей-юнкер, хотя и стали полковником, однако командуете всего лишь батальоном, – поднявшись, жёстко глянул на Гороховодатсковского Антонов, и его голубые глаза стали свинцово-серыми от гнева. – Потому-то совершенно некомпетентны и абсолютно безграмотны в сложившейся обстановке, мысля лишь на уровне комбата.
– То есть, с твоей дивизионной штабной колокольни, я – невежда? А может даже и дурак? – тоже вскочил на ноги Гороховодатсковский, зацепив стол и опрокинув бутылку с водкой. – Зачем, скажи на милость, ежели такой грамотный стратег, нужны эти бессмысленные атаки при отсутствии тяжёлой артиллерии и авиации, на болотно-лесистой местности, по которой Игнатьев с трудом пушки до нас дотащил? – кивнул на артиллериста. – Штурмуем прекрасно оборудованный и подготовленный узел обороны, хотя первое Ковельское сражение выявило всю неосновательность стремлений любимого тобою Брусилова найти ключ к победе в гиблых болотах Стохода. Вместо стратегически безнадёжного Ковельского направления следует искать военные решения на других участках фронта.
– Каких, например? – несколько остыв, поинтересовался Антонов, приведя полковника в некоторое замешательство.
– Да на многих, Сергей Васильевич, – поставив бутылку, ответил ему Рубанов. – Можно было развить победу генерала Сахарова под Бродами, где Одиннадцатой армией, судя даже по газетным репортажам, взято в плен более двухсот офицеров, и нанесён урон противнику в двадцать тысяч личного состава.
– Так и гвардия взяла в плен двадцать тысяч человек и захватила у врага пятьдесят шесть орудий, – спокойным уже голосом произнёс Антонов. – Вот и сражайтесь дальше, развивая первоначальный успех.
– Извини, Сергей, но в данном вопросе, на мой взгляд, прав Амвросий Дормидонтович. Мы не лягушки по болотам лазить, добро бы, была в этом острая необходимость. Можно перебросить силы и развить наступление на фронте расположения Девятой армии Лечицкого, которая в боях пятнадцатого июля взяла восемь тысяч пленных, более двадцати орудий и около сотни пулемётов. Я смотрел по карте. Отбросив врага шестнадцатого июля, командующий армией прекратил наступление, озабоченный накоплением противника в Карпатах против своего слабого левого фланга.
– Ну, все вы тут в гвардии стратеги, господа, только Ковель взять не в силах. Разрешите откланяться… Дела, – коротко кивнув, вышел из блиндажа, расстроив компанию и внеся душевный разлад в когда-то сплочённые ряды выпускников Павловского училища.
– Пойду, Антонова догоню и чарку-гренадёрку в подарок передам, чтоб вспоминал о Павловском военном училище, – заспешил к выходу Рубанов.
– Чего-то не понял? – впервые в жизни растерялся Дубасов. – Поссорились что ли? Этого нам только не хватало… Причём не с пажом, а между собой. Давайте лучше выпьем, господа, – невесело произнёс он. – Не ожидал я такого печального финала встречи, – выпив, поднялся с места. – Разрешите откланяться, друзья. Может, когда-нибудь ещё раз встретимся, – как-то неуверенно произнёс он, поправляя портупею.
– Виктор, ты тоже уходишь? – влетел в блиндаж запыхавшийся Рубанов. – Очень жаль. Тогда прими от меня на память чарку-гренадёрку. А эту – тебе, Амвросий Дормидонтович. Последнюю, четвёртую, оставлю себе, а пажу…
– Фигу покажу, – срифмовал тот, немного развеселив товарищей. – Что-то не заладилась встреча. А я ведь попрощаться зашёл, – пожал руку Дубасову. – Скоро во Францию мой дивизион отправят. Да-да, – улыбнулся Акиму, пожав его руку. – Родственные связи. Надумал поглядеть, как их генералы своими лягушатниками руководят…
– Знаешь что, граф, прими от меня в подарок подстаканник. Будешь в Париже чай пить, глядишь, и меня вспомнишь, – обнял Игнатьева.
– Вот так и расходятся стёжки-дорожки, – вздохнув, произнёс Гороховодатсковский. – Павловский полк за июль тысячу бойцов потерял, – видно, продолжал мысленно спорить с Антоновым.
– Теперь тысяча свечей засияет в нашей полковой церкви, – перекрестился Аким.
– Какая тысяча свечей? – не уразумел лирического настроя товарища Гороховодатсковский. – А вся гвардия потеряла тридцать тысяч личного состава, – ахнул он, на минуту представив огромное гвардейское кладбище и осознав слова Акима о тысяче свечей…
В этот день, 30 июля, приказом Ставки гвардию передали Западному фронту, официально переименовав в Особую армию, а в середине августа, сняв Безобразова, Ставка назначила на должность командующего войсками Особой армии генерала от кавалерии Василия Иосифовича Гурко.
– Брат его очень хвалил, – делился впечатлениями от смены власти с Гороховодатсковским Рубанов. – Три года Первой армейской кавалерийской дивизией командовал. Той самой, куда гусарский полк Глеба входит.
– Дутая величина, – вступил в полемику нервный после спора с Антоновым Амвросий Дормидонтович. – Читывал в прессе, что в марте сего года, его Пятая армия, коей тогда руководил, приняла участие в наступательной операции по прорыву эшелонированной обороны противника.
– О неудачной Нарочской операции Северного и Западного фронтов тогда много писали.
– Прорвать оборону врага этот хвалёный твоим братом генерал не сумел, положив в боях около сорока тысяч человек. Нет, лучше Бэбе командира не будет. А отстранили его Алексеев с Брусиловым, чтоб обелить себя, напрочь забыв, что наш Воевода перед началом операции протестовал из-за гибельного участка, выбранного высокопоставленными генералами для наступления войск гвардии. Вот генерал-адъютант Алексеев и затеял расследование о причинах провала наступления, тактично замолчав личное авторство этой драматической эпопеи. В общем, наше высшее командование вырыло для гвардии под Ковелем братскую могилу. Не пойму только – по своей неспособности… Или умышленно.
– Ну, ты скажешь, Амвросий Дормидонтович. Зачем Алексееву с Брусиловым умышленно гвардию губить?
– Да чтоб некому, в случае чего, императора было защитить. Загубили опору российского престола и монарха.
– В их преступный умысел я не верю. А Безобразова, на мой взгляд, сняли за то, что в ходе операции начальник штаба Верховного, Алексеев, получая сведения о неудачах прорыва вражеской обороны, приказал Бэбе спешить кавалерийские дивизии и бросить их в бой. Тут нечего сомневаться, что ожидало бы в этом случае кавалеристов. Отлично сознавая это, наш генерал не выполнил приказ начальника штаба. Пожертвовав карьерой, спас гвардейскую конницу. Одно дело – преследовать врага на участке, пробитом пехотой в неприятельской обороне, другое – в пешем порядке штурмовать неприступные позиции врага, где буксует даже обученная гвардейская инфантерия и пехотная армейская крупа полковника Антонова. Как сказали, Алексеев доложил царю: «Вот видите, Безобразов со своей гвардией ничего не сумел сделать…», представив его главным виновником провального наступления и огромных потерь.
– Чтобы там не говорили, но верная воинскому долгу гвардейская пехота шла в наступление с потрясающим хладнокровием, проявляя презрение к смерти и традиционный русский героизм. А неудачи – на совести не солдат и офицеров, а наших бесталанных генералов. За версту же видно, что подготовка Брусиловым июльского наступления на Ковельском направлении намного, в тактическом плане, слабее того комплекса мероприятий, которые он провёл перед началом Луцкого прорыва двадцать второго мая.
4 августа генерал Брусилов выпустил директиву, из которой следовало, что на 16 число назначено наступление. 21 августа генерал Каледин вёл тяжёлые бои с австро-германскими войсками, но третье Ковельское сражение имело тот же результат – 8-я армия не сумела продвинуться вперёд.
Наиболее удачно из войск Юго-Западного фронта действовала 7-я армия генерала Щербачёва. Начав сражение «на двух Липах», русские войска продвинулись вперёд, не дойдя всего полверсты до железнодорожной станции Галича. При этом 10 русских пехотных дивизий разгромили 14 неприятельских: 7 германских, 5 австро-венгерских и 2 турецких.
После этого августовского наступления, с гвардией вновь начались пертурбации, и она была передана в 8-ю армию генерала Каледина, перейдя из Западного фронта обратно в Юго-Западный.
Кроме гвардии генерал-адьютант Эверт направил главкому Брусилову 34-й армейский корпус Скоропадского и 25-й, которым вместо назначенного начальником штаба Северного фронта Данилова командовал только что бежавший из австрийского плена генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов.
1 сентября Брусилов предписал своим войскам перейти в наступление: 8-й армии – на Владимир Волынский, в обход Ковеля с юга, 11-й и 7-й армиям – на Львов.
3 сентября русские вновь повели наступление.
8-я армия Каледина ударила 1-м и 2-м гвардейскими и двумя армейскими корпусами.
Но противник вновь отразил атаки русских войск.
7 сентября Каледин повторил удар.
– На этот раз хоть небольшой, но результат, – невесело произнёс Гороховодатсковский, сидя в блиндаже с Рубановым и Ляховским. – В приказе по армии сказано: Первый гвардейский корпус овладел Свинюхами… Написали бы: занял местечко Свинюхи, – возмущался старший полковник.
– Амвросий Дормидонтович, но нам-то известно, какой свинюхой ты овладел, пока находился под командой Эверта. Пудов на восемь экземпляр… И, главное, сладил один, без помощи батальона.
– Да хватит, Рубанов, – повеселел от приятных воспоминаний Гороховодатсковский. – Думаешь, легко было? Семь потов пролил, пока ею овладел.
– Интересно, господа, почему на войне даже такие культурные люди как я, становятся записными пошляками? – поразился Рубанов.
– Ага! Культурный… Гордость мадам Светозарской, коей все уши прожужжал, когда я что-либо ни так сделаю… Эх, – мысленно облизнулся Гороховодатсковский, – как было бы славно взять у неё пару ночных уроков этикета, чтоб стать этим, как его… светским человеком.
– Ха! Не думал, что ты поклонник столетних женщин, – своим умозаключением вызвал ироническую улыбку на губах Ляховского. – Уж лучше занимайся семипудовыми панночками, за борьбу с которыми Анну первой степени высочайше заслужил.
– Ну, уж не за неё, Рубанов. И ты, господин Ляховский, напрасно развеселился, пользуясь отсутствием в сей дикой местности портретного зала. Сам тоже вторую аннинскую степень отхватил. А твоему батальонному командиру такую же Анну как мне, на шею повесили.
– Мне её преподнесли за поездку на авто и меткую стрельбу. А если без шуток, то дела наши не блестящи. Особенно пострадала 3-я гвардейская дивизия: из ста восьмидесяти офицеров её четырёх полков в строю осталось лишь двадцать шесть.
Вскоре по армии пошли слухи, что Ставка разочаровалась в Ковельском направлении и Алексеев после победы Щербачёва на «двух Липах», посоветовал Брусилову перенести направление главного удара на юг, в 7-ю армию, тем более, что вступившей в войну на стороне Антанты Румынии требуется военная поддержка, но генерал-адъютант Брусилов, почувствовавший себя великим после многочисленных газетных панегириков, решительно пренебрёг советом Ставки: «совет – не приказ», и твёрдо решил «дожать» Ковель, выпустив вскоре циркуляр и приказав вновь начать наступление, не удавшееся уже четыре раза. Правда, имелись небольшие изменения. Особой армии генерала Гурко указана была активная оборона линии Стохода и решительное наступление на Владимир Волынский левым флангом в обход Ковеля с юга. 8-й армии предписывалось содействовать Гурко наступлением на Грубешов. 11-й армии – по-прежнему наступать на Львов. 7-й армии – на Галич.
Общее наступление было назначено на 17 сентября.
Гурко и Каледин начали пятое Ковельское сражение 19 сентября.
Как писали потом газеты: «Огромный урон соответствовал огромному мужеству наступавших войск. Гвардия ходила в атаки 17 раз. У нашей артиллерии не хватило снарядов и пехотную бойню пришлось остановить».
Рубанов с остатками своего батальона передислоцировался на новое место стоянки. Измотанные, израненные люди шли напролом по лесной чаще, с трудом неся на плечах винтовки и амуницию – ни всегдашнего говора, ни шуток. Запавшие глаза безразлично глядели на сентябрьский лес.
«Это не тот осенний золотистый лес, – думал Рубанов. – Этот пропитан кровью… И лист на деревьях не жёлтый, а красный, и капли хрустальной романтичной утренней росы капают с ветвей как кровь с пальцев рук… Опять ненужная лирика, – осудил себя, – Словно не офицер, а поэт декаденствующий…»
За успешное руководство войсками Юго-Западного фронта и за военную операцию, получившую наименование «Брусиловский прорыв», генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов был награждён золотым Георгиевским оружием с бриллиантами.
В середине ноября, прогулявшись перед обедом и подышав свежим воздухом, Максим Акимович Рубанов не спеша подошёл к губернаторскому дому и привычно кивнув часовым, сделавшим винтовками «на караул», поднялся на второй этаж, где, пройдя сквозь толпу приглашённых на обед, столкнулся с высоким стройным генерал-адьютантом – единственным из военных одетым в черкеску с газырями, подпоясанную узким поясом с кинжалом и с ярко-алым башлыком на плечах, который, сняв, тут же передал подлетевшему скороходу, давнему рубановскому знакомцу.
– Ваше высочество, простите, что сразу не признал вас, – улыбнулся брату императора Максим Акимович.
Ответно улыбнувшись и кивнув на полупоклон отставного генерала, великий князь демократично пожал ему руку и, перебросившись парой вежливых, ничего не значивших фраз, прошёл в столовую
После обеда государь пригласил брата и Рубанова в кабинет, побеседовать и выкурить по папиросе.
– Михаил, тебе очень идёт черкеска, – улыбнулся младшему старший брат. – Курите, господа, – пододвинул гостям портсигар.
– И особенно Георгиевский крест на ней, – закурил папиросу Максим Акимович.
– Заслуженная награда, – тоже закурил император. – Кавказская туземная конная дивизия под началом Михаила Александровича проявляла удивительную стойкость. Там, где они оборонялись, враг не мог заставить их отступить. Кавказские полки с честью выполняли поставленную перед ними боевую задачу. Если получали приказ наступать – враг был повержен и бежал с поля боя. И, что немаловажно, в шесть полков «Дикой дивизии», как её прозвали в просторечье, пошли по собственному желанию, а не принуждению, самые смелые и воинственные представители горских племён, освободив Кавказ от «горючего материала». В отличие от русских, у них не наблюдалось ни одного случая дезертирства.
– Как можно дезертировать, опозорив свой род, если ими руководил родной брат Белого Падишаха, – загасил папиросу Рубанов.
– Горцы, бывшие дотоле врагами империи, покорившей когда-то их племена, перестали быть ими, отдавая свои жизни за Россию и гордясь этим, – дотронулся до рукояти кинжала Михаил Романов. – Последний имам Чечни и Дагестана – Шамиль, ожесточённо воевал с нами, и пленённый, был окружён почётом – в знак уважения к его доблести ему оставили оружие. Долго жил в Калуге, а жизнь окончил в Мекке, куда разрешили ехать на поклонение. Сын его на совесть служил России, и даже был флигель-адьютантом у нашего деда – Александра Второго. И сейчас многие сотни всадников, как называют в Дикой дивизии нижних чинов, награждены Георгиевскими медалями «За храбрость» и Георгиевскими крестами. Причём боевые награды кавказскими горцами очень ценятся, но принимая от меня крест, они всегда просили, чтоб он был не с птицей, а с храбрым джигитом, – рассмеялся Михаил. – По твоему указу, господин Белый Падишах, кресты для мусульман чеканились с двуглавым орлом, а не с Георгием Победоносцем.
– Это ещё задолго до меня Высочайшим приказом установили, чтобы Георгиевские кресты для тех, кто исповедовал ислам, выдавались с государственным гербом, а не с изображением Святого Георгия. Я и не знал, что для них он «храбрый джигит», – улыбнулся Николай.
– А в Думе есть болтливый джигит – Милюков, – нахмурился великий князь. – Это же надо такое наговорить с думской трибуны… Начал с обличения преступной халатности и воровства высших должностных лиц, а закончил обвинениями в адрес царской семьи и её ближайшего окружения: Распутина, Питирима, Штюрмера – назвав их придворной партией, которая группируется вокруг царицы. «Что это – глупость или измена?» – закончил риторическим вопросом, являющимся перифразом слов военного министра Дмитрия Савельевича Шуваева, испугавшегося обвинений в измене и произнёсшего: «Я, может быть, дурак, но не изменник!»
– Мерзавец, а не человек, – в сердцах воскликнул Рубанов. – И неизвестно, к каким последствиям приведёт его речь.
– Подозревает Александру Фёдоровну в желании заключить мир с Германией. Какие отличия в обществе от прошлой войны. Тогда все ратовали за мир с японцами… Кроме вас, Максим Акимович и большинства военных, – уточнил государь, закуривая другую папиросу. – Подозрения в Думе усилились после того, как немцы привлекли для нашего убеждения в пользу сепаратного мира фрейлину императрицы княгиню Васильчикову. Ещё весной прошлого года сия дама обратилась ко мне с тремя письмами о стремлении Германии восстановить мир. Вилли следовало об этом в четырнадцатом году подумать, прежде чем войну объявлять. Все три письма я оставил без ответа. А на телеграмму датского короля Христиана Десятого направить в Копенгаген доверенное лицо для переговоров, в июне прошлого года, был отправлен отрицательный ответ. Так же безрезультатно окончился июльский визит в Петроград государственного советника Дании Андерсена. После встречи со мной и министром иностранных дел Сазоновым, он получил негативный рескрипт. И нашей склонности к сепаратному миру не нашёл, как отписался потом в вышестоящие инстанции. А в декабре прошлого года эта настырная мадам, вернее – фрау Васильчикова, прибыла в Питер с посреднической миссией, но я не принял её и лишил придворного звания, выслав в Черниговскую, а затем в Вологодскую губернию. Все об этом знают, кроме господина Милюкова. В том же декабре Фредериксу прислал письмо его старинный приятель гофмаршал берлинского двора граф Эйленбург, призвав «положить конец недоразумению, произошедшему между государями, и способствовать сближению, которое позволит их правительствам начать переговоры о мире на почётных условиях». Я поручил Сазонову подготовить графу ответ в том смысле, что предложение Германии о заключении мира должно быть обращено ко всем союзникам, а не только к России. Однако, по размышлении, оставил письмо без ответа, поскольку любой ответ, каким бы он ни был, может быть принят как свидетельство готовности вступить в переговоры. Фредерикс так просительно глядел на меня… Кажется, первый раз в жизни он был не согласен со мной. Когда я заключил мир с Японией, так вы, Максим Акимович, в качестве протеста, в отставку ушли. И я вас теперь хорошо понимаю.
– Если бы вы, ваше величество, сегодня заключили мир с Германией, то я бы со службы не ушёл, – ввёл в глубокую задумчивость императора.
– Будьте любезны, Максим Акимович, обоснуйте ваше умозаключение, – нервно забарабанил пальцами по столу великий князь, а император, сдвинув над переносицей брови, не моргая, требовательно уставился на Рубанова.
– Мы все знаем, – независимо глянул на великого князя, – что как только союзников прижимает к земле немецкий сапог, они начинают скулить перед нами и вилять хвостом, умоляя о помощи. Для подтверждения этого тезиса можно проанализировать поведение французского посла Мориса Палеолога. После прошлогодних летних неудач нашей армии его тон стал вызывающим… Беседовал с ним в Ставке. В марте этого года он заявил… причём не без злорадства, что если Россия не выдержит роли союзника до конца, она тогда лишит себя возможности участвовать в плодах нашей победы и разделит судьбу Центральных держав. Это уже их победа… Забыл, лицемерный лис, как в четырнадцатом году умолял вас, ваше величество, спасти Францию от разгрома и поскорее начать Восточно-Прусскую операцию. И в самый тяжёлый для нас момент, французы стали вести с Польшей переговоры о возможности отделения от России.
– Подлецы! – грохнул кулаком по столу Михаил. – В этом году, насколько мне известно, Англия потребовала отдать ей весь русский торговый флот, находящийся в свободных морях, в виде компенсации даже не за поставки, а за прикрытие перевозок британскими крейсерами. А когда ты, Николай, отказался от этого подлого предложения, то стали сокращать поставки, – разгорячился великий князь. – И во время конференции в Шантильи союзнички стали вырабатывать экономическую программу для России, совершенно не интересуясь нашим мнением на этот счёт. По сути, договаривались о разделе русского рынка.
– Всё это так, господа, но они рано списали Россию со счетов. Брусиловское наступление и разгром генералом Юденичем турок на Кавказе прошли на фоне их неудач под Верденом и на Сомме… Сейчас тон опять сменился на просительный. Французы свернули, по их мнению, секретные переговоры с польскими сепаратистами, за которыми мы внимательно наблюдали, и я даже получил несколько предложений о кредитах. А самое главное, союзники подтвердили свои обязательства по поводу проливов.
– Ваше величество, англосаксы с лягушатниками, извиняюсь за простонародный сленг, реально понимают – главной сверхдержавой грядущего переустройства Европы, в случае победы в войне, будет Российская империя. Того же мнения и американская политическая элита. Судя по одной из газетных публикаций, советник президента Вильсона полковник Хаус пришёл к следующему выводу: «Если победят союзники, то это будет означать господство России на Европейском континенте». Не больше, не меньше…
– От кого, Рубанов, узнали о статье?
– От генерала Спиридовича, ваше величество. Разве их правящие круги допустят, чтобы Россия после победоносной войны диктовала им свои условия? Они сделают всё, дабы наша держава эту войну не выиграла, и наши усилия и жертвы пошли на пользу их либеральным государствам. Вы, ваше величество, высшее звено в той цепи, что сковывает их амбиции, потому постараются разорвать цепь, удалив скрепляющее её главное звено.
– Как же они это сделают? – воскликнул Николай, в волнении закуривая папиросу.
– Думаю, ваше величество, попытаются свергнуть вас с престола, для чего активно уже подготавливают общественное мнение.
– Так называемое «общественное мнение» куётся в великокняжеских, думских и первогильдийных купеческих кругах для Москвы и Питера, редко проявляясь в гостиных высших чиновников губернских городов, а в уездных городках и тем более сёлах, я по-прежнему «царь батюшка», коего ненавидят господа и «антиллехенты», за что, по мнению простых людей, всем им следует подпустить «красного петуха». Вы, Максим Акимович, согласно своему статусу, знакомы в основном с представителями трёх верхних ступеней Табели о рангах. Я не верю, что элита в союзных нам государствах станет поддерживать нашу великосветскую фронду, – не слишком уверенно произнёс император.
– Вы потому не верите – что единственный рыцарь среди торгашей… А у торгашей нет чести. Главное для них – выгода.
– Это вас Распутин надоумил? Слышал от него подобные речи.
– Нет! Это мои мысли, основанные, правда, на «Записке Дурново», которую Пётр Николаевич прислал вам в четырнадцатом году. Россия, ваше величество, в ближайшем будущем положит на алтарь победы сотни тысяч солдат, и, если соблаговолят союзники, за их жизни получит Босфор и Дарданеллы. В чём я сомневаюсь… А насколько мне известно… И ни только мне… Кайзер в случае заключения мира с Германией, сам преподнесёт вам эти проливы. И Турция никуда не денется, согласится…
– Не думал, что вы, Максим Акимович, станете толкать меня на предательство… Я согласен заключить мир с Вильгельмом лишь в одном случае – если Германия сядет за стол переговоров не только с Россией, но и с её союзниками. Предметом обсуждения может быть лишь общий мир. Полагаю, вы соскучились по семье… Завтра можете отправляться в Петербург… Простите, в Петроград, – поднялся из-за стола император.
– Миша, голова кругом идёт от навалившихся дел и событий, – пожаловался брату государь. – А главное, не стало верных людей. Вот и Рубанова потерял… А ведь он во многом прав…
– Да в чём же прав этот старик? – возмутился великий князь, поправив кинжал. – Неужели в том, что советует заключить сепаратный мир с Вильгельмом? Но у нас же сердечный договор с Францией и Англией.
– Не всё ты знаешь, брат мой. С нашей стороны договор сердечный, а вот с их, – вынул из папки бумагу. – Докладная начальника департамента полиции Васильева, в коей изложены агентурные данные о замышляемом дворцовом перевороте и возможных покушениях на Вырубову или Распутина-Новых. И всё это происходит ни только с ведома, но и с финансовой поддержкой оппозиционеров и заговорщиков со стороны посольств Англии и Франции. Точнее, лично послами этих стран Бьюкененом и Палеологом.
– Вот тебе бабушка и Юрьев день, – опешил Михаил. – Так гони их из страны к чёртовой матери…
– Нельзя-я. Потому как – дипломатия…
– Ники, они тебя свергнуть хотят, а ты – дипломатия… Я начинаю понимать Рубанова, – вытащив наполовину, звонко вогнал кинжал в ножны. -«Зарэжэ-эм любого, только скажи, князь», – как-то обратились ко мне всадники «Дикой дивизии». Ох, Ники, доиграешься ты в дипломатию, несмотря на то, что наш английский родственничек, король Георг, отослал тебе жезл фельдмаршала своей армии.. Но мы-то знакомы с его лицемерием и философской доктриной: «У Великобритании нет друзей, а есть лишь собственные интересы». – Прав был наш папа', ответивший на эту сентенцию: « У России есть только два союзника: её армия и флот». – И что же ты предпринял, ознакомившись с донесением Васильева?
– Писать на титульной странице его доклада резолюцию, одобряющую установление наружного наблюдения за дипломатическими представительствами не стал – кругом доносчики найдутся, но поставил известный в министерских канцеляриях символ, носящий название «парафа», и состоящий из косой чёрточки между двумя точками, что означает моё согласие. Васильев толковый чиновник и тут же поймёт, что следует установить негласное наблюдение за посольствами, а также, непосредственно за сэром Джорджем Бьюкененом и господином Морисом Палеологом. А Вилли, как нарочно, искушает меня «миром», понимая, что в войне ему нужна хотя бы пауза, дабы с Германией не произошла катастрофа. А тут ещё австрийский император Франц Иосиф на днях преставился, и вступивший на престол Карл Первый первым делом предложил мне мирные переговоры.
– Ники… А Рубанов, по-моему, умный человек, – задумчиво произнёс младший брат, оставив, наконец, в покое свой кинжал.
– Я в этом никогда и не сомневался. Но сейчас, Михаил, меня больше заботит – кого министрами назначать… Совершенно кандидатуры иссякли.
– Вот на место Шуваева Рубанова и поставь. Чем тебе не военный министр!?
– Я хочу довести войну до победного конца… И он, победный конец то есть, если заграничные «друзья» с доморощенной оппозицией не помешают, наступит в следующем, семнадцатом году. Для того имеются все предпосылки… А Рубанов тут же мир с немцами заключит и начнёт оппозицию отлавливать и на кукан сажать. Начитался советов Сабанеева о рыбалке, – невесело улыбнулся государь. – А когда я так в прошлую войну поступил – в отставку ушёл, – обидчиво поджал губы. – Вот и пойми этих генералов… Девятого ноября принимал в Ставке председателя Совета министров Штюрмера, который своими высказываниями стал для Думы, что красный флаг для быка.
– Или для полиции, – пошутил Михаил, но старший брат не воспринял шутку.
–… И объявил ему об освобождении от занимаемых должностей премьера и министра иностранных дел, коим он стал с июля-месяца после смещения Сазонова. На министерскую должность думаю поставить Николая Николаевича… Да не Романова, глаза-то вытаращил, а Покровского. На премьерскую – Александра Фёдоровича Трепова, который в данный момент является министром путей сообщения. Приняв предложение исполнять высокую должность, он попросил меня отправить в отставку министра внутренних дел Протопопова. Я дал согласие, хотя и доверяю Александру Дмитриевичу. Но в Думе его считают сумасшедшим, убедив в этом и общественность. А Трепов – старый крепкий бюрократ, в положительном смысле этого слова, с огромным административным опытом и пониманием необходимости идти рука об руку с Госдумой.
– Да зачем с ней рука об руку ходить? – удивился Михаил. – Скрутить ей руки или распустить, ударом сапога под зад.
– Ты не политик. Ты – генерал.
– Вот именно. Не полковник, как некоторые… – вновь пошутил младший брат. – Фамилия у него больно хорошая. В пятом году имя –Трепов, было для так называемого культурного общества равноценно имени Малюты Скуратова – главного опричника и палача царя Ивана Грозного. Но министры меня не интересуют, брат. Только генеральские вакансии, – в третий раз пошутил Михаил. – Здесь давать тебе советы не берусь…
Однако давать советы полюбила в последнее время государыня.
Узнав о намерении супруга сместить душку-Протопопова, тут же переубедила его, и министр внутренних дел остался пока на своём посту.
Трепов склонил голову перед высочайшею волею, но остался при своём мнении.
В столице, ничего не боясь уже, провели ноябрьскую встречу в «Новом клубе» представители «русских карбонариев», как шутливо назвал заговорщиков, точнее, борцов с правящим режимом, друг Гучкова князь Дмитрий Вяземский, являющийся членом-учредителем аристократического Бегового общества Петрограда, а параллельно Уполномоченным Красного Креста по Северному фронту, командующий коим генерал-адъютант Рузский прислал на встречу доверенное лицо – генерала Крымова.
Князь, устроившись на диване перед камином, бросил пренебрежительный взгляд на севшего рядом грузного, в осыпанном перхотью мундире и тусклых сапогах, Крымова, иронически подумав, что даже перхоть не хочет держаться на редких, немытых, зачёсанных на пробор волосах, и перевёл взгляд на весёлые языки пламени над берёзовыми поленьями, брезгливо отодвинувшись от вояки.
Бодро вошедший в зал маленький Гурко, заменяющий в данное время заболевшего Алексеева и прибывший в Питер, якобы, к военному министру, высоко держа голову, чтоб казаться повыше, гремя шпорами на высоких каблуках начищенных до зеркального блеска сапог, за руку поздоровался с князем и неопрятным генералом, отойдя затем пошептаться о чём-то к Гучкову.
Последними прибыли несколько депутатов Думы во главе со своим председателем, и церемонно раскланявшись, уселись за уставленный закусками овальный стол.
– Александр Иванович, – обратился к Гучкову, как хозяину обеда, Родзянко, попутно уцепив рюмку водки и опрокинув её в себя. – Пардон! Замёрз, как бездомная собака, – вызвал улыбки на лицах гостей.
«Как бы не накаркал, – вздрогнул Вяземский, – а то все станем бездомными собаками».
–… Предлагаю перекусить немного, в лёгкую выпить, и перейти к повестке дня. А уж затем можно будет и отобедать. Проголосуем предложение? – пошутил он, приговорив вторую рюмку и не обошедшись на этот раз лишь кряканьем, а закусив «сердешную» солёным груздочком, а по зрелом размышлении, ещё и солидным куском окорока.
– Господа, прошу всех за стол, – хлебосольно развёл в стороны руки Гучков. – Безо всякого голосования заморим червячка и побеседуем…
– Ну вот. Выпили немного и перекусили, – через некоторое время поднявшись, и для чего-то поклонившись на все стороны, промокая при этом губы салфеткой, чтоб не терять зря времени, обвёл взглядом гостей Гучков.
«Прямо как Козьма Минин перед новгородцами раскланялся», – с трудом скрыл усмешку Вяземский, довольный ещё тем, что избавился от соседства генерала Крымова, мрачно допивающего поодаль третью рюмку водки.
– Я собрал вас дабы не просто поговорить, а конкретно определиться с датой… – хотел произнести «свержения», но сказал: – отлучения от трона Николая Второго, – на секунду замер от внутреннего ужаса, но тут же взял себя в руки. – Мы уже советовались с некоторыми здесь присутствующими, – глянул на Родзянку и Маклакова, – и решили назначить этой датой первое марта будущего года. Генерал Алексеев перед болезнью поведал мне, что император догадывается о нашей затее, но точно в ней не уверен, и как всегда, на наше счастье, сомневается, – нервно хмыкнул, и чтоб успокоиться, залпом проглотил рюмку пшеничной, шумно выдохнув алкогольный воздух и подумав, что на жаргоне московских городовых, не к ночи будь помянутых, этот способ пития носит название «хлопнуть пташку», продолжил: – Общество мы подготовили. В Петрограде и Москве ждут бунта, словно оперетту в театре, – уверенно уже усмехнулся он. – Предполагают, что всё пройдёт весело и с огоньком… Прислуга доложила мне после похода в синематограф: как только покажут императора с семьёй, распоясавшийся народ орёт: «Царь спит с Вырубовой мартышкой, а царица – с блудным Гришкой…» И немудрено… В Петрограде сейчас свободно идут пьесы Зотова «Гришка Распутин», Рамазанова «Ночные оргии Распутина», Леонидова «Гришкин гарем», Курбского «Как Гришку с Николкой мир рассудил», и полиция не вмешивается… Потому – демократия… Правда, один борзой рецензент осмелился написать: «Великое дело свобода слова, но не дай Бог свободы сквернословия…» – Да где он сейчас, этот рецензент-борзописец… Это я к тому, что общество подготовлено, и за царя кровь проливать не станет. Николай должен отречься… Если, конечно, хочет жить… А общество следует хорошенько встряхнуть и дать пищу для сплетен и разговоров…
– Это как? – поинтересовался Крымов, в свою очередь с удовольствием «хлопнув пташку».
– Элементарно… Не зря я вам давеча о Гришке-конокраде, старце, ежели по-венценосному, говорил… Его следует ликвидировать… И лучше в этом году… На крайний случай – в январе семнадцатого.
– Желающие есть, – воскликнул Вяземский. – Причём птицы весьма высокого полёта, – напомнил Гучкову о «пташке», которую тот без раздумий и «прихлопнул».
– Надеюсь, такие птицы, что даже Николаю сложно будет их… пришлёпнуть, – сипло произнёс он, помахав ладонью перед губами.
– Точнее сказать – невозможно. Ибо один из них его родственник – великий князь Дмитрий Павлович, – испугался, не брякнул ли вгорячах лишнее: «Ведь и у стен, говорят, УХИ растут», – попытался внести успокоению в душу «ухами». – Надеюсь, господа, информация до времени останется между нами.
– Разумеется. К тому же сие деяние не самое важное, что нам предстоит организовать до отречения… Скорее даже – второстепенное… Для отвода, так сказать, глаз, – сделал паузу, разогревая интерес слушателей. – Основное мероприятие должны произвести военные…. Точнее – замещающий сейчас Алексеева, генерал Василий Иосифович Гурко. Мы обговорили с ним и согласовали главнейшую задачу, о коей он сейчас вкратце и поведает.
– Благодарю, Александр Иванович. Вы избавили меня от вступительного слова, и я сразу, т-э-эк скэ-эть, возьму быка за рога. Знаете ли вы об этом или нет, потому как здесь не все военные: «в основном штафирки», – пренебрежительно сморщился он, продолжив: – В царской армии главным хранителем боевого духа является полк. Именно эти подразделения лелеет Николай, часто навещает их, устраивает смотры, обедая затем с офицерами в Собраниях. В результате кадровые офицеры и унтера, которых за годы войны практически не осталось – главная его опора. Потому полки следует как можно скорее развалить, перемешать, словно колоду карт. Перевести заслуженных офицеров, которых уважают нижние чины, в другие полки, где их знать не знают, и потому не будут иметь к ним уважения.
– Да разве же государь на это пойдёт? – опешил Крымов.
– Государя следует убедить в необходимости увеличения количества полков пехоты, а в результате – дивизий и корпусов, в связи с резким удлинением линии фронта с тысячи двухсот – до тысячи девятисот вёрст. Начну с того, что переведу четырёх батальонный состав полка в трёх батальонный. А дивизии из четырёх полкового – в трёх полковой состав.
– А кавалерию? – недоверчиво глянул на исполняющего обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего Крымов.
– Переформирую, как и пехоту, и поможет убедить в этом государя генеральный инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович. Поскольку пушек и снарядов теперь поступает огромное количество, а лошадей не хватает для пристяжек, мы пожертвуем конницей ради бога войны – артиллерии. Ну, в самом деле, не на себе же артиллеристам пушки таскать!? Кавалерийские полки к январю, а может и раньше, планирую свести из шести эскадронных в четырёх эскадронные. Никто подвоха и не заметит, так как когда-то такого состава они и были, а спешенных кавалеристов следует растворить в толпе новобранцев. Молодые солдатики их там своей численностью забьют и руководства над собой не потерпят. А в марте, как придём к власти, вернём всё, как говорится, на круги своя. И новая армия начнёт одерживать новые победы, – под аплодисменты закончил он.
– Господа, позвольте небольшую ремарку, – поднялся со своего места Гучков. – Послы Англии и Франции в общих чертах ознакомлены с дворцовым переворотом, а через них и высшие круги этих стран. Возражений от них не последовало. Условие одно – Россия и впредь должна воевать на стороне Антанты, – водрузил на нос пенсне и взял в руки какой-то документ.
Все приготовились слушать, но Александр Иванович надавил на кнопку электрического звонка и к облегчению гостей произнёс, обращаясь к вошедшему лакею: – Распорядитесь подавать обед.
В обществе, особенно столичном, с аппетитом промывали косточки новому российскому премьеру, вспоминая, что в его отца Фёдора Фёдоровича Трепова, в бытность того градоначальником и обер-полицмейстером Петербурга, в 1878 году стреляла Вера Засулич. А она жива, и если младший Трепов начнёт злоупотреблять должностными полномочиями, вполне может повторить удавшуюся «акцию» и вновь выйти сухой из воды. Но особенно народ злорадствовал по поводу провалившейся попытки подмаслить Гришку-конокрада.
Неудачный жизненный эпизод председателя Совета министров оживлённо обсуждали холодным декабрьским вечером в одном из питерских ресторанов подполковник Банников и генерал-майор Спиридович, назначенный в августе ялтинским градоначальником и прибывший в столицу по своим делам.
– Ты знаешь, Игорь, как я уважал старшего брата вновь испечённого премьера, Дмитрия Фёдоровича Трепова, который выдвинул меня в далёком шестом году на должность начальника дворцовой Охранной агентуры. Его младший брат, хотя и считается консерватором, и занимал должности камергера, егермейстера и сенатора, той воли в решении государственных дел, коей обладал Дмитрий Фёдорович, не имеет. Это относится и к уму. В обществе смеются, что послушав своего шурина, генерала Мосолова, уважаемого Распутиным за умение хорошо выпить, Трепов-младший решил «купить» старца, предложив ему двести тысяч рублей с просьбой не поддерживать дурака Протопопова. Распутин рассказал о подкупе венценосцам, чем очень возвысил в их глазах свою бескорыстную персону и подмочил репутацию премьера. Думаю, долго наверху он не продержится. А государь зря заигрывает с Думой и Военно-Промышленными Комитетами. Ещё в бытность свою начальником Охранной агентуры, узнал, что в начале года в Петроградском ВПК подспудно шли приготовления к революции. Той самой, что не удалась в пятом-седьмом годах. Занималась подготовкой рабочая фракция Комитета под председательством социал-демократа Гвоздева, чему покровительствовали Гучков и Коновалов, наивно думая, что если случится революция, рабочие будут им подчиняться. Первый из них поддерживал требования Рабочей группы перед правительством, второй помог образованию самостоятельной Рабочей группы при Московском ВПК, назначив секретарём, – иронично хмыкнул генерал, – харьковского гласно-поднадзорного Соломона Моносозона. В Москве согласились. Тогда же организовали Рабочую группу в Киеве, где её поддержал председатель Киевского Военно-Промышленного Комитета миллионщик Терещенко. В последние февральские дни сего года в Питере состоялся Всероссийский съезд представителей ВПК, за которым я внимательно наблюдал. На нём Гвоздев огласил революционную декларацию, призывающую бороться за мир без аннексий и контрибуций, и за свержение царя, вручив затем власть правительству, ответственному перед народом. Представитель Самары товарищ Кацман, картаво возопил: «Мы габочие, не только на словах пгизываем к богьбе за власть, но и сумеем это сделать», – передразнил еврейского эсдека, вызвав смех Банникова.
– Где лакей? Почему гюмки пустые? – скартавил подполковник, в свою очередь, рассмешив генерала.
Подошедший лакей, почесав выдающийся багратионовский нос, поинтересовался у господ:
– Гюмки поменять? – чем вызвал у них взрыв гомерического хохота.
– Ну, быть добру, Александр Иванович, – отсмеявшись, поднял рюмку Банников.
– Согласен! Быть посему! – поддержал тост Спиридович, и вновь потекли разговоры о политике: – Представляешь Игорь, общественность, наплевав на министра внутренних дел Протопопова, с девятого по одиннадцатое декабря провела в Москве съезды Земского и Городского Союзов, приняв резолюции, которые даже до Ялты докатились, где говорилось о том, что Госдума, опираясь на народ, должна довести дело борьбы с нынешним политическим режимом до победного конца. И всё опять сошло им с рук.
– И чему удивляться, Александр Иванович? Нет дыма без огня. В нашей епархии ходят слухи, что Протопопов масон… А им царь поперёк горла…
Через несколько дней, 17 декабря, утром, исполняющий обязанности министра Двора генерал-адъютант Максимович, вызвал в свой кабинет подполковника Банникова и, поздоровавшись, предложил сесть в кресло.
– Полчаса назад Анна Вырубова сообщила мне, что Григорий Ефимович не вернулся домой ночевать. Дочери со слезами на глазах поведали ей, будто отца пригласил в гости князь Феликс Юсупов, дабы познакомить с женой, но как оказалось, она в данное время отдыхает в Крыму. Вырубова обзвонила знакомых – нигде его нет. Взволнованная случившимся Анна Александровна поспешила во дворец и рассказала об исчезновении Друга императрице. А вы знаете её трепетное отношение к старцу. Царица потрясена обрушившимся на неё известием. Недавно мне, а значит и Александре Фёдоровне телефонировал министр внутренних дел Протопопов, сообщив, что до него дошли сведения о покушении на Распутина в доме Юсуповых, и он отрядил для специального дознания жандармского генерала Попова. Поэтому прошу вас сию же минуту отправиться в ближайший к дому Юсуповых полицейский участок и вместе с Поповым приступить к розыску. Может, – понизил голос генерал-адъютант, – и преступления никакого нет, а Григорий Ефимович задержался в номере какой-нибудь танцовщицы.
Участковый пристав, несколько растерявшийся от визита в его часть столь высоких чинов, вызвал городового Власюка, находившегося ночью на посту у дворца Юсуповых, и тот, стоя навытяжку перед генералом, хриплым прокуренным голосом доложил:
– Так точно, ваше превосходительство. Во дворце явственно слыхал выстрелы, после которых ко мне подбежал неизвестный выпивший господин, назвавшийся депутатом Пуришкевичем, и в истерике прокричал, что убил Распутина. Вот примерно его слова: «Я освободил Россию от этого чудовища. Он был другом германцев и евреев. Ты должен быть верным своему отечеству и молчать». – Я тут же направился в участок и доложил о происшествии по начальству, – кивнул на пристава городовой.
– Молодец! Медаль тебе обеспечена, – похвалил служаку генерал. – Однако, следует опросить прислугу, находившуюся ночью во дворце Юсуповых. Господин пристав, пошлите городовых и хоть силой тащите сюда прислугу и всех, кого там сыщите, кроме князя, конечно.
Первым городовые привели расфранчённого перепуганного лакея.
– Я ничего не видел, – ещё с порога завопил тот неожиданно басовитым голосом, но после того, как его нос встретился с кулаком кандидата на медаль городового Власюка, память неожиданно прояснилась и слуга запричитал: – Да, да… Видел, как на моторе, за рулём коего сидел великий князь Дмитрий Павлович, часто бывавший в гостях у хозяина, приехали сам Юсупов и Распутин, а между ними приткнулся член… этой… Госдумы, чья рожа часто мелькала в газетах, что покупал хозяин. Я впустил компанию и они, войдя в дом, велели мне удалиться. Больше ничего не знаю, – побожился лакей, перекрестившись на орденоносную грудь генерала.
Второй свидетельницей оказалась пронзительно визжащая и вырывающаяся из цепких лап городовых дама, назвавшаяся экономкой.
Всласть натискавшись женских прелестей, и сбив этим весь её запал, стражи порядка вынудили свидетельницу поведать, что участниками смертоубийства были великий князь Дмитрий, два сына великого князя Александра Михайловича, братья жены Юсупова, его отец, депутат Пуришкевич, доктор Лазоверт, поручик Сухотин, бывший министр внутренних дел Хвостов, а так же двоюродная сестра Юсупова, какие-то англичане и эта коза, танцовщица Вера Коралли. Страсти ужасные, – вошла в раж всезнающая экономка. – Один из шуринов Юсупова спрятался за портьеры в передней. Не успел Распутин войти, как он выстрелил в него и попал в глаз. В упавшего Распутина стреляли уже все, и особенно сильно палила эта коза Верка. Всю шубу в решето превратила. Когда устали, пошли есть пирожные и пить вино, потом опять в него стреляли, он стал убегать, беднягу окружили в саду и там насмерть добили гирями.
– Да-а, действительно страсти египетские, – пришёл к выводу генерал. – А нынешний министр внутренних дел Протопопов участия в покушении, случайно, не принимал? – на всякий случай поинтересовался он.
– Палил, палил нехристь, – подтвердила экономка и была отпущена с миром.
Вечером, когда во все участки Питера дошёл приказ о розыске трупа Распутина, городовой района Петровского моста доложил, что утром проходившие рабочие сказали, будто видели на мосту много следов крови.
– Сейчас темно. Завтра, с рассветом, встретимся на мосту, – стал прощаться с Банниковым генерал. – А судебные власти бездействуют, черти. Министр юстиции поверил Юсупову, покорившему слугу Фемиды великосветской беззастенчивостью, и в результате доказал ему свою невиновность, отчего Макаров отменил начатое было следствие и обнадёжил князя в полной его личной неприкосновенности. Думаю, государыне такое попустительство не понравится.
Когда Банников ехал на извозчике по улицам Питера, то видел орущие от радости и угощающие друг друга шампанским ликующие толпы из так называемого культурного общества.
«Невооружённым глазом видно, Распутин в кругах интеллигенции популярностью и любовью не пользовался и даже наоборот»,
Купив вечерний выпуск газеты «Биржевые ведомости», прочёл: «Сегодня, в шестом часу, в одном из аристократических особняков центра столицы, после раута, внезапно окончил жизнь Григорий Распутин-Новых».
«И зачем нужно вести следствие, коли всем всё известно из правдивых уст юсуповской экономки», – невесело улыбнулся он, убирая в карман газету.
Встретившись утром восемнадцатого декабря на месте предполагаемого преступления, Банников доложил генералу Попову:
– Ваше превосходительство, вы, полагаю, и сами в курсе, что великосветский Петроград, думские круги, уверен, и посольства, оповещены об убийстве Распутина, и знают о том, что убили его великий князь Дмитрий Павлович, Юсупов и Пуришкевич. «Биржевые ведомости» ещё вчера вечером сообщили об этой сенсационной новости.
– Друг мой, вчера вечером министр внутренних дел господин Протопопов вручил мне копию телеграммы, посланной Пуришкевичем в Москву. Там всего два слова: «Всё окончено». – А князь Юсупов пошёл за помощью к своему дяде, толстяку Родзянке, и один из его слуг уже сообщил, что председатель Госдумы, узнав о случившемся, своим громовым голосом обратился к великосветскому преступнику со словами одобрения. И чуть позже от Родзянко, разумеется по секрету, о происшествии узнали многие его друзья, великосветские знакомые и думские коллеги. Уже ясно, что в подготовке к убийству принимал участие друг Юсупова, английский офицер Рейнер, служащий под началом известного шпиона, полковника сэра Самуэля Хоара. Отсюда широкая осведомлённость в наших делах посла Великобритании Бьюкенена. У Палеолога своя агентура. Вплоть до великосветских болтливых дам. Вчера в Яхт-клубе, за обедом, как мне сказали, великий князь Николай Михайлович, после телефонного разговора с Треповым, авторитетно и громогласно заявил, что всё это – новая провокация Протопопова, вздор и ерунда. Никого великий князь Дмитрий не убивал, а ежели случайно и убил, то поделом конокраду… А кровищи-то на мосту и правда целая лужа, – перешёл к практической стороне дела жандармский генерал.
– Ваше превосходительство, – отвлёк их от беседы городовой. – Я калошу нашёл.
– Повезло тебе, братец, – хмыкнул генерал, но тут же стал серьёзным. – Следует предъявить её дочерям Распутина.
Те признали находку за калошу-ботик их отца.
И тут началось…
Генерал доложил о находке Протопопову, тот – самой императрице, между прочим намекнув, что вчера министр юстиции не позволил начать судебное следствие, а Феликс Юсупов за это время переехал на жительство к великому князю Дмитрию Павловичу, ища защиты в неприкосновенности великокняжеского дворца.
Государыня, выслушав рапорт и с уверенностью уже зная, что Друг убит, отправилась в церковь, и после обедни телеграфировала мужу в Ставку: «Только что причастилась в домовой церкви. Розыски продолжаются. Не теряю пока надежды. Надеюсь, что ты выедешь сегодня. Мне необходимо твоё присутствие».
Днём, после нескольких докладов министра внутренних дел, послала супругу ещё одну телеграмму: «Приказала Максимовичу твоим именем, запретить Дмитрию выезжать из дому до твоего возвращения. Замешан главным образом он. Тело ещё не найдено».
От императора ей пришло сообщение: «Возмущён и потрясён. В молитвах и мыслях вместе с тобой. Приеду завтра в 5 часов».
Вечером Протопопов доложил по телефону, что с наступлением темноты поиски в реке пришлось прекратить, но утром они вновь возобновятся.
Днём, около одной полыньи, увидели примёрзшую изнутри подо льдом шубу.
– Ваше превосходительство, кажись, нашли, – весело заорал генералу городовой.
– Ну, слава Богу, – перекрестился тот. – А то уже зябнуть начал. Пойдёмте, Банников, обследуем находку.
В полдень, на берегу реки у Петровского моста съехались власти. Особую активность проявлял сконфуженный министр юстиции Макаров.
– Попов, сворачивайте своё дознание, потому как я приказал начать судебное следствие, и своими действиями вы будете мешать следователю Середе и прокурору палаты Завадскому.
Подъехал и немного выпимший для укрепления нервов Протопопов.
– Добрый день, коллега, – поздоровался с министром юстиции. – Вы на тридцать шесть часов умудрились опоздать с началом судебного следствия… Не знаю, что там середа, но предполагаю, что вторник станет вашим последним днём на ниве отправления правосудия, – нагло уставился на Макарова Протопопов.
– Вы, батенька, хам, – разозлился министр юстиции. – Но, скорее всего, окажетесь правы…
– Александр Александрович, без обиды… Такая уж ваша планида отвечать за чужое похмелье. В декабре двенадцатого года вас отправили в отставку после Ленской стачки… Теперь вот – Распутин. И тоже декабрь… Ваш несчастливый месяц.
Министр внутренних дел как в воду глядел. Во вторник, 20 декабря, Макаров получил отставку.
В понедельник вечером, 19 числа, царица с дочерями встречали супруга и отца в Царском павильоне станции Александровская.
Как нарочно, ударил крепкий мороз и, несмотря на трагическое известие, полученное днём от министра внутренних дел, что тело старца нашли, им приходилось пританцовывать и хлопать в ладоши, дабы хоть немного согреться.
На дебаркадер подъехали два исходивших паром мотора в окружении десятка конвойцев, сидящих на беспокойных жеребцах, от которых тоже валил пар.
Николай с сыном, в сопровождении Воейкова, бодро вышли из вагона и расцеловались с семьёй. И всё это молча, без слов, пряча печаль и стараясь не подавать виду, что сильно расстроены.
Лишь в салоне авто Александра прижалась к царю и горько разрыдалась, тут же попытавшись взять себя в руки.
Николай, целуя жену и тихо произнося слова утешения, вытер ей глаза платком.
Дома, в Александровском дворце, когда поднялись с мужем на второй этаж в Сиреневую гостиную и остались ненадолго наедине, императрица прижалась к нему, обхватив за шею и расплакавшись навзрыд, без конца повторяя:
– Днём нашли тело Григория. Они убили его… Наши родственники убили его… Что же теперь будет с нами и нашим маленьким?..
Немного успокоившись, подошла к столу у кушетки, и, взяв два исписанных листа, протянула супругу.
– В голове не укладывается, что представители царского и княжеского родов способны лгать своей императрице. Один поклялся именем князей Юсуповых, а Дмитрий – именем Господа Бога, что не принимали участия в убийстве Старца, хотя их участие в преступлении полностью доказано свидетелями.
Николай вслух прочёл записку с объяснениями князя Феликса Юсупова: «Ваше Императорское Величество. Спешу исполнить Ваше приказание и сообщить Вам всё то, что произошло у меня вчера вечером, дабы пролить свет на то ужасное обвинение, которое на меня возложено. По случаю новоселья, ночью 16 декабря, я устроил у себя ужин, на который пригласил своих друзей, несколько дам. Великий князь Дмитрий Павлович тоже был. Около 12 часов ночи мне протелефонировал Григорий Ефимович, приглашая ехать с ним к цыганам. Я отказался, говоря, что у меня самого вечер и спросил, откуда он звонит. Он ответил: «Слишком много хочешь знать», и повесил трубку. Вот всё, что я слышал в этот вечер о Григории Ефимовиче. Я не нахожу слов, Ваше Величество, чтобы сказать Вам, как я потрясён всем случившимся, и до какой степени мне кажутся дикими те обвинения, которые на меня возводятся».
Письмо Дмитрия было ещё более лживым.
– Чтоб отпрыски первых родов России так цинично лгали… Причём императрице… Клялись на портрете матери и иконе, как сделал это наш воспитанник Дмитрий, любимый мой племянник, – ошеломлённо произнёс государь. – Полнейший нонсенс… Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обагрены кровью.
Поздним вечером он принял министра внутренних дел Протопопова. Не перебивая и не задавая вопросов, выслушал его доклад по убийству Григория Распутина. Министр также доложил, что общественность восторгается патриотическим актом великого князя, Юсупова и неадекватного Пуришкевича, который иногда на заседаниях Думы вставлял в ширинку красную гвоздику и ходил по залу, беся левых депутатов и веселя правых. Но как начальник санитарного поезда он выше всяких похвал, а гвоздика, думаю, лишь эпатаж… Подражание модному сейчас декадентству… В поведении и литературе. Один из поэтов, Маяковский, как мне донесли, в жёлтой женской кофте читает стихи перед публикой… По-русски сказать – тривиальный выпендрёж и желание шокировать толпу.
«Трепова следует срочно менять, – неожиданно для себя пришёл к выводу государь. – Недопустимо, чтобы глава правительства информировал Родзянку и Гучкова о секретных решениях, принимаемых на заседаниях Совета министров. Это его моральная жёлтая кофта или гвоздика в ширинке… То, чего не должно быть… А заодно нужно отправить в отставку и министра юстиции, – пришёл к заключению государь. – Слишком «пляшет» перед великими князьями».
Отпустив министра, коротко пересказал его доклад жене, находившейся в соседней комнате, где была библиотека.
– А вот что передал мне книгохранитель, Василий Васильевич Щеглов, – протянула мужу тонкую чёрную кожаную папку, и щёки её от негодования пошли красными пятнами. – Копия телеграммы моей сестры Эллы великому князю Дмитрию, – наизусть произнесла текст: «Только что вернулась, проведя неделю в Сарове и Дивееве, молясь за всех дорогих. Прошу дать мне письмом подробности событий. Да укрепит Бог Феликса после патриотического акта, им исполненного». – У меня нет больше сестры. Успокаивает и поддерживает не меня, потерявшую близкого Друга и молитвенника, а поддерживает его убийц… Ведь знает, что Слово Старца продляло жизнь моему сыну, – разрыдалась она. – Что теперь будет с нашим мальчиком без молитвенника?
Как оказалось, убийство Распутина взбудоражило ни только сестру императрицы, но и всех царских родственников, включая и его матушку.
Хотя Николай пока не предпринял никаких карающих мер против убийц, она написала сыну из Киева письмо, полное упрёков за то, что хочет наказать бедного Дмитрия, и просила помиловать неразумного великого князя.
Император, обидевшийся на родню за то, что не услышал от них ни одного слова поддержки, а лишь упрёки, повелел Фредериксу нарушить придворную традицию, и ни рождественские подарки, ни новогодние поздравления, великим князьям и их домашним не отсылать.
Все эти события и их последствия активно обсуждали, сидя перед новогодьем в кабинете Рубанова, генерал от инфантерии Троцкий, прибывший из Киева в Питер на генерал-адьютантское дежурство и Максим Акимович Рубанов.
– Как мне стало известно, – подставил рюмку лакею Аполлону хозяин дома, – после моего отъезда государь провёл в Ставке совещание, на котором было решено произвести весною семнадцатого года общее наступление, а главный удар будет наноситься Брусиловым.
– При некотором военном таланте, Брусилов – счастливчик, потому как обладает военной удачей.
– Это несомненно, Владимир Иоанникиевич. Его счастье в том, что не имея академического образования, он не кичится этим, а прислушивается к мнению начальников штабов. В его Восьмом корпусе начальником штаба был добросовестный умница Малиновский, а по вступлении на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом, судьба подарила ему такого исключительного начальника штаба, как генерал Клембовский. Но «Сегодня – счастье, завтра – счастье, помилуй Бог, нужно же и уменье», – говаривал Суворов. А вот этого уменья Брусилову абсолютно не хватает, и он компенсирует его бычьим упрямством… Аполлон, чего задремал? Совершенно навыки лакея терять начал, – кивнул на пустые рюмки Максим Акимович.
– Значит, скоро губернатором станет, – зашёлся смехом Троцкий.
– Отсутствие уменья, – не слушая приятеля, отправил рюмку по стратегическому маршруту Рубанов, – стало заметно после удачного Луцкого прорыва в развитии дальнейшего наступления, полностью безграмотного с точки зрения военного искусства…
– В результате чего враги выбили половину состава бывшего моего Павловского полка, – лишь пригубил свою рюмку Троцкий, оправдавшись тем, что завтра ему дежурить в Царскосельском дворце.
– Насколько тебе известно, в лейб-гвардии Павловском командует батальоном мой старший сын, – вновь критически глянул на лакея Рубанов. – Мне-то не дежурить в царском дворце, ибо посоветовал императору заключить мир с Вильгельмом и принять без боя проливы, наплевав на так называемых союзников. В русской поговорке говорится, что синица в руках лучше, чем журавль в небе.
– Да тебя расстрелять мало, Максим Акимович, – на этот раз выпил рюмку до дна Троцкий. – Представь себе, я того же мнения. Внутренние враги государства не дадут, как и в русско-японскую, победить внешнего врага. А что касаемо Брусиловского наступления, то результат его выразился в весьма незначительном территориальном приобретении, а главную цель – уничтожение австрийской армии, достигнуть не удалось, и во имя частичного стратегического успеха пожертвовали подготовленным ударом на Барановическом направлении. Если весной будущего года Брусилов повторит Луцкий успех и разобьёт германцев, выйду на Крещатик и прилюдно посыплю голову пеплом.
– Да он не удержится на твоей лысине, – пошутил Рубанов.
– Тогда остатками воспользуешься ты, – не растерялся его приятель.
– А насчёт внутренних врагов полностью с тобой согласен. Несколько дней назад меня навестил флаг-капитан императора адмирал Нилов и поведал за рюмочкой, – укоризненно глянул на Аполлона, – что получил конфиденциальное письмо от старинного приятеля, председателя Астраханского отделения монархической народной партии о том, что в Москве, на квартире князя Львова, девятого декабря прошло совещание, где присутствовали: Гучков, Коновалов, Челноков, Милюков и прочие оппозиционеры, наметив произвести дворцовый переворот, в котором примет участие высший генеральский корпус: Алексеев, Гурко, Лукомский, Каледин, Крымов и несколько сошек помельче… Нилов умолял императора отлучить этих военачальников от командования, но поколебать его веру в генералов и старших офицеров не сумел. До меня, когда находился в Ставке, доходили некоторые слухи… Но как и государь я тоже сомневался в них, считая за оговор комсостава. Нашему царю отвратительны репрессии. Тем более по отношению к известным ему людям. Прощаясь со мной, Нилов горестно произнёс: «Чувствую, будет революция и нас повесят… А на каком фонаре – всё равно!»
– Вчера виделся с Фредериксом и Воейковым, – закусывал водку Троцкий. – Передавали тебе привет и рассказали, что оппозиция императору возникла и в великокняжеской семье Романовых, особенно обострившись после убийства великим князем Дмитрием Распутина. Великие князья осмелели до того, сказал старик-Фредерикс, что уже не тайно интригуют против государя, а открыто выражают ему своё недовольство. А вдовствующая императрица Мария фёдоровна, поведал его зять Воейков, узнав об убийстве мужика, отреагировала словами: «Слава Богу, Распутин убран с дороги. Но нас ожидают теперь ещё большие несчастья», – и послала сыну телеграмму, прося прекратить следствие и не наказывать строго несчастных мальчиков. Хлопотать за виновных стали прибывшие в Петроград тесть князя Юсупова великий князь Александр Михайлович, как тебе известно – друг детства государя; и дядя Николая, отец Дмитрия, великий князь Павел Александрович. Получив аудиенцию у царя, его друг детства принялся защищать виновных, прося смотреть на них ни как на убийц, а как на патриотов, вдохновлённых желанием спасти родину, но пошедших по ложному пути.
«Александр Михайлович, – перебил его государь,– пойми, что ни мужику, ни великому князю не дано права убивать… Но обещаю тебе по старой дружбе и потому, что сам люблю этого головореза Дмитрия, быть милостивым при выборе наказания».
23 декабря государь распорядился прекратить судебное преследование лиц, замешанных в убийстве Распутина, приказав князю Феликсу Юсупову немедленно выехать в своё имение, что находится в Курской губернии, а великому князю Дмитрию было объявлено высочайшее повеление – немедленно отправляться на Персидскую границу в распоряжение начальника отряда генерала Баратова.
Как поведал недовольным голосом Фредерикс, в укор царю, все члены династии заехали попрощаться к высылаемому «декабристу».
– Мягок наш государь, – вновь кивнул Аполлону на рюмку Рубанов. – Нельзя же считать ни то, что строгим, а вообще наказанием, командировку офицера из одного места службы в другое, а тем паче высылку молодого лоботряса в своё имение. За Пуришкевича, как думского депутата, вступился сам Протопопов.
– Двадцать пятого декабря, на Рождество Христово, после поездки царской семьи к обедне в Фёдоровский собор, Николай пригласил к себе члена Государственного Совета князя Дмитрия Голицына и назначил его председателем Совета министров вместо взяткодателя Трепова, – хмыкнул Троцкий.
– Правильно в газетах пишут – министерская чехарда, – закусил водку Рубанов. – Лучше бы высших генералов на менее высших поменял. Даже Алексеева. А Распутина похоронили к северо-востоку от так называемой Елевой дороги между Царскосельским парком и деревней Александровкой, у опушки леса. Место выбрали лирическое, а через несколько дней могилу осквернили, и Воейков, который сам являлся сторонником захоронения Распутина в родных тому сибирских местах, велел подполковнику Мальцеву, командующему зенитной батареей, вменить часовому, охраняющему недалёкие от могилы склады, приглядывать и за местом захоронения.
– Чувствуется в тебе военная косточка, – похвалил приятеля Троцкий: – К северо-востоку от дороги, – повторил он слова Рубанова. – Точная ориентировка на местности.
Последний день старого года выдался пасмурным и безветренным.
Великосветское общество, затаив дыхание от любопытства, и на время забыв о празднике, ловило слухи о том, чем занимался в этот день государь. А император, забыв об отдыхе, принял 31 декабря вновь назначенного премьера Николая Дмитриевича Голицына, сердито воскликнув под финал аудиенции:
– Воистину прав был Столыпин, когда советовал мне строже обращаться с великими князьями. До того дошли, что в своих салонах стали болтать «об ответственном правительстве». То есть ни я его должен назначать, а Дума, и отвечать оно тоже станет перед депутатами. Совсем совесть потеряли. Особенно великокняжеская молодёжь. Подстрекаемые Михайловичами – историком Николаем, для которого республиканская Франция является лучшей моделью государственного устройства; и Сергеем – инспектором артиллерии и гражданским мужем одиозной балерины Малечки Кшесинской, которую вот уже два десятилетия связывают со мной, доказывая, что у нас были отношения. Да, были недолго, но чисто платонические… И этот артиллерист ещё смеет отрицательно отзываться о моей жене Александре Фёдоровне и подбивать против нас глупых великих князей, посмевших, добиваясь помилования Дмитрия, написать мне осуждающее письмо. В государственное дело полезли, молокососы прыщавые. Даже лояльные доселе Константиновичи подписали эту цидулку, – презрительно произнёс самодержец. – На их послании я наложил резолюцию: «Никому не дано права заниматься убийством. Знаю, что совесть многим не даёт покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь вашему обращению ко мне», – и направил корреспонденцию на адрес Константиновичей, чтоб брали пример с покойного отца, Царствие Ему Небесное, который никогда не лез в семейные дрязги. Мало того – мне доложили, что эти великокняжеские балбесы, под винными парами, в присутствии прислуги рассуждают о пользе дворцового переворота…
Потрясённый старый князь на цыпочках вышел из кабинета, поклонившись в дверях императору.
После министра Двора Фредерикса Николай принял военного министра Шуваева, и, поблагодарив за службу, безо всяких экивоков оповестил, что в начале следующего года даёт ему отставку, назначив членом Государственного Совета.
– А на ваше место думаю поставить генерала Михаила Алексеевича Беляева, – вылил на Дмитрия Савельевича ушат ледяной новогодней воды.
Вечером царская семья была у всенощной в Фёдоровском соборе, после ужина Николай занимался с документами, а в полночь венценосная семья пошла на молебен в домовую церковь, дабы встретить Новый год за молитвой.
Перед сном, в первый день 1917 года император записал в дневнике: «Горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией…»
Ни над ним, ни над семьёй, а над РОССИЕЙ…
В декабре на всех фронтах бои прекратились, и война перешла в щадящую позиционную фазу.
Нижние чины Павловского полка копали окопы, землянки и блиндажи, обшивали их досками, спиливая для этого деревья в Корытницком лесу. Кроме хозяйственных вопросов не забывали и о боевых: учились метать ручные гранаты, резать ножницами колючую проволоку и рубить её топорами. Меткость оттачивали в коротких перестрелках с противником.
1-й батальон занял позиции на участке Корытницкого леса и довольно крупного холма, обозначенного на штабных картах как высота «320». Три линии окопов шли от подошвы холма до его вершины, где занимали позицию наблюдатели и телефонист Махлай, оборудовав для себя просторный блиндаж и даже сперев в одном из брошенных домов разбитой деревни Пусто-мыты неплохой ковёр.
Место перед блиндажом носило название «Миллионная улица».
Вечером 31 декабря, когда, проверив первую линию окопов, названных павловцами «Невским проспектом» и располагающихся в двух сотнях шагов от траншей немецких егерей, Рубанов поднимался вверх по ходам сообщения к своему блиндажу, невдалеке выстрелила германская пушка. Пролетевший над головой снаряд разорвался на самом верху холма у блиндажа Махлая.
«Ну вот, как Новый год, обязательно гансы обстрел учинят», – пройдя по короткой траншее, которую лично назвал «Аптекарский переулок», протиснулся в свой блиндаж.
Сняв перчатки, повесил на гвоздь шинель и, потерев озябшими ладонями, оглядел благостную мизансцену.
Не обращая на вошедшего комбата даже мизерного внимания, за его столиком, придвинув к лицу керосиновую лампу и высунув от усердия до листа бумаги язык, сочинял письмо старший унтер офицер и Георгиевский кавалер Егоров. Другую керосиновую лампу поставил на табурет дежурный по 1-ой роте подпрапорщик Сухозад и, приспособив под тощий зад низкую скамеечку, изогнувшись дугой, корпел над четвертушкой бумаги, в данный момент глубокомысленно почёсывая химическим карандашом за ухом.
«Картина Репина «Запорожцы пишут письма немецкому султану», – заинтересовался происходящими, вернее, замершими событиями полковник, решая – рявкнуть на борзописцев, или пустить дело на самотёк, поглядев, заметят его или нет. Скрестив на груди руки, принял второе решение. Взгляд его остановился на дневальном унтер-офицере Барашине, который, сидя на корточках, курил у камелька, негромко делясь мыслями об авиации с земляками Рубанова, неразлучными приятелями – Митькой и Федюсем:
– Вот так-то, братцы… хоть пить, напрочь, бросай. Надысь выпил глоток, вышел до ветру из землянки, тут же аэроплан привиделся. Прыг от него в окоп, и ногу вдругорядь подвернул. Даже с соточки звук движка слышу… Ещё соточка – кружит над головой, как собака…
– Гы-гы! – отреагировал на его рассказ Митька. – Соточку вмажешь и звук пропеллера слышишь?
«Как же в искусстве называется изображение службы нижних чинов?» – мысленно улыбнулся Аким, а внешне рыкнул, нарушив жизненную пастораль:
– Господин Федюсь, чаю думаешь командиру наливать, или ты его в упор не видишь? – недавно взял Федьку вестовым, а Дмитрия денщиком.
От более крупного нагоняя нижних чинов спасло треньканье телефонного звонка.
– Вашвысбродь, к аппарату просють, – протянул трубку начальству гонимый немецкой авиацией Барашин.
– Кто? – протянув руку, автоматически спросил Аким.
– Хрен с горы – Махлай, – так же автоматически ответил дневальный.
– Тьфу! – поднёс к уху трубку Рубанов. – Чего ты там бормочешь? Громче говори. Чего? Четыре трёхдюймовки на холм поднимаются? Неплохо! Нифонт Карпович, а тебе, часом, после предновогодней соточки пушки не мерещатся, как Трофиму самолёты? Что «никак нет». Сейчас проверю. Чай отставить, – отдал трубку Барашину. – Дмитрий, и чего ты всё хихикаешь? Собирайся в разведку, – озадачил солдата и нахмурился, услышав шум и громкие голоса перед входом в блиндаж.
– Чего там за базар происходит? – оторвавшийся от письма и направившийся поглядеть на источник неуставного гама-тарарама, унтер Егоров был практически сбит с ног и затоптан ворвавшейся в блиндаж бандитской толпой под предводительством Леонтия Сидорова.
– Ваше высокоблагородие, – одышливо отдуваясь, начал речь фельдфебель, попутно сунув под рёбра локтём кряжистому, хоть поросят об лоб бей, брыкающемуся мужичище в разорванной грязной шинели. – Злостного вражеского языка взяли неподалёку, – как улику предъявил полковнику немецкую каску.
Полоняник свирепо замычал племенным быком вильстермаршской породы и затряс головой с кляпом из ношеной портянки во рту.
– Ну-ка, геть, – шуганул с табурета любителя эпистолярного жанра Рубанов. – И лампу на стол поставь, – уселся на освободившееся место. – Кто попал в твои тенёта, Леонтий?
– Да вот, говорю, робяты шпика в Корытницком лесу поймали. Шастал там туды-сюды, вражина, – вновь удачно провернул манипуляцию со своим локтем и чужими рёбрами. – Не сознаётся, обормот, в злодеяниях.
– Как же он сознается, коли рот портянкой заткнут, – раскрыл подчинённым причину немоты «обормота» комбат, с интересом разглядывая вражеского засланца.
Не успел Сидоров выдернуть изо рта, вернее, из пасти немецко-австрийского шпиона ношенную нижним чином казённую вещь, как пленный охламон диким голосом завопил на чистом русском языке, приукрашенном в некоторых местах цветистыми народными оборотами уроженца Тамбовской губернии всякие поклёпы, посвящённые бравому фельдфебелю Павловского полка, пытаясь при этом, видно для усиления эффекта, ещё и плюнуть в него.
– Гад купоросный! – на выдохе закончил обличение более-менее благожелательной, в сравнении с другими, фразой. – Все рёбра в организме повредил локтём своим окаянным. Вашбродь, фуражир я из соседнего с вами полка Стрелков Императорской Фамилии. Кричал им об этом, да куды…
– А чего каска у тебя германская? – несколько стушевался Сидоров.
– А того! На молочного поросёнка взял обменять. В бою, между прочим, добыта, а не лихоимством, как некоторые поступают. Вашбродь, велите развязать руки.
– Развяжите его, – велел Рубанов, потеряв к пленному интерес. – Отпустите бедолагу на свободу, а я к Махлаю поднимусь, гляну, что за пушки ему привиделись. Новогодняя ночь впереди. Кругом шпионы, пушки и самолёты, – набросив шинель и кивнув вестовому, чтоб топал за ним, выбрался из блиндажа на свежий воздух.
– Снег пошёл, – радостно воскликнул Федот. – Ну, прям, как у нас в Рубановке, – повысил настроение командиру.
Махлай уже ждал их на «Миллионной улице».
– Четыре пушки и кучу зарядных ящиков на середину пригорка подняли, – указал за спину большим пальцем. – А то достали уже фрицы своими траншейными пушками. Того и гляди в блиндаж попадут.
Поднявшись по ходу сообщения на вершину, скользя по выпавшему снегу стали спускаться к расположившейся на куцей отлогой площадке артиллерии.
Заметив офицера, к Рубанову не спеша, с чувством собственного достоинства, приблизился артиллерийский начальник и, поднеся ладонь к папахе, доложил:
– Господин полковник, командир полубатареи, штабс-капитан Глебов, – представился он.
«Глазастый какой, даже погон в полумраке сумел разглядеть, – протянул руку богу войны Аким, неожиданно вспомнив «герцога» Игнатьева. – И такой же важный», – благодушно улыбнулся офицеру.
–…Приказано расположиться на высоте «триста двадцать», дабы вести огонь на поражение по врагу, – ответно улыбнулся полковнику артиллерист.
– Обустраивайтесь, господин штабс-капитан, – оглядел запыхавшихся от подъёма орудий солдат в расстегнутых шинелях и сдвинутых на затылки с потных лбов папахах. Парившие на лёгком морозце лошади тяжело дышали, обеспокоенно встряхивая головами и фыркая. – С наступающим вас… Не германцем, а Новым годом, – пошутил Рубанов.
– И вас также. Милости прошу в двенадцать ноль-ноль, – козырнул полковнику офицер.
– Благодарю за приглашение, а там как карта ляжет… На войне ничего нельзя обещать.
За час до Нового года, ещё раз обойдя посты и полюбовавшись открыткой «Зимний путь», что подарил ему сын, мысленно поздравил родных с наступающим семнадцатым годом. Затем, созвонившись с Гороховодатсковским, предупредил приятеля, что скоро подойдёт, и, загрузив денщика Митьку водкой и закуской, полез по траншеям на «Миллионную улицу», где приказал Махлаю протянуть телефонный провод к полубатарее четырёхдюймовок. Поздравив выскочивших из блиндажа телефонистов с новогодьем, вместе с денщиком спустились к занятому пушкарями плацдарму.
Козырнув, часовой пропустил гостей в палатку командира – видно, был предупреждён своим начальником.
Штабс-капитан, склонившись над зарядным ящиком с картой, что-то отмечал на ней красным карандашом. Увидев вошедшего полковника, отбросил карандаш и, выпрямившись, коротко, с офицерским шиком, кивнул, щёлкнув при этом каблуками начищенных сапог.
– Перед отправкой на высоту «триста двадцать» получил от командира полка несколько снимков германских позиций, сделанных с нашего аэроплана, на которых ясно видны облачка от выстрелов их батареи, когда над нею пролетел самолёт. Отметил примерное расположение вражеской артиллерии. Завтра стану с ней разбираться, а сейчас предлагаю проводить шестнадцатый год.
– С удовольствием, – согласился Рубанов, кивнув Митьке, чтоб выложил на зарядный ящик часть припасов.
Через четверть часа, распрощавшись с артиллеристом, в сопровождении отдохнувшего в палатке нижних чинов денщика, направились к развалинам деревни Свинюхи, где занимали позиции 2-й и 3-й батальоны Павловского полка.
В блиндаже командира 2-го батальона Гороховодатсковского вкусно пахло жареной уткой, но сам он был хмур и насуплен.
– Что Амвросий, ты не весел? Буйну голову повесил? Али гостю ты не рад? – пожал руку сияющему улыбкой командиру 3-го батальона капитану Ляховскому. – Никита Родионович, какая кручина повязала храброго витязя?
– Неудачный поход в баню Стрелков Императорской Фамилии, по иронии судьбы, расположившихся по соседству с его батальоном.
– Неваляшки не досталось? – сделал предположение Аким: « Все по парам, погляжу – не женат лишь я хожу», – немного разгладил стихотворной строкой хмурое чело товарища.
– Хуже. Помывшись, Амвросий Дормидонтович вышел в предбанник, и в темноте, с пьяных глаз, думая, что на полу пушистый коврик, вытер ноги о лежащую у скамьи собаку их командира полка…
– Так, Ляховский, хватит куражиться… Ведь столь беспардонно обсуждаешь ни кого-нибудь, а своего старшего полковника, – захромал к столу Гороховодатсковский. – Подозреваю – генерал-майор Шевич пожаловался командиру Стрелков за полученное от меня внушение… Вот тот и натравил своего пса… Как я ненавижу этих собак… Особенно после командировки в Питер.
– Так вызови псину на дуэль, – захохотал Рубанов, доставая из кармана шинели чарку в виде Павловской гренадёрки, продекламировав:
Но настал час сегодня для песен,
И пришёл той кручине конец,
Наш Амвросий по-прежнему весел –
Неваляшку ведёт под венец…
сумел всё же развеселить мрачного друга, вызвав на его лице улыбку.
Выставив вторую такую же стопку, несчастный страдалец добродушно уже пробурчал:
– А циничные капитаны пусть из кружки водку пьют, ибо не доросли ещё до гренадёрской стопки. За семнадцатый год, господа! – под звуки винтовочных выстрелов в ночное небо наступившего года, выпили водку офицеры. – Второй тост – за победный год для русской армии… Штаб Брусилова разослал по частям Юго-Западного фронта поздравительные открытки, – вытащил из кармана мундира почтовую карточку, и зачитал слова командующего: «Я лично, как по имеющимся в моём распоряжении сведениям, так и по глубокой моей вере, вполне убеждён, что в этом году враг будет окончательно разбит!» – Господа офицеры… Гип-гип:
– Ура-ура-ура! – дружно прокричали они.
Ранним новогодним утром германская артиллерия обстреляла деревню Свинюху.
– Дают знать, что застолье пора заканчивать, – высказал свою точку зрения Гороховодатсковский.
– Вредные какие… Узнали, что нам хорошо и решили настроение подпортить, – пришёл к умозаключению Ляховский.
– Сейчас наши похмельные пушкари с высоты «триста двадцать» по ним долбанут, – предсказал дальнейшее развитие событий Рубанов. – Мало гансам не покажется, ибо артиллерийский штабс-капитан дотошный и педантичный малый, – стал собираться «домой» в «Аптекарский переулок».
Так оно и получилось.
Четыре трёхдюймовки во всю «работали», посылая снаряд за снарядом в сторону врага.
– Осемь-два, осемь-два, робяты, – прижав к уху телефонную трубку, весело кричал, высунувшись из блиндажа Махлая, что на «Миллионной улице», артиллерист-наводчик, припёршийся в гости с «Трёхдюймового переулка». – По свои-и-м – огонь! – развеселил он телефонную команду и денщика Митьку.
Петербуржцы Новый год встретили ни так романтично и весело, как армейцы.
Столица кипела интригами, сплетнями, слухами. Словно зрители в театре, все с интересом ожидали революцию, трепеща в душе и внутренне любопытствуя: «Какая она из себя? Наверное, бесконечные карнавалы, салюты, балы и море шампанского», – млело от ожидания интеллигентное общество.
Высший свет захлёбывался коньяком и разговорами о высылке великого князя Николая Михайловича, обвиняя в этом, ясное дело, царицу.
Будоражил нервы знати и Новогодний Высочайший приём, на котором государь милостиво поговорив с французским послом Палеологом, подойдя к Бьюкенену, сказал ему несколько нелицеприятных фраз, отчего тот смутился, покраснел и, вынув из глаза монокль, принялся полировать его носовым платком, искоса наблюдая за русским императором, дружески беседующим с румынским дипломатом.
Немного придя в себя, но всё ещё сконфуженный и обескураженный, сэр Джордж шепнул Палеологу:
– Николай Александрович поставил мне в упрёк, что посещаю его врагов, а чуть подумав, он уточнил: «Вы не посещаете, а сами принимаете оппозиционеров в своём посольстве».
Другой острой темой, коей по секрету поделился с Гучковым толстяк-Родзянко, а тот со всем Военно-Промышленным Комитетом, Красным Крестом и высшим генералитетом, был приём, оказанный великой княгиней Марией Павловной председателю Госдумы.
Посетовав на тяжёлую жизнь, нелады в стране и желание венценосцев заключить сепаратный мир с Германией, она неожиданно пришла к выводу, что во всём виновата императрица и её следует ликвидировать либо физически, либо заточить в дальний монастырь, а Николая отлучить от власти и посадить в Петропавловскую крепость.
«Ваше высочество, – несколько обелил себя Михаил Владимирович, с уверенностью предполагая, что слухи об аудиенции дойдут до ушей императора, – позвольте считать, что этого разговора и вашей обмолвки не было», – церемонно откланялся он, вскоре произведя третью сенсацию, а по мнению многих – явный «гаф», ибо встретившись во дворце, демонстративно не подал руки Протопопову, когда тот подошёл поздравить с Новым годом.
Высший свет, в отличие от образованного общества, считал, что Родзянко поступил непочтительно к тому высокому месту, где позволил себе эту бестактную, некультурную выходку. Даже дворцовые лакеи и камердинеры, не говоря уже о скороходах, брюзжали, находя, что толстяк не умеет держать себя во дворце: «Привык, пёс, в Госдуме с депутатами собачиться…»
«Во истину тёмные дела творятся, – отодвинув в сторону документы, грустно размышлял Верховный главнокомандующий и государь Всея Руси, сидя за столом в кабинете Александровского дворца. – Не припомню столь беспокойных и нервных Рождественских праздников то ли из-за дерзкого убийства Распутина, который умел своей молитвой останавливать кровотечения у Алексиса, то ли из-за того, что потеряв молитвенника, так страдает жена, то ли из-за свары среди родственников. Впервые мы с Аликс не поздравили их, и не отправили рождественские подарки, – резко поднявшись, сцепил руки за спиной и не спеша пошёл к окну. – Зима… – глянул на расчищенные дорожки сада. – Рождество… Вот вам всем, – вспомнив, что когда-то был гусаром-забиякой, сложил кукиш и поднёс его к испещрённому морозом стеклу. – Не возьмёте, пока армия за меня… А в апреле начнём громить Германию, России отойдут проливы и Царьград, тогда общество и замирится», – взбодрив себя, подкрутил усы и набил пенковую трубку турецким табаком, присланным когда-то султаном.
Со вкусом вдохнув душистый терпкий дым, решил навестить супругу.
Попыхав трубкой, аккуратно положил её в серебряную пепельницу и вышел из кабинета, с удовольствием ощутив запах навощенного паркета и придворных духов, впитавшихся за многие годы в ткань обивки мебели, шторы и гардины, крамольно подумав: «А ведь мне стало легче на душе после смерти Старца…» – огляделся по сторонам, будто испугавшись, что его тайную мысль может услышать Александра Фёдоровна. Но увидел не супругу, а огромное полотно с Екатериной Великой. Ему даже показалось, что прабабка заговорщицки подмигнула и улыбнулась.
Он ошарашено остановился перед портретом, поймав себя на мысли, что на Святки всякое может померещиться, и, размышляя о чудесах, спросил у внимательно наблюдающего за ним арапа, где в данный момент находится императрица.
– В комнате великих княжон, – сверкнув в улыбке крупными зубами, ответил тот.
– Так будь добр, пригласи её в ореховую гостиную: «Ни к чему, чтобы дочери слышали о наших проблемах», – войдя в гостиную жены, чуть простонародно не сплюнул, наткнувшись взглядом на гобелен «Мария-Антуанетта и её дети» с картины Виже-Либрена: «Бестолковые французы, – не первый раз психанул он, отводя взгляд от изображения королевы. – Вечно всё делают наперекос. Не нашли ничего лучшего, как преподнести Аликс в подарок Антуанетту, которой взбунтовавшаяся чернь отрубила голову… А может это наша СУДЬБА? – ощутил на спине мурашки и холодный пот на лбу. – Святки, – успокоил себя. – Всё привидеться может и всякая ерунда в голову лезет», – обернулся на шелест шёлка.
– Я жду тебя, любимая, – нежно поцеловал жену в щёку и помог устроиться в кресле, отметив, что она уселась таким образом, дабы свет из окна оставался за спиной и явно не высвечивал начинающую стареть и покрываться мелкими морщинами кожу лица: «Я люблю её любую… Хоть молодую, хоть постаревшую», – пододвинув стул, сел рядом – колени в колени. – Хотел посоветоваться с тобой, дорогая, насчёт английского посла Бьюкенена. Фрондирует и ведёт себя весьма нелояльно по отношению ко мне. Думаю написать Жоржи в Лондон, чтобы он, как король, – на секунду глянул на Антуанетту и тут же отвёл глаза, – отозвал его в связи с тем, что слишком активно и явно общается с оппозицией. Ты, наверное, не забыла, как этот наглец в прошлом году подбивал меня уступить вторую половину Сахалина Японии за то, чтоб она направила несколько дивизий на Западный фронт Союзников, оказав им военную помощь. Я его тогда резко оборвал, едва сдержавшись, чтоб не назвать подлецом, – разнервничавшись, поднялся, прошёл по комнате и присел на стул подле Антуанетты, опершись локтём о хрупкий столик с хрустальной вазой. – Милая, позволь я закурю, – вынул портсигар. – Сейчас, главное, найти верных людей, чтоб они сумели переломить в нашу пользу возникшую непростую ситуацию, – выдохнул дым в сторону и так несчастной французской королевы. – Единственно, кто не подведёт в трудный час – это армия.
– Ники, ты, верно, забыл шашни генерала Алексеева с этим старовером Гучковым, коего так ненавидел наш убитый Друг, – в свою очередь подняла глаза на растерзанную взбесившимися подданными королеву. – Ты всю её обкурил и задымил, – строго попеняла супругу.
– Прости, любимая, – аккуратно загасил окурок в вазе Николай. – А Михаил Васильевич – честный человек и дал слово, что переписки с Гучковым не ведёт и встреч не назначает. Вот Гучков – тот ему пишет.
– Ни только королеву, но и вазу запакостил…
– Писать никому не запретишь, – пропустил мимо ушей про королеву с вазой.
– В тюрьме писать ему будет несподручно, – сурово отреагировала на реплику мужа Александра Фёдоровна.
– В какой тюрьме? – опешил супруг.
– В которую Гучкова следует немедленно определить. Алексеева отстранить от должности и отправить в отставку, а Думу – распустить. Только так ты покончишь с врагами и оппозицией, – нервно поднялась из кресла императрица, направившись к супругу и остановившись напротив. – Теперь военное время, и с врагами следует поступать жёстко. Выбрось пряник и возьми кнут. Будь твёрд. Покажи властную руку. Сокруши всех, ведь ты, и никто иной – хозяин земли русской. Вспомни, как поступил Жоржи, когда в прошлом году в Дублине подняли мятеж ирландцы!?
Восставшие захватили центр Дублина и выпустили «Прокламацию о создании Ирландской Республики». Английские власти с ними не церемонились. Чтоб бунт не перекинулся на всю страну, двадцать тысяч британских военных взяли город в осаду, но неожиданно для них восставшие оказали яростное сопротивление. Тогда, ничтоже сумняшеся, – с трудом выговорила царица трудное для неё словосочетание, – власти подтянули артиллерию и корабли, без промедления приказав открыть огонь. Главной мишенью для командования являлся почтамт, где укрылось большинство инсургентов. В результате обстрела разрушили прилегающий квартал, погубив при этом тысячи мирных жителей… И плевал Жоржи на общественное мнение с высокой колокольни… Вернее, с башни замка Тауэр. Главное – власти быстро подавили мятеж, не дав повстанцам раскачать обстановку в стране и тем паче, сменить власть. И никто не посмел написать в газетах, что английский король: «Жоржи кровавый». Он по-прежнему душка, главный демократ и добрый человек… Подданные любят сильных правителей. А коли не любят, так молчат, высказывая своё недовольство лишь на кухнях во время ужина.
– Я не английский король, а царь-батюшка, – поднявшись, взял жену за руки Николай. – Вслушайся: «БАТЮШКА». И не имею права отдать приказ флоту войти в Неву и открыть огонь по почтамту, ежели вдруг его займут революционеры, потому как могут погибнуть безвинные люди… Давай на время забудем политику, и как в молодости, посетим Манеж, где устроили Новогоднюю ёлку для нижних чинов.
– Ага! – словно простая баба воскликнула императрица. – Затем попойка с гусарскими офицерами и в балет… К Матильде…
«Было бы неплохо тряхнуть стариной», – улыбнулся царь и, сделав вид, что обиделся, пафосно воскликнул:
– Ну какая, к чёрту, Матильда!?
Образованное общество уже давно не называло государя «царь-батюшка», и мечтало списать самодержца в утиль, пауками плетя вокруг трона бесчисленные интриги.
Интриги… Интриги… Интриги…
Князь Георгий Евгеньевич Львов, толстовец по убеждениям и высокоградусный масон по призванию, намеченный «культурным» обществом ещё в прошлом году председателем правительства общественного доверия, что считалось ими по значимости много выше какого-то там тривиального императора, с огромной завистью относился к успехам Гучкова на поприще «Прогрессивного блока» и председателя Центрально военно-промышленного комитета.
Нервы князя нестерпимо свербели от зуда честолюбия, ибо он узнал от верных людей, что Александр Иванович со товарищи из Блока и Комитета, ориентируются на брата царя – Михаила Александровича, дабы поставить его регентом к царевичу Алексею, а то и вовсе возвести на Российский Престол.
Сам Львов сделал ставку на великого князя Николая Николаевича.
Благодушно попеняв при встрече Гучкову на нарушение «этических норм инсургента», и корча из себя наивного бесхитростного человека, простодушно при этом хихикая и потирая мясистый утиный нос, тонко намекнул миллионщику, что на престоле приятнее бы смотрелся «Николай Третий», а именно, великий князь Николай Николаевич: «А ещё приятнее там бы смотрелся Я».
– Колька-длинный? Да он дурак, – совсем распоясался Гучков, пренебрежительно, как на клиента дома умалишённых, глянув на бормочущего, по его мнению, всякую ерунду, князя.
Но выходец из московской купеческой семьи, прадед коего был дворовый человек, может даже у князей Львовых, купился простоватым видом оппонента, не раскусив, что князь хитёр – палец в рот не клади, и умеет добиваться того, к чему стремится. Георгий Евгеньевич быстро придумал свой вариант возведения на престол, после свержения законного монарха, его длинного двоюродного дядюшку.
Для этого, ещё в декабре прошлого года, когда «фараоны» нагло прикрыли проходящий в Москве 5-й съезд Всероссийского Союза городов, председателем коего являлся Львов, он собрал у себя на квартире разгорячённых разгоном полиции сторонников во главе с Московским городским головой Челноковым, тут же ознакомив собравшихся с планом низложения правящего императора и заменой его Наместником Кавказа, великим князем Николаем Николаевич, без приставки «длинный».
Вечером 9 января Дворцовый комендант Воейков пригласил поиграть в домино нового своего помощника – Свиты Его Величества генерал-майора Гротена, бывшего командира 1-го гусарского Сумского полка, начальника Дворцовой полиции Герарди и его заместителя подполковника Банникова.
– Слава Богу, господа, день прошёл без эксцессов, – перекрестился Воейков, – первым делая ход. – Начальник Отделения по охране общественной безопасности и порядка в Петрограде Константин Иванович Глобачёв перепугал меня намечающимися демонстрациями рабочих, прислав докладную записку, – отложив домино, достал из ящика стола исписанный крупным почерком лист бумаги и прочёл: « Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений. Одинаково серьёзно и с тревогой ожидают как революционных вспышек, так и, якобы, дворцового переворота…» – Докатились, господа… Завтра сделайте одолжение, Пал Палыч, вместе с Банниковым навестите генерала Глобачёва и переговорите с ним. В его рапорте особо указывается на противоправительственную деятельность Гучкова, Коновалова, князя Львова и других. После составите на моё имя письменный доклад, а я передам его государю. О том же вчера говорил Маклаков… Да не думский болтун, а его брат. Государь назначил ему аудиенцию, и он передал царю записку, лейтмотивом коей являлась мысль о том, что принятие Конституции приведёт к гибели Российской империи. Правые партии будут уничтожены левыми, а затем произойдёт гибель династии, на смену которой придёт коммуна, а следом – мужик-разбойник. Да ещё с ружьём. Из записки следует, что России свойственен лишь Монарх и старая народная формула: «Народу мнение, а Царю – решение», – является основной для Державы.
Все согласно покивали, не забывая стучать костяшками о стол.
– Политика, уважаемый Пал Палыч, – обратился он к Гротену, – это вам не шашкой махать. Тут всё намного сложнее. Постигайте постепенно сию науку.
– Буду стараться, а не постигну, так сниму со стены георгиевскую саблю и попрошусь у императора на фронт, – громко припечатал ладонью с домино о крышку стола, делая ход.
– Н-да! Чувствуется рука кавалериста, – тихо приставил к костяшке домино Гротена свою. – Рыба, господа, – удовлетворённо произнёс Воейков, подсчитывая в уме сумму очков.
В полдень следующего дня, согласно распоряжению Дворцового коменданта, Банников с Гротеном, на моторе, направились из Царского Села в Петроград на Мытнинскую набережную к особняку принца Ольденбургского, где в последнее время располагалось Охранное отделение.
Пока ехали, Банников вкратце описал его составляющую:
– Петроградское отделение – самое крупное в России. Насчитывает до шестисот служащих. Это, конечно, не гусарский полк, но тоже приличный орган.
– Какой ещё орган? – оторопел Гротен.
– Не конский, конечно, ваше превосходительство, – жандармски-цинично пошутил Банников. – Орган местного политического розыска.
– Вы в кавалерии, случайно, не служили? – заинтересовался генерал. – Шутки у вас слишком гусарские.
– Никак нет. Мы с Константином Ивановичем Глобачёвым больше по инфантерии. Он в своё время Павловское военное училище закончил, а после – я. Перейдём к нашим… э-э-э… жандармам, – вновь сподобил весело хмыкнуть Гротена. – Собственно, Питерская Охранка имеет агентурную часть, следственную часть, наружное наблюдение, канцелярию и архив. Агентурная часть является базой всего политического розыска. Так, несколько офицеров ведают освещением деятельности партии социал-демократов большевиков, несколько – социал-демократов меньшевиков, социалистов-революционеров. Ещё несколько офицеров занимаются общественным движением и анархистами. Каждый из этих офицеров имеет своих секретных сотрудников. Отдел наружного наблюдения состоит из ста штатных наблюдателей, или филёров. Охранная команда насчитывает триста чинов охраны и занимает особое помещение на Морской улице за номером двадцать шесть. Регистрационный отдел состоит из тридцати полицейских надзирателей и наблюдает за неблагонадёжным элементом, приезжающим в столицу и проживающим в гостиницах или меблированных комнатах. Штат, как видите, небольшой для такого города. Охранное отделение официально подчиняется Питерскому градоначальнику, но в суть и технику работы он не вникает. Реально руководит Охранным отделением Департамент полиции и, главным образом, товарищ министра внутренних дел, заведующий политической частью. Население Петрограда, насчитывавшее до войны один миллион, сейчас возросло, вместе с окрестностями, до трёх, что создало дороговизну продуктов – торгаши не теряются, а также появились проблемы в квартирном вопросе и с транспортом. Извините, Павел Павлович, за разговорами незаметно добрались. Вот и домишко охраны, – указал на огромный дворец, – в третий раз вызвав улыбку на лице генерала.
В кабинет Глобачёва их проводил молчаливый унтер-офицер.
Просторное помещение с лепным потолком, дубовыми панелями и паркетными полами поглотило человека за объёмным, покрытым зелёным сукном, столом, окольцованном массивными стульями с мягкими, обитыми чёрной кожей, сиденьями, высокими спинками и резными подлокотниками.
– Здравствуйте, господа. Прошу садиться, – радушно поднялся с одного из таких стульев Глобачёв, положив на рычаг телефона трубку. – Уже интересуются – добрались вы, или ещё в пути, – подождав, пока гости рассядутся, устроился за гигантским столом, предварительно выдвинув ящичек и достав из него потёртую, чёрной кожи, как и на стульях, папку.
Гротен поёрзал на широком сиденье, подумав, что стулья расположены неудобно. Они с Банниковым оказались лицом друг к другу, разделяемые трёхногим невысоким маленьким столиком с круглой крышкой, и боком к хозяину кабинета. Вздрогнув от громко пробивших три раза напольных часов за спиной, Павел Павлович приготовился слушать начальника Охранки.
Как истый военный, он традиционно недолюбливал жандармов: «В строй следует проситься», – повернул голову в сторону Глобачёва, независимо забросив ногу на ногу.
– Господа, Дворцовый комендант попросил ввести вас в суть антиправительственных сил, тайной и легальной оппозиций в России. Точнее, кратко охарактеризовать их.
– Так точно, ваше превосходительство. А то, сами знаете, через три недели в столице намечается провести Конференцию союзников в лице представителей Англии, Франции и Италии. Причём, британскую делегацию возглавляет военный министр лорд Милнер. А вы помните загадочную смерть прежнего английского военного министра лорда Китченера, направившегося по приглашению нашего императора в Россию на борту крейсера «Хэмпшир». Китченер собирался побеседовать с царём о чём-то весьма важном, но крейсер, по странной случайности, в которые я не верю, подорвался на немецкой мине и затонул.
– Может, его потопила германская подводная субмарина, – Не согласился с Банниковым, выдвинув свою версию гибели крейсера, Глобачёв. – Но факт остаётся фактом. Лорд Китченер погиб. По нашим сведениям он был большим патриотом Англии, и потому от всей души желал победы России в мировой войне. Так же наводит на некоторые размышления выдвижение Милнера на пост военного министра. Нам известно, что ещё в далёком девяносто первом году прошлого века, в Лондоне создали тайное масонское общество под названием «Круглый стол».
Гротен машинально глянул на трёхногий столик с круглой крышкой.
–…Среди членов-основателей, – продолжал Глобачёв, – кроме Милнера, были Ротшильд и сэр Джордж Бьюкенен. В четвёртом году организацию возглавил Альфред Милнер. Сотрудничает с ней и нынешний британский премьер Ллойд Джордж. Через Ротшильда эта масонская организация имеет связи с семействами: Шифф, Варбург, Рокфеллер и другими. Эти богачи представляют интересы ни столько своих стран, сколько интересы межнациональных финансовых групп.
– А как известно – миром правят деньги, – перебил жандармского генерала кавалерийский.
– Совершенно верно. Причём их руководящий центр находится в Нью-Йорке на Бродвее, сто двадцать. На тридцать пятом этаже этого небоскрёба располагается Клуб банкиров, где встречаются Морган, Шифф, Барух, Леб и многие другие воротилы финансового мира Америки.
– Все – лица определённой национальности, – вставил реплику Банников.
– Ну да! Американцы, – иронично ухмыльнулся Гротен.
– Не совсем американцы, – ответно, но без иронии, улыбнулся Глобачёв. – Скорее, прав господин подполковник. По тому же адресу располагается, как это у них… не контора… ах, да – офис Джона Мак-Грегора Гранта, представляющего в Штатах Петроградского банкира Рубинштейна. В этом же небоскрёбе находится банковская контора Вениамина Свердлова, родного брата большевика Якова Свердлова. Вы-то, Павел Павлович, о нём вряд ли слышали, а подполковник, уверен, весьма наслышан. Здесь же обосновался английский шпион Сидней Рейли, главное связующее звено между американскими и российскими еврейскими финансовыми группами. Этот агент, по нашим наблюдениям, находится в тесных дружеских отношениях с родным дядей большевика Льва Троцкого, Абрамом Животовским. Племянничек сейчас проживает вместе с дядюшкой.
– Троцкий? Владимир Иоанникиевич? – вытаращил глаза Гротен.
– Успокойтесь, Павел Павлович, однофамилец, – не сумел сдержать смех Глобачёв, а за ним и Банников. – По этому же адресу, – вытер глаза платком жандармский генерал, – ведёт свой бизнес друг Рейли – Александр Вайнштейн. Его брат, Григорий – владелец российской газеты «Новый мир». Мы заинтересовались редакторским составом этой успешной газеты: Бухарин, Урицкий, Володарский, Коллонтай – все эсдеки. И все люто ненавидят русского императора. В тринадцатом году в стране создаётся масонский «Великий Восток Народов России». Кто отцы-основатели и на чьи деньги учредили ложу, сомнений нет. Они находятся в Нью-Йорке на Бродвее сто двадцать. Приложили руку и французские братья. Шестнадцатого декабря адвокатишка Керенский неожиданно занял должность Генерального секретаря этой масонской ложи и, что удивительно, в ночь на семнадцатое был зверски убит Распутин. Слава Богу, пока масонская интриганская политика чужда простому русскому народу. Не все рабочие, а тем более хлеборобы, поддерживают призывы господ Гучковых и К градусов, выходить на демонстрации и бастовать. Как мне доложили, это воспринимается многими масонами как рабская натура русского народа: «Я не могу скрыть, – заявил осенью прошлого года масон Кизеветтер на одной из кадетских сходок, – что есть одна сила в русском народе, которая всех стремящихся к прогрессу приводит в отчаяние – это сила безграничной тупой покорности и терпения. Её мы сейчас опять и наблюдаем». – Прогресс в его понимании – революция, убийства и беспорядки. Заставляют народ бастовать, а люди хотят спокойной жизни. Они понимают, что простой человек всё равно власть не получит. К власти придут циники и подлецы. Но они упорно стремятся раскачать ситуацию, внушая через свои газеты и листовки, что власть во главе с царём следует свергнуть для будущей хорошей жизни. Как когда-то сказал Пётр Чаадаев: «Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью». – А истину они говорить ни в коем случае не станут. Да они её и не знают, – разволновавшись, раскрыл и вновь закрыл ящик стола. – А из всех лидеров социал-демократов наибольшие проблемы могут исходить от Израиля Лазаревича Гельфенда, российского еврея, родившегося в местечке Березино, Минской губернии. Сейчас он более известен как Александр Львович Парвус. В юности уехал в Швейцарию, учился в Базельском университете, где изучал банковское дело и финансы. Смолоду лелеял в душе две мечты: революцию в России и жажду обогащения. Одну мечту уже осуществил – разбогател. С революцией пока не получается, хотя в девятьсот пятом году играл чертовски важную роль во время бунта в России, став лидером Питерского Совета рабочих депутатов. За что был осуждён вместе с Троцким, и так же, как он, бежал из страны. В позапрошлом, пятнадцатом году, изложил германским властям «меморандум о подготовке революции в России», где описал, как вывести русских из войны и привести к власти радикалов, которые заключат с Берлином сепаратный мир. Причём революцию обещал организовать девятого января, в годовщину «Кровавого воскресенья». Но этого ни вчера, ни в прошлом году не произошло. Теперь он подталкивает к совершению революции эсдека Ульянова-Ленина, который, прочтя сотни книг, вывел из них ключевую для себя истину: насилие приводит к власти. Нет власти без насилия! Нужна диктатура. Нужно насилие через диктатуру. Вот главный его философский постулат. А орудие для осуществления диктатуры – рабочий класс. Главная на сегодня задача – одурачить, подмять и покорить его. К этому знаменателю мы пришли в результате разработки политика эрудированным агентом с двумя высшими университетскими образованиями.
– А наш император другого склада человек: «Война есть война, и солдат гибнет за Отечество. А казнить – грех!» – высказал своё мнение Банников. – На мой взгляд, это неправильно. Врагов следует уничтожать. Правильное решение принял прадед Николая Второго, повесив пятерых декабристов. Если бы его правнук велел вздёрнуть полдюжины воинствующих фрондёров во главе с Гучковым, в стране наступил бы так нужный сейчас внутренний мир и спокойствие. Пусть бы последующую сотню лет либералы сочиняли обличающие царя памфлеты.
– Согласен! – продолжил экскурс в паутину революционных партий Глобачёв. – В данный момент эсдек Ульянов никого не казнит, а тихо живёт в Швейцарии, в Цюрихе, в доме обувщика, что чрезвычайно связывает его с рабочим классом, – хмыкнул начальник питерской Охранки, – и пишет политические статьи. Агент доложил, что публицист часто подавлен, потому как их никто не читает. Ежедневно гуляет привычным маршрутом, но иногда, когда избавляется от мерехлюндии, то есть – от хандры, меняет его, забредая в незнакомые парки, скверы и улицы. Переписывается и встречается с Инессой Арманд, подчас помогающей вождю пролетариата скрасить тяжёлые эмигрантские будни. Как-то, перепив пива, на всю пивную шумел: «Если Христос любил Магдалину, то почему мне нельзя любить Арманд?» – Полагаю, это явная инсинуация. Агент заразился от Ильича унынием и решил таким образом поправиться, – вызвал улыбки слушателей. – Ближайшие его сподвижники и, разумеется, наши заграничные агенты в курсе, что сердце Ленина временами трепещет от бурной нежности к некой Анжелике Балабановой… И он не ждёт никаких революций, привыкнув за двадцать эмигрантских лет к размеренной спокойной жизни в цивилизованных культурных странах. Недавно, читая лекцию группе швейцарских молодых рабочих, пессимистично заявил: «Революции в Европе будут, но мы, старики, вряд ли доживём до них». О революции в России даже не мечтает… Вот такой, господа, расклад оппозиционных сил, – поднялся со стула Глобачёв, протянув Банникову кожаную папку. – Здесь краткие рапортички и мои выводы о сегодняшней ситуации в стране, – распрощался с гостями Константин Иванович.
Император искал верных людей, но они были наперечёт.
За январь месяц Николай дал около полутора сотен аудиенций, обстоятельно обсуждая с принятыми лицами текущий момент и ближайшее будущее.
Некоторые из них предупреждали государя о надвигающихся беспорядках и об угрожающей ему лично опасности. Государь успокаивал их, отвечая, что они сгущают краски и что к лету, после завершения победоносной войны, всё образуется: «Всё в руках Божиих и на всё Его воля. Я категорически против дарования ответственного министерства, то есть против конституции, особенно во время войны. Победим, тогда и станем решать вопрос о конституции».
Председателем Государственного Совета государь назначил бывшего министра юстиции Щегловитова – волевого, умного, опытного в политике учёного-юриста, яростно ненавидимого левыми кругами и еврейской диаспорой.
«Ванька Каин», – называли они его за антисемитские взгляды и за то, что состоял в монархической организации «Русское собрание».
Но даже Щегловитов негативно отозвался в 1916 году о тогдашнем правительстве: «Паралитики власти слабо и нерешительно борются с эпилептиками революции».
Иван Григорьевич, став председателем, преобразовал состав Госсовета, освободив престарелых членов и поставив на их место молодых людей консервативных взглядов.
Дабы выяснить настроение армии, кроме гражданских лиц, Николай принял в январе некоторых высших генералов. Все они заверили верховного главнокомандующего в верности войск и их желании поскорее разбить противника.
Принимая генерала Гурко, император высказал ему пожелание вызвать в столицу на отдых с фронта кавалерийские части: « А то скоро съедутся на Конференцию высшие чины союзников и негативные эксцессы были бы нежелательны».
Вскоре Гурко доложил императору, что переговорил с командующим Петроградским военным округом генералом Хабаловым и тот заявил, будто в Петрограде и окрестностях нет места для расквартировки такого количества войск. Государь высказал сожаление и повелел вызвать хотя бы Гвардейский экипаж.
В конце января в российскую столицу начали прибывать миссии союзников в лице представителей Англии, Франции и Италии. Всего 37 человек.
Поселить их запланировали в самой фешенебельной гостинице Петрограда – «Европейской», состоящей из 300 номеров ценою от 4 до 40 рублей за сутки.
Главный представитель союзнической миссии лорд Милнер благополучно прибыл на английском крейсере в порт Романов на Мурмане.
«Какой у этих русских, кругом беспорядок», – критически оглядел горы военных и гражданских грузов на пристанях порта.
Однако его настроение улучшилось, когда увидел отведённые ему роскошные апартаменты отеля. Отдохнув, министр британской короны пригласил на обед посла Бьюкенена, постояльца этой же гостиницы мистера Самюэля Хоара, официально – главу британского Бюро информации, неофициально – резидента английской разведки Сикрет интеллидженс сервис в Петрограде, и заранее вызванного из Москвы генерального консула Роберта Брюса Локкарта.
В просторной гостиной, обставленной мебелью в стиле Людовика Четырнадцатого, джентльмены уютно устроились вокруг кофейного столика, надумав прежде обсудить за чашечкой кофе ситуацию в России и планы союзников.
Мистер Хоар, как истинный разведчик, заблаговременно узнал, что сэр Альфред безумно любит кофе а не чай, как большинство англичан, потому подсуетился и в магазине Жоржа Бормана у «пяти углов», заказал лучшие бразильские зёрна.
Бесшумный официант с безукоризненным пробором в редких волосах – лейтенант интеллидженс сервис, а не унтер с Охранки, принёс напиток и тут же по-английски испарился, дабы удостовериться – нет ли поблизости русских коллег из охранного или жандармского отделений.
И на дух не переносивший кофе сэр Джордж, пригубив для приличия глоток этой мерзости и брезгливо утерев салфеткой губы, достал из принесённого несессера блокнот в сафьяновом переплёте и, раскрыв, дабы чего не забыть, стал рассказывать военному министру подоплеку постепенно разворачивающихся событий, начав с того, как пресса критикует правительство:
– Несмотря на цензуру, журналисты и редакторы давно намастачились обходить разного рода запреты.
Закончив о политике, перешёл к экономике, поведав «брату», близкому к Ротшильдам, о положении на Московской и Петроградской биржах, и о курсе рубля, который: «благодаря нашим стараниям, резко покатился вниз», – перескочив затем к намечающемуся дворцовому перевороту, заявив, что если Николай не пойдёт навстречу буржуазной общественности, то они его свергнут.
– Даже придворные сферы затронуты идеей переворота. И уже сочувствует этому часть высшего генералитета.
– Я ещё встречусь с председателем военно-промышленного комитета Гучковым, князем Львовым, председателем Госдумы Родзянко, бывшим министром иностранных дел Сазоновым и досконально прозондирую политическую обстановку в стране, сделав потом свои выводы. Открою секрет. Главная цель моего визита – заставить русского монарха допустить к власти подконтрольную нам, то есть Антанте, оппозицию, и своих людей в Ставку, дабы они могли влиять на принятие решений русскими генералами, что имело место в начале войны, когда всем руководил великий князь Николай Николаевич. В случае, если император не пойдёт на эти условия, вы, сэр Джордж, скоординируете действия масонских заговорщиков. Деньги на это благое дело я вам выделю. И немалые, – перешли в столовую, где официант накрыл роскошный обед в стиле а-ля-рус: чёрная икра и пироги, кулебяки и уха, паштеты из дичи и жареный поросёнок, что несколько примирило британского военного министра с Россией.
31 января русский император принял делегацию союзников в Александровском дворце, нанеся несмываемую обиду военному министру великой Англии, ибо, согласно протоколу, послы, а не главы делегаций стояли в первом ряду и ему, лорду Британской империи, царь совершенно не оказал внимания, удосужившись лишь безразлично поинтересоваться: «Вы хорошо доехали?»
«Шьёрт побъери», – применил перенятое у выскочки Бьюкенена русское выражение.
4 февраля новая обида – прескверный парадный обед.
Лорд пришёл в номер голодный, и мистеру Локкарту пришлось заказать в гостиничном ресторане несколько блюд, оказавшихся много вкуснее царского угощения.
В результате нервного расстройства сэру Милнеру приснился скалящий зубы Ллойд Джордж, любивший иногда изображать из себя этакого «валлийского весельчака». Правда, потом приснилась секретарь-стенографи-
стка Френсис Стивенсон в короткой, по новой военной моде, юбке, и невесть откуда взявшийся Уинстон Черчилль, всегда хранивший верность своей обожаемой Клементине, хулигански шлёпнул чужую секретаршу по выпуклому заду: «Шьёрт побъери, – в холодном поту проснулся лорд Милнер. – Ведь мне шестьдесят лет и в силу возраста стенографистки сниться не должны. Быть сегодня какой-то пакости».
И она не заставила себя ждать… Потому как сны, обещающие пакость, всегда сбываются.
На письменные требования, которые ещё в Лондоне напечатала мисс Френсис: «Введение в штаб Верховного главнокомандующего союзных представителей с правом решающего голоса. И обновление командного состава армии в согласовании с державами Антанты», русский император ответил отказом.
По первому пункту выдвинул следующие обоснования: «Излишне введение союзных представительств, ибо Своих представителей в союзные армии с правом решающего голоса вводить не предполагаю».
Второй пункт отклонил с мотивировкой: «Тоже излишне. Мои армии сражаются с большим успехом, чем армии Моих союзников».
На дневном заседании лорд Милнер, сверкая злыми глазами и придворным мундиром короля Георга, нагло заявил русским союзникам, что ждать помощи снаряжением и боеприпасами – пустое дело.
– Вы сами обязаны производить необходимое вам вооружение, а ваше правительство не соображает, как руководить промышленностью в военное время, – отбросил дипломатию. И, забывшись, добавил: – Если Верховный главнокомандующий не станет выполнять пожелания лорда Бьюкенена, то Лондон будет вынужден теснее сойтись с оппозицией.
«Совсем обнаглели альбионовцы туманные, – разозлился лояльно относящийся к союзникам генерал Гурко. – Подставили всех: Германию, Францию и Россию, в надежде, что на их острова война не дойдёт. А жаль… Поразмышляешь немного, и делаешь вывод, что наши главные враги не прямолинейные, как меч, арийцы, а коварные, словно кинжал, англосаксы. И бьют всегда не на прямую, а со спины. Прямую атаку мы сумеем отразить, а вот предательский удар от якобы «друга», отразить трудно».
Поняв, что сболтнул лишнее, главный представитель Англии тут же уехал в Москву.
Но многим в высшем свете наглая его ремарка понравилась, и один из великих князей великодушно предоставил Милнеру для поездки свой салон-вагон.
В Москве бунтующему лорду оказали царский приём.
Городской голова Челноков встретил английского военного министра на парадном крыльце Городской думы, торжественно преподнеся на золотом блюде традиционные хлеб-соль и сопроводил потом высокого гостя через стрельчатый вестибюль на второй этаж, где москвичи закатили британцу такой обед, что до следующего дня он видеть не мог без содрогания накрытый стол. Не сумев от переедания осмотреть как следует Кремль, вынужден был отправиться отдыхать в отведённый ему королевский номер лучшей московской гостиницы.
Вечер он провёл с большой пользой для Британской империи, пообщавшись с представленным ему Челноковым председателем Всероссийского земского союза князем Львовым, коего оппозиция прочила в премьеры будущего министерства общественного доверия.
Произнеся приличествующие случаю высокопарные фразы о радости видеть физиономии друг друга, расположились в удобных креслах перед камином.
Не тратя понапрасну времени, князь Львов озвучил составленный оппозицией документ, в коем говорилось, что война ведётся на два фронта: с внешним врагом и правительством. Признавалось, что победа над внешним врагом немыслима без предварительной победы на внутреннем фронте – над царской кликой. Для этого оппозицией образован штаб из десяти человек, который можно назвать Временным правительством, и в случае победы над режимом, именно он возьмёт в свои руки власть в стране.
«Шьёрт побъери», – чуть не вслух воскликнул лорд, уразумев, какая мощная фронда образовалась в Москве и стремится вырвать власть у императора.
Закончив чтение и подняв на визави наивные детские глаза, так не вязавшиеся с седой бородкой и морщинами на лице, собеседник мягким голосом подытожил:
– Если в ближайшие дни позицию царя не удастся изменить и вырвать у него ответственное перед народом министерство, то в конце февраля – начале марта произойдёт переворот. Сил для этого у нас достаточно.
– Я вас понял и, безусловно, поддерживаю вашу программу и обещаю полное содействие, – поднялся со своего кресла британский министр, и князь тут же последовал его примеру, протянув лорду экземпляр меморандума.
Настроение сэра Альфреда сделалось превосходным, и, прощаясь, он радостно ощерил из-под усов верхние крупные зубы, зная уже, что сделает квинтэссенцией будущего отчёта Ллойду Джорджу и господам из Сити: «Этому царю мы пообещали в случае победы Константинополь и проливы, а новому – не обещали ничего… И не дадим. Не нужны России проливы, – жизнерадостно потёр ладони Милнер, вольготно расположившись в гостиничном кресле уютного своего номера, и пробежав глазами меморандум. – Я думал, москвичи будут наряжены в старообрядческую одежду и сапоги, а они одеты в прекрасно пошитые фраки и говорят на чистейшем английском языке. С ними приятно иметь дело».
– Ваше высокоблагородие, – обратился к Глебу Рубанову дежурный телефонист, – командир полка зовут к себе в блиндаж.
– Тьфу, ты! В такую погоду вечерний моцион придётся совершать, – отложил зачитанную книжку и потянулся, захрустев суставами, подполковник. – Иди, понял я, – отпустил нижнего чина, не спеша надевая шинель, подпоясываясь портупеей с висящей на ней кобурой с наганом и накидывая сверху непросохший макинтош: «А ведь когда-то носил расшитый золотыми жгутами доломан, чакчиры и гусарскую шапку из чёрной мерлушки с цветным шлыком, государственным гербом и чешуйчатым подбородником… Не верится, что когда-нибудь кончится война и я, если останусь жив, вновь надену гусарскую форму, – водрузил на голову влажную папаху и выбрался из землянки наружу. – Что за погода дрянная, – спотыкаясь, побрёл, хлюпая сапогами по жидкой грязи хода сообщения, к блиндажу полковника. – У нас в Рубановке сейчас сыплет снег, а у этих чухонцев идёт промозглый мелкий дождь, сопровождаемый злобным ветерком, – чертыхнулся, когда из мелкого хода сообщения шагнул в глубокий ров окопа, вымазав рукав макинтоша о липкую стену чёртовой канавы. Пройдя ещё несколько траверсов, поёжился от попавшей за шиворот холодной влаги, и наконец, свернул в ход сообщения, ведущий к блиндажу командира полка. – Как кроты копошимся в этих скользких ходах сообщения», – спустился по грязным деревянным ступеням вниз и распахнул неплотно прикрытую дверь, очутившись в затхлом тепле помещения, выполняющего роль штаба полка, или предбанника, как называли «конуру» офицеры. Распрямившись – потолок был довольно высок и обшит досками, скинул на руки вестовому плащ и шинель, кивнув трём вытянувшимся у чугунной плиты с кипящим чайником солдатам, чтоб занимались своими делами.
Четыре телефониста, лениво оторвав задницы от табуретов, тут же, приняв отрешённо-деловой вид, шмякнулись на них, а Рубанов, раскрыв ещё одну дверь, зажмурился от двух ярких пятнадцатилинейных керосиновых ламп по краям широкого стола с картами – не топографическими, а игральными.
– А вот и комбат пожаловал в апартаменты на ужин и «рюмку чая», – подошёл к нему полковник Жуков, назначенный в декабре командиром полка вместо ушедшего на повышение Гротена.
Был он деликатен, мягок до колик в животе боялся вышестоящего начальства и потому подлизывался к старшим офицерам, дабы они и их подразделения не подвели в случае неожиданного смотра или просто приезда бригадного либо дивизионного генерала. Ежели бы вдруг, по какой непредвиденной оказии, в часть наведался бы корпусной генерал, не говоря уже о командарме, ноги его подломились бы со страху, и докладывать о полковых делах пришлось бы Рубанову.
– Не желаете партийку в «шмоньку?» – стрельнул глазами в сторону стола с картёжниками, откуда доносились азартные крики: «даю», «углом», – характерные для популярного у гусарских офицеров «шмен-дефера», или «шмоньки», в их интерпретации.
– Благодарю, господин полковник. Лучше чаю с рижским бальзамом, – коротко поклонился ставшему лихим картёжником князю Меньшикову.
Удовлетворённый благостной картиной, полковник, словно добрая хозяйка, уселся за соседний столик, велев вестовому принести чай.
– Господа, кто желает ужинать? – обратился к картёжникам, когда вестовой принёс на подносе тарелки с нарезанной колбасой, хлебом и коробочками сардин.
Подошёл только начальник дивизионной ветеринарной лечебницы.
– Князь, когда чин подполковника соблаговолите обмывать? – пододвинул к себе тарелку с колбасой Рубанов.
– Нет, нет, господа, – заквохтал командир полка. – Ну-ка генерал в полк приедет?
– А мы и его угостим, – с аппетитом уминал колбасу Глеб. – Где там бальзам с чаем?
– Чай с бальзамом, – уточнил полковник. – Вы знаете, господа, что в Питере до сих пор под запретом фильма, где показывают, как Георгиевская дума возлагает на государя Георгиевский крест. Потому как пьяная, не смотря на сухой закон публика, тут же жизнерадостно вопит: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием», – оглянулся по сторонам – не услышали ли его солдаты или вездесущий генерал Майдель.
– Что далеко ходить, господа, – доел колбасу Рубанов. Наши прапорщики, набранные из студентов или присяжных поверенных, на смену выбитым за время войны офицерам, бывшим, по преимуществу, из дворян, как идиоты ржут над германской карикатурой, где Вильгельм метром измеряет длину снаряда, а напротив Николай, стоя на коленях, измеряет длину детородного органа у Распутина. Вот так и размываются монархические устои. Я, порвав германскую листовку и едва сдержавшись, чтоб не перестрелять подлецов в офицерских погонах, спрашиваю: «Ну и что, пока ещё господа, в этом смешного? Позорят и унижают нашего государя, а ведь мы воюем за Бога, Царя и Отечество. Досмеётесь когда-нибудь, и так может получиться, что не будет у вас ни Бога, ни Царя, ни Отечества». – «Такого быть не может, господин подполковник. Куда всё это денется?»
– Ваше высокоблагородие, – с трудом скрыв зевоту и щёлкнув для бодрости каблуками нечищеных сапог, прошёл из предбанника в комнату командира полка солдат-связист. – Вас какой-то Мандель или Шмандель, толком не расслышал, к телефону просят.
Собравшийся уже было обругать нижнего чина за непрезентабельный вид, полковник побледнел и схватился за сердце:
– Тише, господа, командир дивизии звонят, – вместо того, дабы обругать солдата, сделал замечание офицерам. – Пойду в предбаБник, – заикаясь произнёс он, и словно на казнь потащился к телефону.
Офицеры дружно грохнули хохотом, не успел командир прикрыть за собою дверь.
– Размечтался! – съязвил Рубанов.
– Разве можно так начальства бояться? – отсмеявшись, высморкался в платок князь Меньшиков. – Ох, ни к добру мы ржём, – спрогнозировал он дальнейшее развитие событий.
– Господа, вытирая ладонью потный лоб, просочился в приоткрытую дверь Жуков. – Велено по тревоге поднимать оставшиеся четыре эскадрона и пешим порядком топать на передовую. Утром вместе с пехотным полком, в который недавно перевели наши два эскадрона – в бой.
– Жаль бросать карты, ведь выигрышная позиция нарисовалась, – произнёс безусый прапорщик, поднимаясь с табурета.
– Да полно вам, молодой человек. Какая у вас была выигрышная позиция? – заворчал его соперник, тоже прапорщик, только пожилой. – Сейчас, положительно, без оклада бы остались.
Картёжники, подойдя к столику с закуской, с аппетитом принялись за колбасу.
– Господа, не подумайте, что мне жалко, но поспешать следует, – суетился полковник, надевая портупею с кобурой на гимнастёрку, потом, охнув, бросил её на стол и, кряхтя, начал натягивать шинель.
– А где обещанный чай со шнапсом? – окончательно добил его Рубанов.
В ночь немного подморозило, и небо расчистилось от туч.
– Когда не нужно, вылезла луна, – стонал полковник, сидя на такой же, как сам, понурой лошади, пессимистично машущей головой, и наблюдал за вяло бредущими гусарами. – Ну что вы, право, как мокрые курицы, шпора за шпору, движетесь? – злился Жуков. – Всего-то с десяток вёрст идти до первой линии окопов.
Рубанов, потягиваясь в седле, с обочины дороги наблюдал за колонной спешенной кавалерии.
Через пару часов, немного опередив свой батальон, состоящий из двух эскадронов, спешился у второй линии окопов, заметив в них движение.
«Может, Соколовский там? Не повезло гусару – пехтурой стал», – отбрасывая мутную тень от прожектором светившей луны, направился к окопам и спрыгнул в мелкую канаву.
– Что происходит, вы кто такой? – строго осведомился стоящий в центре группы солдат офицер, и вдруг широко улыбнулся. – А я вас помню, господин подполковник. В крепости Осовец встречались.
– И я вас узнал, – протянул руку Глеб. – Но вы тогда капитаном были, и сапёрами командовали.
– Так точно. Сейчас комбат у полковника Истратова. Чудесный человек. Не знакомы с ним?
– По-моему нет, хотя фамилию где-то слышал. Как господин Соколовский поживает?
– Страдает! Кому охота из благородных гусаров в пехотную крупу превратиться, – хохотнул подполковник.
– А вы тут к газовой атаке готовитесь? – оглядел солдат с противогазами на боку Рубанов.
– После Осовца пунктик у меня по этому поводу, – стал серьёзным офицер. – Так и жду, что немец газами травить начнёт.
– Да сейчас, ваше благородие, влажность большая, надысь дождь прошёл, вряд ли сейчас гансы его пустят, – сверкнув белками глаз, показал познания в химической науке бородатый унтер, чуть не опрокинув банку с жидкостью подле кучи хвороста.
– Керосин. Зажжённый хворост, согласно химическим законам, должен поднять газы над землёй. Пойдёмте, провожу вас в блиндаж и представлю полковнику Истратову.
Ход сообщения привёл офицеров в невысокий редкий ельник и закончился. Неподалёку, подле пологого холма, Глеб увидел бугор, от которого приятно пахло печным дымом. Пройдя к нему по мягкому хвойному настилу, обнаружили слабый свет, проникающий в приоткрытую дверь, и услышали громкие голоса.
Склонившись в три погибели, друг за другом пролезли в низкую дверь, оказавшись в тёплом помещении, где в углу, за столом, склонив голову под неяркой трёхлинейной керосиновой лампой, чего-то писал седоусый полковник, лицо которого показалось Глебу знакомым.
«Где-то мы пересекались в этой жизни» – прищурив глаза, стал вспоминать, где именно.
Оторвавшись от письма, полковник улыбнулся.
– А я вас узнал, – поднялся он и пошёл навстречу Глебу, выставив перед собой руку. – Фамилию не помню, но мы вместе ехали в санитарном поезде… Давным-давно. Ещё в русско-японскую, – крепко пожав руку, чуть подумал, и обнял Рубанова. – Рад, что вы живы. Значит, это о вас с таким пиететом рассказывал комбат Соколовский, до сих пор не понимающий, за какие такие грехи попал в пехоту. Сейчас ему позвоню и вызову сюда, – направился к телефону полковник.
– Вспомнил, будто вчера было, – выкрикнул ему в спину Рубанов. – Вы – Истратов Аркадий Васильевич. И в июне пятого года наладили передвижение состава, отцепив с соседнего поезда паровоз, – до печёнок поразил химического подполковника, удивлённо воззрившегося на своего командира.
– Было дело, – азартно крутил ручку магнето полковник.
Через десяток минут Глеб обнимал Соколовского.
– Не горюй, гусар, зато пожаловали подполковником, – хлопал его ладонью по спине.
Истратов с улыбкой глядел на них, а вскоре в блиндаж ввалился второй полковник – Жуков, и оба командира, склонившись над картой, принялись о чём-то жарко спорить. Помирил их телефонный звонок, ибо весь жар души и бранные слова Истратов посвятил далёкому абоненту в генеральских погонах.
Куря папиросу за папиросой, он дал выход своему раздражению:
– Мерзавец безмозглый этот ваш Майдель. Средь бела дня, без артподготовки приказал идти в атаку по открытой местности – льду Двины. А немец сидит на противоположном, таком же, как у нас, крутом берегу…
«В Рубановке тоже оба волжских берега крутые», – подумал Глеб, слушая полковника.
–… и пулемёты готовит. Да ещё хрен знает, сколько колючки накрутил у среза воды, – разохотившись, Истратов стал украшать монолог отборными казарменными выражениями.
Немного успокоившись и загасив в банке из-под консервов папиросу, невозмутимым уже тоном произнёс:
– Прошу прощения, господа, но финальное слово бурной моей речи: «блядь…» прошу воспринимать не в качестве ругательства, а как артикль… Если, конечно, помните, что это такое, – вызвал улыбки на лицах слушателей. – А теперь милости прошу на рекогносцировку, – повёл офицеров в первую линию окопов.
Светало.
Поднеся к глазам бинокль и присовокупив к генералу Майделю безвинных, в данный момент, штабистов, союзников, интендантов и других, перемежаемых артиклем, тыловых крыс, Истратов разглядывал покрытый снежком речной лёд и немецкие окопы, сплюнув, когда за спиной раздался грохот разрыва.
– Да не пахнет гнилыми яблоками, – успокоил подполковника из Осовца. – Обыкновенный, а не газовый снаряд, – закончил предложение выразительным артиклем. – Ну что ж, господа, ступайте к своим подразделениям и по сигнальной ракете – в бой, – обошёлся на этот раз без полюбившегося выражения.
Встав на бруствер и выпрямившись во весь рост, Рубанов негромко произнёс:
– Вперёд, ребята, – и, вытащив из кобуры наган, чуть пригибаясь, побежал по льду реки.
Спешенные кавалеристы и пехота, с лёгким матерком скатываясь на лёд с высокого берега, хлынули за ним, балансируя, словно палками, винтовками, дабы не поскользнуться и не упасть.
Немцы открыли по наступающим ружейный и пулемётный огонь.
Молча, без традиционного «ура», Рубанов что есть мочи бежал к замёрзшему валу вздыбившегося ледяного тороса на середине реки, и, добравшись, обессилено рухнул, вытащенной из воды рыбой хватая ртом воздух.
Через минуту, переведя дух, огляделся, увидев вдоль тороса лежащих на льду солдат, направивших в сторону врага винтовки, и множество бездыханных тел от берега до спасительного ледяного вала.
Пулемётные и ружейные пули не давали солдатам поднять головы.
– Ну и палят, курвы, – сделал умозаключение вахмистр, залёгший неподалёку от Рубанова, и поднял на штыке винтовки папаху.
Через секунду она улетела на снег, сбитая пулей.
Подцепив головной убор штыком, вахмистр философски оглядел дыру, а затем, видно не поверив глазам, всунул в пробитое отверстие палец.
– Лярвы поганые, ферфлюхтеры эти… Но как целко стреляют, – водрузил папаху на предназначенное ей место. – Спасибо, что ихние пушкари по берегу лупят, а не по нам.
– Зато кочан теперь болеть не будет, ибо всегда сквознячком продувается, – хихикнул подпрапорщик в гусарских ботиках. – Пять рядов колючей проволоки насчитал, что эти стервецы накрутили. И колючка совершенно не тронута огнём нашей артиллерии. Куда она, интересно, запропастилась? Сейчас и снарядов вдоволь, – замолчал, вжавшись щекой в жёсткий снег, так как рядом с головой пуля выбила крошево льда с тороса.
– Не нравятся гансам твои разговоры о русской артиллерии, – ржанул вахмистр. – Обделался, поди, с перепугу?
– Сам ты обделался, – поднял голову подпрапорщик. – Георгиевские кавалеры врага не боятся, но и понапрасну на рожон не лезут, – шарахнулся от бухнувшегося рядом с ним телефониста с аппаратом и мотком провода в вещмешке за спиной.
– Ой, мамоньки, насилу добрался. Где комбат, робяты? – пополз по направлению указательного пальца вахмистра.
Немецкие пули по-прежнему свистели над головами, но солдаты, не обращая на них внимания и надеясь на укрывавший от смерти ледяной вал, блаженно курили, вполголоса делясь впечатлениями о неудачной атаке.
Бравый подпрапорщик в гусарских ботиках перевернулся для удобства на спину, и с наслаждением коптил синее небо, бубня сквозь зажатую в губах самокрутку:
– Как погоды переменились. Вчерась дождь во всю ивановскую брызгал, а нынче синее небо и солнце.
– Скоро от твоего дыма небо вновь серым станет, – едко произнёс вахмистр, тоже переворачиваясь на спину.
Глеб, между тем, дозвонился до Жукова и доказывал ему, что удар пропадает, так как немецкая проволока целёхонька.
– Господин полковник, даже если батальон доберётся до неё сквозь заградительный огонь противника, то преодолеть под огнём пулемётов не сможет. Поспешили с атакой. Прежде следовало в ночное время разведчиков выслать, чтоб проходы сделали, ежели артиллерии на данном участке нет, а потом атаку бы назначали. Я не учу! А говорю, как следовало делать. Теперь звоните Майделю или кому хотите, и убеждайте, что под таким обстрелом наступать бессмысленно. Уже и сейчас потерь – выше крыши, – бросил трубку и закурил, подумав, глядя на дымящих и ведущих неторопливые, словно на бивуаке, беседы солдат: «Они считают, что свою боевую задачу выполнили, и поднимать их в новую атаку не верную смерть бессмысленно Да и категорического приказа на этот счёт от Жукова не поступало», – вновь взял протянутую связистом трубку.
– Это кто? – услышал голос Истратова.
– Подполковник Рубанов у телефона, Аркадий Васильевич.
– Вот и славно. А то Соколовскому никак не дозвонюсь. Отводите личный состав. И своих и наших. Частями и незаметно для фрицев. Насчёт «незаметно» – указание вышестоящего начальства, иронично хмыкнул полковник и отключил связь.
– На пляже, что ли, лежите? – крикнул вахмистру с подпрапорщиком Глеб. – Цепью выводите солдат к окопам. Да раненых не забудьте выносить, – вынул из футляра «цейс» и стал разглядывать недалёкий берег, где закрепились враги: «Из каких-то гуманистических соображений обстрел явно уменьшился, – поднялся он и чуть пригибаясь, побежал в сторону своего берега, почувствовав, как пуля чиркнула папаху, сбив её с головы. – Не все у гансов гуманные, – нагнулся, чтоб поднять головной убор и почувствовал тупой удар в ногу, которую словно кипятком обожгло. Хотел сделать шаг, но нога подломилась, и он упал на колени рядом с чьим-то телом в офицерской шинели. – Бог ты мой. Да это же капитан из Осовца, – узнал убитого офицера. – То есть – подполковник, – рухнул на лёд рядом с ним. – Вот как бывает… Наверное, в «атаке мертвецов» участвовал и жив остался… А здесь смерть догнала», – увидел подбежавших к нему вахмистра и подпрапора в гусарских ботиках.
– Сейчас, Глеб Максимович, поможем вам, – подхватили офицера под руки и потащили на свою сторону.
– Рубанов, никак не могу с вами пообщаться, пока вы в здравии, – гудел полковник Истратов, сидя в тесном помещении блиндажа на табурете у походной кровати, застеленной белоснежной простынёй.
Здесь же, за столом, расположились Соколовский с Меньшиковым.
– Спирт – лучшее из лекарств, – колдовал над флягой князь, смешивая в равных количествах две жидкости.
– Лошадей только им и лечите, – вставил Соколовский, радуясь, что его друг жив и лишь легко ранен в мякоть ноги. А мне наговорили, что Глебу напрочь ногу оторвало.
– Пустяки, – разливал по кружкам «огненную воду» Меньшиков. – Спирт всё лечит. Только полковник Жуков этого не понимает, – узрел вошедшего в помещение командира гусарского полка.
Через два дня Глеб, получив отпуск по ранению, был уже в Петрограде, а ещё через день, распрощавшись с родными, направился в Москву.
Рана особо не беспокоила, и он блаженствовал в уюте вагона, предвкушая встречу с Натали.
Соседями по купе были седой господин в пенсне и бородке клинышком, и худой прапорщик с высоко вылезающей из ворота гимнастёрки шеей.
Прапорщик постоянно вынимал из коричневой офицерской кожаной полевой сумки какой-то документ, и, закатив глаза, чем очень смахивал на повешенного, шевелил губами, заучивая текст; а седой господин с таким же постоянством снимал с переносицы пенсне и протирал платком.
Разговор не ладился. Заказав у проводника чаю с лимоном, Глеб глядел в окно, наслаждаясь мирным видом России, неожиданно подумав, что осовецкий капитан, убитый на Двине, никогда уже этого не увидит.
Пожилой попутчик, протерев, водрузил на нос пенсне, наведя его стёкла на стакан, и, позавидовав, тоже заказал у проводника чаю.
Юноша с тонкой шеей всё бормотал и бормотал, заучивая страницу текста и вводя в раздражение Рубанова.
«Маменькин сынок, фендрик ушастый, – нелицеприятно подумал о нём Глеб. – До сих пор, наверное, боится ноги промочить и не пьёт сырой воды, ибо маменька не велит… Вот и воюй с такими… Шея как у быка… Хвост! – почувствовал, как вагон загромыхал на стрелках, подходя к какой-то заштатной станции. – Пойти свежим воздухом подышать что ли?», – опираясь на трость, чуть прихрамывая, направился в тамбур.
Пока проводник гремел дверью, открывая её и бормоча при этом наподобие юного прапорщика, только давно заученную матерщину, Глеб разглядывал безлюдный, с грязными тёмными окнами облупленный вокзал с высившимися над ним белёсыми от инея деревьями и хромую, как сам, собаку, прогулявшись, севшую возле медного колокола, висящего на стене между окнами.
Держась за поручень, спрыгнул на перрон с площадки и заскрипел по заснеженному дебаркадеру начищенными Аполлоном сапогами, временами морщась от стреляющей боли в раненой ноге.
Колючий мороз щипал за щёки и нос: «Вот настоящая русская зима, а не чухонская пародия на неё, – заметил, как из тёмного вокзала, прихрамывая, – я, что ли, всех заразил?» – вышел помятый человек в чёрных валенках и тулупе, высморкался на собаку, дал ей пинка, и гулко кашляя, три раза ударил в колокол.
В ту же секунду кондуктор, один из всех присутствующих не страдающий хромотой, внимательно глядя на Глеба, пронзительно затрещал в свисток, размышляя видимо, успеет хромоногий офицер добежать до вагона или нет.
В унисон с ним оглушительно протрубил паровоз и Глеб ловко, несмотря на рану, заскочил в вагон, разочаровав этим уставшего от однообразия дороги проводника.
Маленькая безвестная станция медленно поехала назад, постепенно пропадая из глаз, и тяжело отчего-то вздохнув, Глеб похромал в купе, уловив краем уха, такой же тяжёлый вздох паровоза.
«Я скоро увижу Натали», – с нежностью подумал он, укладываясь на нижней полке.
В Москве, дабы унять возникшее в душе волнение от предстоящей встречи с женой, решил развеяться, проехав по городу на санях.
Велев извозчику остановиться у казарм своего полка, вылез из саней и несколько минут с наслаждением обозревал ворота и здание, вспомнив молодость и полностью восстановив расшатавшиеся нервы.
Затем, купив пышный букет роз и отказавшись от услуг доставщика, поехал к дому Бутенёвых-Кусковых.
Дверь открыла прислуга, и не успел Глеб поднести к губам палец, призывающий её к молчанию, как та, во всю силу лужёной глотки завопила:
– Господа-а! Барин с войны вернулся.
Первой, пока, укоризненно глядя на горлопанку, Рубанов спешно освобождал розы от хрустящей лощёной бумаги, в прихожую влетела Натали и повисла на шее мужа.
Затем, чуть отстранившись и едва сдерживая слёзы, испуганно произнесла:
– Глеб, ты ранен?
– Да нет, споткнулся на вокзале, – прислонил трость к стене и протянул жене букет, улыбнувшись вошедшей в прихожую Зинаиде Александровне.
– Глеб! – поразилась та. – Что же не сообщил о приезде? – обняла офицера. – Дмитрий Николаевич, где же ты?
Рубанов, улыбаясь и немного стесняясь, аккуратно повесил шинель и папаху на вешалку, и, пригладив ладонью волосы, шагнул в комнату, где, вытянув навстречу руку, стоял отставной полковник.
– Дайте-ка, батюшка, полюбуюсь на вас, – обнял Рубанова.
«Как они постарели с Зинаидой Александровной за то время, что не видел их», – подумал Глеб, влекомый за руки к дивану.
– Да где же твои ордена? – усадили гостя на диван отставной полковник с супругой, разглядывая одинокий нашейный знак Владимира с мечами.
– Орденами пусть штабные хвалятся, – полюбовался Натали, ставящей розы в хрустальную вазу, и перевёл взгляд на горящую лампадку синего стекла под киотом с иконами в красном углу.
– Что же не идёт Вера Алексеевна? – перевёл взгляд с лампадки на множество отражающихся язычков пламени в чистых стёклах старого громоздкого буфета, вновь затем глянув на Натали.
– Мама болеет, – грустно сообщила та. – Пойдём, наведаем её, – взяла мужа за руку, и он тут же поднялся с дивана.
Вера Алексеевна строго, словно с иконы, смотрела на Рубанова, но через минуту слабая улыбка тронула её губы.
Она хотела произнести: «Умираю…», но сочла это бестактным по отношению к гостю в первую минуту встречи, и слабым голосом прошептала:
– Болею, – сделала попытку поднять руку и дотронуться до Глеба, но сил не хватило, и Рубанов сам коснулся ладонью её руки, и на секунду склонил голову, мысленно прощаясь с матерью Натали.
Он знал, что жить ей осталось недолго, и отчего-то вспомнил капитана из крепости Осовец, убитого недавно на реке Двине.
Затем они сидели за столом и тихо вели разговоры о войне, Москве, армии и будущей победе, рассуждая, какая потом наступит жизнь.
– Главное, чтобы нашей победе не помешали всякие князья Львовы и гостинодворцы Коноваловы с Гучковыми, у которых родина там, где их капиталы. Пока это Россия, – разволновавшись, отставной полковник неловко вылез из-за стола и, скрипя половицами, прошёлся по комнате, попутно отшвырнув попавшего под ноги жирного кота.
– Душа моя, это кот Васька, а не миллионщик Гучков, – пожалела любимца Зинаида Александровна.
Хмурясь, Дмитрий Николаевич сел на своё место и взяв из вазы печенье, чуть не минуту крутил его в руках, сосредотачивая мысли.
Все внимательно глядели на него.
– Месяц назад вместе с другими офицерами был зван в особняк Александра Ивановича Коновалова, директора правления Товарищества мануфактур «Иван Коновалов с сыном». Всего лишь коллежский секретарь по табели о рангах, что равняется штабс-капитану, он является членом Общества содействия успехам опытных наук, состоящего при Московском университете, членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, членом Московского автомобильного и биржевого обществ, а по совместительству ещё председатель Московского общества баламутов…
– Ну, это вы уже хватили лишку, батюшка, – даже подавилась котлетой его супруга.
– И к тому же главный московский англоман, – не услышал мнение жены отставной полковник. – Шофёра Ивана зовёт Джон, а себя – сэр Александр. В доме всё заведено на английский манер. Вот и мечтает, что ни для кого уже не секрет, кроме полиции, конечно, устроить в России конституционную монархию типа английской, а лучше и вовсе как во Франции, обойтись без монарха.
– И в армии ходят слухи о скорой революции, – подтвердил слова отставного полковника Рубанов. – Но я в это не верю. Через несколько месяцев разобьём врага, и всё станет на круги своя. Какая, к чёрту, революция!?
– Как, какая? Обыкновенная, – отложила вилку Зинаида Александровна. – Третьего дня идём с Наташенькой по городу – рабочие как раз бастовали и на их усмирение Московский градоначальник казаков вызвал… Так один из «дикарей» подошёл к разбитому окну библиотеки и, нехорошо ухмыляясь, на наших глазах расстегнув штаны, предложил юной барышне-библиотекарше « заняться родной речью, чтоб от зубов отскакивала…» Не знаешь, что лучше… Одни окна бьют «оружием пролетариата», пока листовку читала, чуть ногу не подвернула о вывороченный булыжник, а другие скабрезничают…
– Да ты, матушка, обиделась на казачка за то…
– Так, не очень уважаемый супруг мой, это ничего, что за столом дети сидят?
– Пардон, – отчего-то вдохновился отставной полковник. – Родная речь для молодых, а в твои годы классиков следует изучать…
– Ещё одно слово о словесности…
– И снова пардон, мадам. Вадим Николаевич Шебеко… Я, матушка, уже не о литературе и писателях… О военных. В частности, о Московском градоначальнике. Встречался с ним несколько раз. В прошлом – гвардейский офицер и флигель-адъютант. Сейчас, Свиты генерал-майор. Человек, скорее, придворного закваса, а не армейского. Прекрасно воспитан. Окончил Пажеский корпус. Как и Коновалов – с налётом англоманства. К полиции, жандармерии и казакам относится, согласно своему воспитанию – с презрением.
– А как к ним ещё относиться? – тоже вдохновилась Зинаида Александровна. – Теперь барышня-библиотекарша по ночам спать не будет… Так, помолчите, циничный супруг мой. Вам бы тоже не помешал небольшой налёт англоманства, дабы разбавить славянский казарменный флёр. Я хотела сказать – от страха не будет спать… Да разве вы дадите закончить мысль? Потому как образование получили в солдафонском Павловском училище, – очень порадовала своими словами Глеба: «Вот бы брат услышал», – замечталось ему.
– Испугаешь вас, как же, – не сдавался доблестный павловец, всё же сумев вставить пару поперечных слов в монолог супруги. – А теперь о войне, – выставив ладонь, осадил попытавшуюся возмутиться жену. – Пошли слухи… Из особняка Коновалова, – уточнил местонахождение отправной точки, – что в ближайшем будущем Американские Штаты вступят в войну на стороне Антанты.
– Ждали, кто побеждать начнёт, – иронично произнёс Рубанов.
– Скорее всего, так и есть. Весьма практичные люди. Пока оказывают воюющим сторонам – Антанте и Германии, экономическую помощь, с большой выгодой для себя, разумеется. За время войны справились с кризисом в своей стране и в разы сократили безработицу. Теперь их промышленники и банкиры заволновались – в войне наметилась развязка. В Вашингтоне встревожились – в этом году с Германией будет покончено, а на «пир победителей» они не попадут и «делёжка пирога» пройдёт без них. Непорядок!
– Да мы и без их солдат справимся, – включился в беседу Глеб. – Нам бы только внутренние «друзья» не вредили. Коноваловы всякие… Тоже пирога отведать хотят… Да чтоб трапезничать без батюшки-царя.
Вечером этого дня не стало Веры Алексеевны.
Преставилась она тихо. Уснула и больше не проснулась.
А через три дня после погребения, Глеб уехал в свой полк – служба есть служба.
В Петрограде продолжали бушевать политические страсти, причём ни столько в низах, сколько в верхах.
Особенно ввязались в склоку великие князья, идя на поводу у думской оппозиции и по депутатскому наущению уговаривая венценосного родственника пойти навстречу общественности: уволить Протопопова и назначить в правительство министров, пользующихся доверием народа… Под «народом», естественно, подразумевая российскую политическую и экономическую элиту, совершенно переставшую понимать смысл русской государственности и самодержавия, к тому же, подстрекаемой из-за рубежа мощнейшими антироссийскими финансовыми группировками и спецслужбами.
7 февраля генерал Глобачёв отослал Воейкову донесение, что по его сведениям 14 февраля, в день заседания Государственной думы, возможна попытка устроить шествие к Таврическому дворцу, что может привести к весьма серьёзным последствиям.
Подумав, Воейков связался по телефону с министром внутренних дел Протопоповым.
– Александр Дмитриевич, как поживают ваши бывшие друзья-коллеги в Госдуме? Не пора ли взять под арест одиозных общественников-сканда-лисов: Гучкова, Милюкова, Коновалова…
– Владимир Николаевич, успокойтесь. Экий вы кровожадный… Всё под контролем и не стоит портить отношения с Думой. После ареста в конце прошлого месяца рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, коим руководил меньшевик Гвоздев, революция раздавлена и опасность бунта миновала. Арест видных думских и общественных деятелей вновь осложнит положение в стране.
О выводах министра внутренних дел Дворцовый комендант в тот же день доложил императору.
– Эти думские господа воображают, будто пекутся о благе России, а на деле вредят ей более революционеров, тихо сидящих в пивнушках Швейцарии. Дали бы мне войну закончить… Назначьте на девятое число аудиенцию Маклакову. Приму его в полдень, – отпустил Воейкова государь.
В назначенное время бывший министр внутренних дел, уже почти два года находившийся в отставке после травли в думских кругах и центральных газетах, стоял перед государем.
– Николай Алексеевич, присаживайтесь и курите, – пожал руку гостю император. – Хорошо помню, как перед войной, руководя министерством внутренних дел, вы предлагали дать жёсткий отпор думской оппозиции.
– Так точно, ваше величество. Вы прислали мне письмо, где выразили поддержку. Заучил его наизусть, – начал цитировать на память: «С теми мыслями, которые вы желаете высказать в Думе, я вполне согласен. Это именно то, что им давно следовало услышать от имени Моего правительства. Лично думаю, что такая речь министра внутренних дел своей неожиданностью разрядит атмосферу и заставит г. Родзянко и его присных закусить языки».
– Этого и доселе не произошло, – грустно промолвил Николай. – Посему поручаю вам подготовить проект Указа о роспуске Государственной думы.
Слухи о нежелательном для Думы проекте тут же дошли до Родзянко, и на следующий день он выпросил у царя аудиенцию, заявив: «Ваше величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя», – стал запугивать самодержца.
Николай нахмурился.
– Михаил Владимирович, – холодно окинул взглядом председателя Госдумы. – Хочу предупредить, что если руководимая вами Дума позволит себе что-либо резкое, она тут же будет распущена.
– Значит, это мой последний доклад, – склонил перед императором голову Родзянко. – Уверен, что после роспуска Думы вспыхнет революция.
– А если её не распустить – случится государственный переворот, к чему вы так все стремитесь, – словно ледяной водой окатил главного депутата царь. – Ступайте! Свободны!
Спасая Госдуму, Милюков обратился к прессе с открытым письмом, убеждая массы не проводить демонстрации. И день её открытия, 14 февраля, прошёл буднично и без эксцессов. Задуманное шествие не состоялось.
Случилась одна забастовка в лафетно-штамповочной мастерской Путиловского завода, но большого влияния на события она в этот день не оказала.
В России наступил Великий пост.
Царская семья говела и молилась. 17 числа исповедовались, а 18 – причащались.
«Я родился в понедельник, шестого мая, високосного тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года в день мученика Иова, – стоя на коленях перед иконой страдальца в домашней церкви дворца, мысленно обратился к Вседержителю раб Божий Николай. – И если Ты дашь мне, Господи, испытание, я приму свой Крест как библейский праведник – кротко и без ропота. И как Христос, не стану просить гонителей своих о жалости. Скажи мне, Боже, слово Своё… Укрепи меня, если земной Иуда предаст», – глядел на огонёк лампады и непрошенные слёзы текли по его лицу.
Как только вышел из домовой церкви, Воейков передал ему телеграмму внезапно вернувшегося в Могилёв генерала Алексеева с просьбой срочно прибыть в Ставку.
– Какая в этом необходимость? – удивился государь, прочитав текст. – Наступления в ближайшие дни не планируется. Немцы сидят тихо, как мыши. Так же спокойно ведут себя путиловцы в лафетно-штамповочной мастерской, – пошутил Николай, но тут же вновь стал серьёзен. – В Питере, по сведениям Протопопова, нет причин ожидать чего-нибудь особенного. Но министр сообщил, что генерал-адьютанта Алексеева недавно навестила в Крыму группа депутатов и общественных деятелей во главе с Гучковым, после чего он восемнадцатого числа прибыл в Могилёв и направил мне эту телеграмму. Полагаю, верный мой воевода намерен поделиться какими-то полученными от них экстраординарными сведениями… Не буду гадать… Скоро и так всё станет ясно. Подготовь отъезд на двадцать второе число, – велел Воейкову император.
За день до отбытия в Ставку венценосная семья осмотрела недавно отстроенную трапезную в Фёдоровском городке.
– Аликс, так и кажется, что сейчас из сводчатой палаты выйдет царь Алексей Михайлович и обнимет меня, – любовался настенной живописью и древними иконами, доставленными из подмосковной церкви, построенной во времена далёкого пращура.
Немного утомившись, расположился в старинном кресле, а в соседнее села жена.
– Но вот эта картина здесь не к месту, – указал Александре Фёдоровне на полотно с изображением выезжающего из-за поворота паровоза, тянущего несколько вагонов.
– Действительно, этот состав, движущийся по Сибири и старинная икона с зажженной лампадой над ним, смотрится как-то недобро и даже зловеще, – передёрнула она плечами.
– Аликс, ну что здесь страшного? – поднялся из кресла Николай. – Просто ты встревожена завтрашним моим отъездом.
– Ники, умоляю, не езди. Впервые за всё время твоих поездок в Ставку, душа не на месте. Мне страшно…
– Успокойся, милая, – обнял жену за плечи. – Через неделю вернусь и мы посмеёмся над твоими страхами.
Вечером государь принял военного министра Беляева и председателя Совета министров князя Голицына.
– Господа. Я вынужден на несколько дней покинуть столицу. Протопопов вчера уверил меня, что в Питере всё спокойно и каких-либо эксцессов не предвидится.
– Ваше величество, у меня такое впечатление, будто это затишье перед бурей, – поднялся из-за стола Беляев.
– Михаил Алексеевич, ну что вы, право… Разнервничались… Переговорю с вашим тёзкой, генерал-адьютантом Алексеевым, посмотрю, как Гурко вёл в его отсутствие дела и вернусь, – улыбнулся министру государь. – Я ведь недавно подписал ваш проект о выделении Петрограда из-под юрисдикции Северного фронта генерала Рузского в особую единицу с подчинением генерал-лейтенанту Хабалову…
«Такой же, как я, пожилой человек, – опустил голову, отстранённо разглядывая перстень на своём пальце Голицын. – К тому же абсолютно не разбирающийся в политике генерал солдатского типа, коих сейчас пруд пруди в Императорской армии. Те же Алексеев с Деникиным… Хабалов в своё время был прекрасный начальник Павловского военного училища, но теперь это растерявший былую энергию, собственно, как и я, уставший от жизни человек».
– Николай Дмитриевич, а вы что загрустили? – отвлёк его от размышлений Николай. – Выше голову. Вам нечего опасаться. Ежели эти баламуты из Государственной думы чего-либо замыслят против меня и государства, то я оставил вам Указ Сенату об их роспуске.
– Ваше величество, как получил, держу его при себе, – вытащил из кожаной папки заверенный государственной печатью лощёный лист бумаги за подписью самодержца, и быстро пробежал его глазами: «На основании статьи 105 Основных государственных законов повелеваем – Государственную Думу распустить с назначением времени созыва вновь избранной Думы», – убрал лист в папку.
– Вам, Николай Дмитриевич, надлежит проставить дату и дать документу ход, – закончил аудиенцию император.
В среду 22 февраля Николай отстоял заутреню и под звон колоколов Фёдоровского собора, что в Царском Селе, в сопровождении жены отправился на станцию Александровская.
– Какой снег сегодня чистый и белый…
– Ночью выпал. Словно саваном всё покрыл, – сжала рот императрица, увидев, как от её слов побледнел супруг. – Прости. Нервы всё. Вот и говорю глупости, – невесело улыбнулась она. – Зря ты едешь. Родзянко с Гучковым недоброе замыслили… Весь Двор об этом шепчется, а ты, Ники, не слышишь.
– Всё я слышу, Аликс. Как ты помнишь, в девятьсот пятом году я поддался на увещевания и сдал практически выигранную войну, чтоб расправиться с оппозицией. Сейчас на это не пойду. Прежде разобью внешнего врага, а потом разберусь с внутренним. Ну, давай прощаться, любимая. Через несколько дней вернусь… Чего ты волнуешься? Всё идёт как обычно, – начал успокаивать жену. – Как всегда – раздаются звуки марша. Построен Собственный, Моего Императорского Величества конвой, – пошутил Николай. – Как всегда составлено «Дело о путешествии Его Величества в действующую армию», – и в нём список сопровождающих лиц: граф Фредерикс, адмирал Нилов, Воейков, Свиты генерал-майор Граббе и другие. На Деле проставлена дата: «Начато 22.02. 1917». Как вернусь, поставят дату окончания…
– Прости меня, Ники, но сердцем чувствую, что даты окончания не будет… Женщины иногда умеют предвидеть…
В поезде, борясь с предощущением чего-то трагического, Николай читал письмо жены, задумчиво помешивая при этом серебряной ложечкой остывший чай.
«…Только будь твёрд, покажи властную руку… Да хранят Тебя Светлые Ангелы. Христос да будет с Тобою, и Пречистая Дева да не оставит Тебя», – качнулся, когда плавно бежавший вагон неожиданно дёрнулся – состав тормозил у засыпанной снегом маленькой станции.
Отодвинув серебряный подстаканник с резным, тонкого стекла стаканом к хрустальному графину у чистого окна, приподняв штору, оглядел перрон, где на пристанционном базарчике чем только не торговали: « А говорят: голод наступает, – иронично подумал он. – Депутатам лишь бы государя огорчить, – с удовольствием смотрел на бородатого старца с вяленой рыбиной. – Именно таким я представляю Саваофа, – расстроился, когда казак из охраны грубо оттолкнул от вагона старика.
И тут же у самодержца побежали слюнки, когда узрел торговку с мочёными яблоками в глубокой чашке. Поодаль несколько женщин держали в руках крынки.
«Молоком, наверное, торгуют… Или сметаной. А у старухи на деревянном подносе курица отварная… Напрашивается вывод, что меня Дворцовый повар какой-то дребеденью кормит», – вновь качнулся император, когда дежурный по вокзалу трижды ударил в колокол, и поезд, лязгнув сцеплениями, тронулся, оставляя позади станционные постройки, домики, водокачку и пакгауз.
За окном вагона мелькала русская земля. Его, Николая Александровича, Россия.
Утро 23-го было морозным. Миновали Смоленск.
Умывшись, Николай вышел к завтраку в вагон-столовую.
За стол никого из свитских, судачивших за соседними столиками о Ставке и генерале Алексееве, не пригласил.
Быстро и без аппетита глотая пищу, подумал, что следовало бы отварную курицу повару заказать. Поднявшись, общим поклоном ответил на поклоны свиты, мимоходом глянув в окно на заметённую до окон деревеньку и промелькнувшую заснеженную безымянную станцию. Вздохнув, не спеша пошёл в свой вагон.
Ровно в три часа дня синий литерный состав застыл у Царской платформы города Могилёва.
«Как у моего косоглазого друга лицо на морозе покраснело, – пожалел своего начальника штаба государь, выходя из вагона. – Да и солдатики полуроты сводного Георгиевского батальона задрогли на холоде и ветру. Скорее следует церемонию встречи произвести», – шагнул к группе встречающих генералов.
Первым, согласно статусу, его приветствовал Алексеев.
– В штабе конкретно доложите обстановку, – протянул ему руку император.
И тот, к удивлению царя, прежде подобострастно пожал её, а после обнял Николая, поцеловав в щёку.
«Видно соскучился Михаил Васильевич, – подумал государь, брезгливо стерев перчаткой слюну со щеки, и подавая руку генерал-адьютанту Иванову, затем генералу от инфантерии Клембовскому, адмиралу Русину и губернатору, которому с улыбкой сказал:
– Скорее приглашайте к себе, а то ноги в лёгких сапогах замёрзли.
«Прост наш император, как рублевик с его профилем. Прост и демократичен. Серая шинель не вяжется с горностаевой мантией, о которой полковник Романов и думать забыл», – пригласил самодержца в автомобиль губернатор.
Генералы Алексеев с Клембовским расположились в другом автомобиле.
– А теперь, Владислав Наполеонович, на несколько дней следует отрешить нашего венценосного Верховного Главнокомандующего от информации из Питера, – скосив глаза в окошко, негромко произнёс начальник штаба, мысленно сыронизировав: «Просит называть себя Владимиром Николаевичем… Не нравится как тятька с маменькой назвали дитятко».
– Сделаем, Михаил Васильевич. Зачем зря расстраивать главного военачальника, – усмехнулся помощник начальника штаба Верховного Главнокомандующего. – Половину поставленной задачи выполнили – заманили мышь в мышеловку…
– Пока ещё Николай не мышь, а император. Это мы можем в мышей превратиться, а он станет котом.
Посетив в пятницу 24 февраля штаб и выслушав поверхностный доклад Алексеева об обстановке на фронтах, император задумался: «В рапорте генерала совершенно не прозвучало сколь-нибудь важной информации, из-за которой вызвал меня телеграммой в Ставку. Возможно у него в кармане имеется главный козырь, который приберёг на ближайшее время и пока не раскрывает, дабы не волновать меня… Потому и доклад вышел бессодержательный».
Больший интерес вызвал разговор с женой по прямому проводу:
– Ники, у нас одни неприятности. Долго в Ставке не задерживайся, – нервно кричала в трубку Александра Фёдоровна. – Алексей и Ольга заболели корью… Да, да. Корью. А вчера были беспорядки на Васильевском острове и Невском. Из-за того, что нет ржаного хлеба. Белого – в достатке. Но бедняки захотели кушать именно ржаной и потому приступом брали булочные. Вдребезги разбили Филиппова и против них вызывали казаков. Всё это я узнала неофициально. Протопопов только успокаивает. А сегодня начались волнения на Выборгской стороне.
Они не знали, что 23 число считалось Международным женским днём, и революционеры всех мастей призывали питерских работниц, солдаток и домохозяек выходить на демонстрации и не обращать внимания на полицию, которая не посмеет трогать за все места женщин, запрещая им громить лавки и уносить оттуда припасы.
Особенно активную работу проводили примкнувшие к эсерам Бобинчик-Рабинович, Ицхак и Хаим.
– Бобинчик, бабы тебя потому слушают, что внешне ты – вылитый Родзянко: «Жирный, щекастый и такой же дурак», – на всякий случай не озвучил абсурдные мысли хромоногий Ицхак.
Бывший куратор профсоюза щетинщиков Хаим, почесав лысину, лишь язвительно фыркнул.
– Большие люди, – потыкал пальцем в потолок трактира Бобинчик-Рабинович, – велели взбунтовать работниц конфетной и тряпичной фабрик, уговорив их бросить работу и выходить на Петергофский проспект. На «уговоры» рекомендовано выделять бабам по два рубля на нос.
– Девицам, Бобинчик. Ви есть культурный человек, – осудил приятеля Ицхак. – Хотя и чмокаете за едой как некошерный хряк.
– Следите за выражениями языка, уважаемый, – не очень обиделся на замечание Бобинчик. – Я же не виноват, что в этом трактире очень приятная и вкусная кухня с большими порциями. А сказать я хотел следующее… Предлагаю давать этим, как их, девицам, не по два рубля, а по одному. Сэкономленные таким образом средства пустим на дело революции – то есть отдадим мне. Ибо пепел Мордки Бехарера стучит в моём сердце, – постучал кулаком себя в грудь.
– Кого ты сжёг в своём сердце? – перестал жевать Ицхак.
– Книги надо читать… Тиль Уленшпигель так говорил.
– Не знаю такого эсера, как и Мордохая Бехарера.
– Ицхак, ты уже Дмитрия Богрова забыл? Которого царские палачи кокнули за убийство Столыпина?
– А денежки, достанься они тебе, пустишь на ресторации, – дошла наконец до Ицхака неприглядная суть вещей. – Богрова прекрасно помню. А ты молчи, когда тебя не спрашивают, – набросился на жующего Хаима.
– Я и молчу, – сквозь набитый рот с трудом пробубнил тот.
– Вижу, как молчишь… Насчёт денег согласен, – обратился уже к Бобинчику, – под делом революции подразумеваем свои карманы. Вот за такую «экономию» тебя и выгнали из славного профсоюза кожевников.
– Как же не изгнать, коли вместо кожи стали из картона сапоги для армии тачать… Ну-у, делать, – довольно захрюкал Хаим, вытерев жирной рукой лысину. – Следовало переименовать в союз картонажников, – совершенно развеселился Хаим.
– Да и ты щетину неплохо в своём профсоюзе стриг, – напомнил коллеге необидчивый сегодня Бобинчик.
– Ша! Даём бабам по рублю, – решил хромоногий доходяга Ицхак.
– Женщинам! – на этот раз поправил его Бобинчик. – А то выражаемся как русские пьяные мужики. Не будем брать с них пример. У каждого своя голова. Представляете, каким стал бы вкус мёда, если бы пчёлы брали пример с мух и таскали в улей всякую гадость.
Взбаламутить и вывести на улицы женщин им удалось.
На следующий день бывшие бундовцы, а ныне добропорядочные эсеры вдохновляли на бунт шоферов и механиков гаража «Транспорт», а также кабельщиков мастерской Бездека.
Эти согласились бастовать за два рубля. А вот жадные и практичные пильщики с деревообрабатывающего предприятия, содрали с них по трёшнице.
– Куры с Волынкинской деревни из-за любопытства пришли на митинг поглазеть, – раздув щёки, в уме вычислял дивиденды Бобинчик-Рабинович. – Доложим, что дали им по рублю, а полученный доход – триста рублей, поделим по справедливости: мне полторы сотни, а вам по семьдесят пять… Шутю-шутю, – успокоил товарищей Бобинчик. – Специальный такой еврейский шутка. А вот с путиловцев большевики – Шляпников с Молотовым, по полной программе поживились, – облизнулся он. – Сколько к Нарвским воротам работяг припёрлось. Да как душевно, остограмившись на выделенные средства, «Варшавянку» запели, полицейских идолов по пьяной лавочке избивая.
– Уже на Невский пошли по льду. Мосты через Неву полиция пока держит. Так мне верные люди сообщили. Пора и нам к забастовщикам присоединяться. Хватит благоденствие трактиров поднимать. Получена команда завод «Арсенал» остановить, – вдохновлял на революционные действия товарищей доходяга-Ицхак.
Закатив глаза и шевеля губами, Бобинчик вновь начал что-то подсчитывать. – Ох, как пепел кассы в моём сердце радостно шуршит, – пощелоктил он большим и указательным пальцами.
«Пока всё движется в нужном русле», – вечером 24 февраля один из главных заговорщиков – Александр Иванович Гучков, вышел из угодливо распахнутой бородатым швейцаром в революционной красной ливрее, тяжёлой двери, и в задумчивости остановился у подъезда своего дома на углу Фурштатской и Воскресенского, любуясь новым пятидесятисильным «роллс-ройсом» модели «Сильвер Гоут» что в переводе означало «Серебряный Дух», недавно доставленным ему через Архангельск из Англии.
Латунные ручки, петли, рожки сигналов, маленькие фонарики сверкали и блестели от бьющего из огромных окон света.
«А на столбах освещение отсутствует, – недовольно нахмурился член Особого совещания по объединению мер для обороны государства, с трудом оторвав взгляд от дорогой игрушки и машинально бросив его на противоположную сторону улицы, где в доме под номером 31 проживал другой Александр Иванович – Коновалов. – Машины у подъезда нет, значит недавно уехал на встречу с братьями», – с наслаждением забрался в чрево авто, развалившись на мягком, отделанном замшей, сиденье.
Не рассчитав и ударившись губами о переговорную трубку велел водителю держать на Морскую, к Азово-Донскому банку.
«Вот чёрт. Чуть губы не разбил, – ругнулся, но тут же успокоился Гучков, блаженствуя от чуда британской техники. – Королевское семейство предпочитает подобные авто, – подумалось ему. – Если всё пойдёт по-моему сценарию, тьфу-тьфу, то после замены Николая Второго на Цесаревича, я займу должность главы Регентского Совета, что практически равняется должности главы государства. И пусть князь Львов пыжится сколько хочет, но «серым кардиналом» России буду я, официально занимая пост военного министра, – с любовью погладил тонкую замшу сиденья. – Грядёт великое российское потрясение и наша ложа должна, нет, даже обязана, взять в свои руки руль и рычаги управления, чтоб править страной, как правит авто мой шофёр. И тогда эта дорогущая машина станет для меня копеечной безделушкой, несмотря на то, что одно шасси стоит полторы тысячи фунтов стерлингов – для кого-то целое состояние. А кузов и вовсе выполнен за особую цену лучшим каретником Манчестера Джозефом Кокшутом, работающим на Роллса и Ройса… Тьфу, чёрт, – вновь чертыхнулся Гучков. – Временами купец побеждает во мне политика, и, зная это, подлец-Коновалов из всех моих председательских должностей, озвучивает лишь ту, где являюсь председателем исполнительной комиссии по сооружению канализации. Но подлец – он и есть подлец. К тому же конкурент. Этот дядя самых строгих правил польстился на переустройство питерского водопровода, что вместе с канализацией полная моя епархия».
«Роллс-ройс» миновал Фурштатскую, развернулся вокруг сквера, проехал мимо особняка Игнатьевых, мимо дома №20, где обитал Родзянко и на который мысленно плюнул председатель питерской канализации, и выехав к Летнему саду, медленно проследовав мимо английского посольства.
«Вот где порядочные люди благоденствуют. И к тому же безоговорочно поддерживают меня в опасном начинании, – умильно оглядел сквозь окошко трёхэтажный особняк. – Правда, поддерживают и активно лезущего к власти подлеца-Керенского, – неожиданно загрустил о Москве. – Вот где хорошо провёртывались большие дела и серьёзным конкурентом был лишь подлец Пашка Рябушинский. А здесь, в Питере, чёрт ногу сломит в расстановке политических и финансовых сил. Правда, постепенно разобрался. К тому же я или мои люди всем здесь теперь заправляют: будущий министр-председатель князь Львов – наш, московский человек. Милюков хотя и не масон, но сейчас я с ним прекрасно лажу. А ведь когда-то из-за несогласия во мнениях даже вызывал подлеца на дуэль, – хихикнул Гучков. – Правда, профессор благоразумно, под всякими надуманными предлогами, уклонился от поединка «с московским купчиком», как тогда меня называл. Э-эх, молодость, – разглядел в густых сумерках Дворцовой площади два крыла арки Главного штаба. – Господи! – двумя перстами перекрестил грудь. – Неужели скоро воссяду тут в роли военного министра».
– Посигналь в рожок, – велел шофёру. – Так и норовят, подлецы, под колёса попасть, чтоб деньги потом на лечение клянчить, – нелицеприятно высказался по поводу выпивших работяг, бесстрашно шастающих в центре Питера, откуда во времена «порядка» их моментом выгнала бы полиция.
«Ах, да! Что это я. Военное министерство располагается не здесь, а на Исаакиевской площади», – вновь размечтался о своём, «девичьем…»
Когда мотор проехал сквозь арку на Морскую, затуманенный мечтами взор упёрся в новое здание Азово-Донского банка, сразу став жёстким и внимательным, как у подстерегающего добычу волка.
«Уже большинство братьев здесь», – оглядел стоявшие у главного подъезда автомобили и кареты.
– Братец, остановись у арки ворот, где вход в служебные помещения, – велел шофёру, который тут же выполнил пожелание босса.
Как в лучших домах Лондона, владелец авто и куратор питерской канализации, дождался, чтобы водитель обежал мотор и распахнул перед ним дверцу.
С целью услужить и огромным желанием получить серебряный рублевик, к машине нёсся швейцар. Видя, что водила шустрее и расторопнее, он помчался обратно, и, тяжело дыша, растворил на полную дверь подъезда, в мыслях уже кладя в карман монету с профилем ныне правящего императора.
Но его ожидало «Увы…», ибо прекрасный серебряный рубль отхватил другой швейцар, что принял у миллионщика шубу на бобрах и бобровую, с бархатным донцем, шапку.
– Погоды ныне морозные, ваше величайшее степенство, – поклонился Гучкову гардеробщик, принимая у швейцара одёжу и намереваясь расположить её на почётном месте подконтрольного ему гардероба.
Но Александр Иванович нахмурился: «На вас, подлецов, рублей не напасёшься, а только разоришься с вами», – влез в подъёмную машину, плавно вознёсшую одного из главных акционеров банка на третий этаж.
У выхода из лифта его встречал директор и держатель крупного пакета акций Михаил Михайлович.
«И этот, что ли, на рупь рассчитывает?» – разгладил чело Гучков.
– Ждём-с, – как приказчик средней руки, подобострастно произнёс тот, поклонившись патрону. – Братья уже сидят в кабинете…
«Это лучше, чем в «Бутырке» или «Крестах» сидеть», – суеверно отогнал пакостную мысль Гучков, безразличным английским поклоном поприветствовав главных членов «Верховного совета народов России», намеревающихся отобрать царский скипетр у Николая Второго.
Высокоградусные братья, любезно улыбаясь, удивлённо пучили глаза на английский френч цвета хаки и такого же цвета штаны, заправленные в высокие шнурованные коричневые ботинки на толстой белой подошве.
Сами-то были в цивильных костюмах и смокингах.
«Как же – военный руководитель ложи», – ехидно подумал сидящий на председательском кресле Керенский.
«И чего господин Бьюкенен этого петуха порекомендовал в генеральные секретари ложи? С Некрасовым лучше ладили», – будто уловил его сардонические мысли куратор питерской канализации и высшего российского генералитета, проигнорировав оставленное ему кресло возле Керенского, и усаживаясь на стул между братьями по ложе -Терещенко и Коноваловым. – Хоть и продувные бестии, но свои, в отличие от краснобая-адвокатишки, чем-то глянувшемуся послу Великобритании и одновременно нашему брату, – коротко кивнул поклонившемуся ему Маклакову. – Тоже деловой чертяка, этот питерский поверенный москвичей Пашки Рябушинского с братом. Ба-а. Граф Орлов-Давыдов здесь… Князь Львов и даже старичок Оболенский пришкандылял … Полагаю, это их кареты у входа стоят. Аристократия по старинке к лошадкам склонна и к каретам своим допотопным», – отвлёкся от размышлений, услышав голос генерального секретаря, адвокатишки Керенского, предоставившего первое слово не ему, а Коновалову.
– Братья, – кряхтя выбрался тот из глубокого поместительного кресла, – меня очень волнует возникшая ситуация на улицах столицы, ибо движение в Петрограде принимает слишком активный и даже революционный характер. Сегодня бастовало около ста семидесяти тысяч рабочих. Совершенно не беря во внимание появившиеся в печати успокоительные объявления генерала Хабалова о достаточном количестве хлеба, они с самого утра проводят митинги. Их агитаторы призывают к демонстрациям под лозунгами: «Долой войну» и «Хлеба». А нам нужны лозунги: «Долой царское правительство», «Да здравствует Временное правительство и Учредительное собрание». Революционные агитаторы вбрасывают в солдатские и рабочие массы неправильные, и даже вредные идеи, после которых молодые хулиганы останавливают трамваи, отбирают у вагоновожатых ручки реостатов и загоняют вагоны в тупик. Это ещё полбеды. А то и сталкивают на бок с рельсов, ломая подвижной состав. Как нам всем известно – частная собственность священна…
«Видно вложился в трамвайное дело, – едва сдержался Гучков, чтоб радостно не захмыкать. – Моё добро из канализационной системы никто не тронет и воровать не станет», – развеселил он себя.
– Александр Иванович, у вас очень довольный вид, – обратился к нему Коновалов. – Будьте добры, поведайте нам, как обстоят дела в военных кругах, – заалел от нервов щеками. – Как бы нас не опередили либо царь, либо плебс, – недовольный либо царём, либо плебсом, а скорее всего Гучковым, с кряхтением устроился в своём глубоком кресле.
«Вот прощелыга. Уже мною руководить начинает», – легко поднялся со стула Гучков.
– Господа! – от волнения забыл принятое в масонском кругу обращение. – Я и Терещенко, – благожелательно глянул в сторону коллеги и брата, – сумели склонить на свою сторону практически всю верхушку армии. Главное, споспешествовать нашему делу дал согласие начальник штаба Ставки генерал-адъютант Алексеев. Он всей душой проникся идеей замены самодержца его младшим братом Михаилом Александровичем…
– Император из великого князя будет нелегитимен, поскольку Михаил вступил в морганатический брак с женой своего подчинённого по лейб-гвардии Кирасирскому Ея Величества полку Натальей Вулферт, – проскрипел князь Оболенский. – Вам, купцам, не понять, – немного унизил гостинодворцев, – а для военного человека сие деяние носит весьма серьёзный негативный оттенок. После чего Николай уволил брата со всех должностей и постов, выпустив Манифест, в коем сообщил, что ныне признал за благо сложить с его императорского высочества великого князя Михаила возложенные на него обязанности: «…на случай Нашей кончины править государством до совершеннолетия великого князя Алексея Николаевича». – Как видите, господа… э-э-э… точнее – братья, даже регентом не имеет права быть, а не то, что править государством в качестве монарха.
«Наивный старый дурачок, – подумал о князе Гучков. – Ну кому сейчас дело до таких тонкостей?»
– С этим мы как-нибудь разберёмся, – осадил он Оболенского. – Прежде следует свергнуть Николая. Генералы в Ставке поручили представлять их здесь в момент смены власти генералу Крымову. Может, вы и тут о легитимности заговорите? – тоже пошёл пятнами Гучков, обращаясь к Оболенскому. – Россию надо спасать и воевать до победного конца, а не о каких-то там царских манифестах думать. А то дождётесь, что плебеи развесят нас на столбах… И возьмут власть в свои плебейские руки. Через несколько дней, – немного успокоившись, уже нормальным голосом продолжил он, – в начале марта, Александр Михайлович Крымов будет командирован из Румынии в Петроград, чтобы стать во главе военной части нашего братства. Генерал Рузский по этому поводу высказался благорасположенно. Недавно встретился и имел разговор с Брусиловым. Этот популярный ныне в обществе военачальник дал завуалированное согласие, сказав: «Если придётся выбирать между царём и Россией – я пойду с Россией». – Так что Юго-Западный фронт противодействовать перевороту не станет.