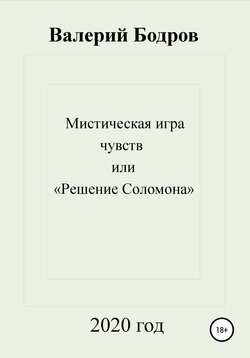Читать книгу Мистическая игра чувств, или «Решение Соломона» - Валерий Вячеславович Бодров - Страница 1
ОглавлениеВернулся с востока я, совершенно с другим лицом. И дело здесь не в бронзовости скул и выгоревшей на беспощадном солнце шевелюре. Произошло нечто особенное, затронувшее внутренние черты моего экзальтированного образа. Можно даже сказать, я стал человеком без наивного прошлого: без родственных долгов, семейных обязательств и краткосрочных, захватывающих образ души, желаний, но с глубоким, приобретённым чувством привязанности к великому прекрасному, где степень идеала зашифрована среди различных, иногда незаметных мелочей.
Начиналось с малого.
Увидев однажды, как моя Элизабет, проводит рукой над разложенными в рыночных рядах фруктами, и вынимает тот, один единственный плод, впитавший в себя всю сладость камбоджийского лета, я страстно захотел научиться проделывать то же самое. Через какое-то время моих наблюдений за едва уловимыми движениями её природной души, за блеском океанического цвета зрачков, за движением слишком тонкого запястья, которое и бывает то лишь у годовалых младенцев, мои перезрелые отношения с рыночной едой вошли в нужное зеленовато-спелое русло. Наш неожиданный роман, увитый цветущими леями, стремительно набирал беззаботные дни. Месяц за месяцем откладывал я свой отъезд на родину и наконец, решил остаться. Неожиданно для самого себя, я научился на прилавках сувенирных лавок находить ту одну единственную фигурку вырезанного из кости слона или сидячего Будды, которая заменяла своим значением все выставленные рядом новоделы. Как правило, цена её была невелика, а облик невзрачен, и никто не обращал на неё внимания, даже сам хозяин торгового заведения. Всё, что нужно было, это внимательно осмотреть прилавок и почувствовать суть искомого предмета, почти так же, как с фруктами. Иногда таковых не находилось, и я со спокойной душой покидал лавку, как бы призывно не блестели сусальные ценности, как бы ни было обманчиво желание прибрать всё это к своим скучающим по тактильной истории рукам. Предлагаемые сувениры имели значительный эквивалент только в одураченной голове туриста. Чуть позже меня перестали интересовать экзотические безделицы, и я увлёкся свойствами ритуальных вещиц. Когда же количество устрашающих деревянных масок и ленивых до исполнения желаний, жезлов судьбы достигло предела, взгляд мой переключился на краски художественных холстов. Но найти что-либо приличное на рисовальных развалах Сием Рипа, было невозможно, потому что основу продаваемых там, разрисованных самодельными красками картонок из под обуви, мешковинных полотен с логотипом кофейных компаний на обороте, составляли наивные произведения с изображением гипертрофированных местных животных; схематичных, почти картографических джунглей, и непропорциональных, просвечивающих насквозь бронзовыми телами мулаток, бамбуковых бунгало у разляпистого сине-зелёного пятна, изображающего океан. Все эти работы местных рисовальщиков были похожи на неумелые каракули под руководством воспитательницы младшей группы детсада «Кхмер».
Одну картинку я всё-таки себе приобрёл. Она имела приличные размеры, чем собственно меня и привлекла, (этим густо закрашенным холстом, можно было закрыть большой участок дощатой стены сквозь рассохшиеся щели, которой, утром пробивалось солнце и мешало проживать лучшие утренние часы необычных моих сновидений). Изображённая на ней белая пантера во весь формат была инкрустирована жирно намалёванными зелёными помидорами и золотыми бананами в разных изогнутых позах, что создавало впечатление оригинального панно с неподражаемым местным колоритом.
Позже и эта наивная живопись перестала питать мои отчаянные домыслы. Я стал довольствоваться созерцанием лишь настоящих багровых закатов и узнаваемым рисунком чёрных силуэтов пальм на диком оранже угасающего неба. И после захода солнца, воображение моё научилось продлевать то бесконечное счастье, настигнувшее меня в этой колыбели цивилизации.
Это было долгое путешествие – дорога к самому себе, к лёгкому и в то же время практичному пониманию мира. И первая моя ночь на родине, никак не желавшая породниться с глубоким и крепким сном, всё возвращала меня обратно – в джунгли моей славы, в дом на сваях, в жаркое дыхание, наполненное её дивным женственным шёпотом, в пространство, сотканное её тонкими гибкими пальцами. В сочетании с музыкой, умеющими говорить на языках любви и блаженства. Ах, если б только вы видели, как она выводит своим гибким телом танец Апсары, как верно и призывно цокают блестящие браслеты на её быстрых запястьях, перекликаясь гипнотической мелодией со своими двойниками на щиколотках! Какая непозволительная божественная нега разливается в наблюдателе, до этого дня считавшимся обычным человеком.
Но не в этом дело, совсем не в этом.
Первое же утро моё, в пустой и относительно безопасной квартире, напоминало раздвоение личности. Одна моя часть ещё откидывала невидимый полог над здешней удобной кроватью, а глаза пристально искали на иссини-белой плёнке натяжного потолка надоедливых гекконов или паука-птицееда. Рука сама тянулась к месту, где в том положении мира всё ещё лежал мачете, с потемневшим лезвием от фруктовых кислот, без него я никогда не выходил из палафитта. Но всему есть предел, даже ожившим воспоминаниям на уровне соматических реакций.
Уже за обязательным кофе, с влажными от душной душевой волосами на голове (никак не сравнится с росистой испариной камбоджийского утра), я почему-то вспомнил ни к чему не обязывающий разговор в креслах лайнера, усердно доставляющего, меня домой. Дама довольно приличного возраста, без тени загара на её цветущем ещё лице, рассказывала своей подруге историю о картинах, которые она, придирчиво заказывала у необычного художника. Но, как изменчива женская природа, как тонок баланс ума и желаний. В большинстве своём всё упирается в слова: «Разве я могла такое сказать?» А если и было сказано, то признаться в этом не сможет ни одна женщина, потому что просто забудет, что некоторое время назад её мимолётная мысль была сформулирована именно так и только поэтому неумолимо наступающие последствия этой мысли теперь пугают.
Я всё время проваливался в дрёму, щадящую мои полюбившиеся восточные образы, надвинув sleep mask на всё ещё слезившиеся глаза от недавнего прощания с моей Элизабет в аэропорту Бангкока. Но уснуть не представлялось возможным: пузатый, плохо сшитый наглазник, непривычно давил на лицо, вызывая фиолетовые круги в области моих экзотических фантазий, добавляя несуществующие воспоминания в разбитую копилку опыта. Мне пришлось его снять, чтобы не разрыдаться тут же в кресле от цикличного фейерверка чувств или не бросится к кабине пилотов, чтобы умолять развернуть самолёт. Я старательно делал вид, что равнодушно сплю. Слушал навязчивый рассказ незнакомой дамы, стараясь вникнуть в отвлечённый сюжет чужой истории, чтобы притупить сегодняшнее восприятие своей. Постепенно я втянулся, а поскольку заняться в моём разобранном состоянии было чем-либо трудно, то когда подруги понижали голос до шёпота, подозревая мой сонный обман, и обходя, таким образом, самые пикантные места, – я весь обращался в слух.
Дело состояло в следующем: знакомая нам уже по соседнему креслу дама, заказала у художницы, писавшей под знаком мистического реализма, полотно, на котором пожелала видеть себя со своим возлюбленным. По весьма понятным, общепринятым ассоциативным причинам, пара изображалась бегущей по берегу океана, в лучах восходящего солнца (здесь, следуя сладострастно хвастливой логике разговора двух подруг, в моём тексте, должны были разместиться уколы их душевных тонкостей и синонимы интимных пристрастий, но мы опустим эти неудобные подробности, режущие слух). Картина была написана в соответствии её пожеланиям и точно в установленный срок. Но, по словам нашей, уже знакомой дамы, увидев её, она испугалась. Потому что в эти бегущие фигуры художник вложил столько неподдельной страсти, столько огненного желания, что всё это мгновенное счастье, открытого вдруг мира, оказалось не по силам нашей героине её собственного романа.
«Я хочу обычной тихой спокойной любви и обеспеченности, точнее сказать, любви в благосостоянии. А такого экстаза мне не нужно. Нарисуйте, на этом что-нибудь другое!» Как бы то ни было, но художница исполнила и эту её прихоть. Картина получилась крайне одиозная, сказавшаяся непонятным образом на судьбе заказчицы. В центре полотна была изображена женщина с условными гендерными чертами розовой стороны мира, в платье такого же цвета, с чёрной поверх него накидкой, с наброшенным капюшоном, с опущенной на бедро скрипкой и смычком в руках, так словно она только что закончила играть свою, без сомнения, главную партию или не начинала её вовсе. А вокруг неё в божественном саду парами бродили дивные животные и птицы целовались в райских кущах. «Эта картина какое-то время висела у меня в гостиной», – сказала дама дрогнувшим голосом, чуть не сорвавшись в слезу, – «И я получила всё, о чём мечтала в то время. Представляешь! Абсолютно всё!» – дама перешла на громкий восторженный шёпот, – «Не знаю, как она это делала (здесь имеется в виду личность художника), но всё что она рисовала, всегда сбывалось. Ко мне пришёл и покой, и достаток, но я так и осталась одна!» Подруга тревожно прикрыла рот рукой, и широко раскрыла полные удивления и испуга глаза. В это время и я уже пытался разглядеть их своим очнувшимся взором, мне всегда интересно с каким выражением лица люди могут произносить столь странные, непринятые в обществе реалии.
Соседки по креслам заметили моё нежелательное пробуждение, и перешли на саркастический шёпот, в котором я едва уловил обрывки приглушённого разговора: «…безусловно, продала любимой подруге…», «…нужно было двигаться дальше…» и часть фразы, видимо, повествующей о дальнейшей истории общения её с волшебной художницей: «…тратилась на заказы, чтобы изменить судьбу…желания продолжали исполняться».
Не знаю, почему мне вдруг вспомнился именно этот эпический кусок их тринадцатичасовой беседы, прерываемый иногда стыдливой тишиной, и уксусным запахом рыбных деликатесов. Этот подслушанный разговор, спас тогда моё состояние, переходящее на пиках близких воспоминаний в лёгкую любовную панику, спас сопереживанием, и додуманной моим воспалённым тогда воображением счастливой развязки необычной истории.
Вся эта не совсем мне понятная расстановка героев в рассказе моей попутчицы показалась бы мне надуманной, ничего не значащей фантазией, спровоцированной расслабляющим туманом перелёта, так красочно клубившимся за синеватой шторкой окошечка под куском видимого крыла лайнера, если бы весомая часть меня уже не жила в мире, обозначенном другими знаками и наполненными другими желаниями. В том месте, откуда я сейчас пробирался домой, водились не только отпугивающие злых духов, воинственно раскрашенные деревянные маски; глиняные и костяные новоделы и потёртые по древность бронзовые статуэтки божков, для домашнего алтаря; амулеты из когтей диких животных, дурно пахнущие мешочки с сухими внутренностями змей и много другой всякой продажной всячины, но и кое-что ещё, до чего нужно было добираться, только оседлав свой уснувший разум, опоённый дурманом здешней экзотики. Великое и прекрасное – можно было увидеть поверх всего этого наносного и не всегда действенного, с точки зрения практического применения, эта непреходящая субстанция таилась под каждым зелёным листком, в мутных водах глинистого потока после тропического ливня, в оранжевом, прожаренном солнцем, вечернем небе, в предрассветном тумане, скрывающим фигуру девушки с кувшином на плече. И поэтому, не смотря ни на что, душа в очередной раз отказывалась принимать объективность мира и в ней распускалась нездешним цветом уверенность, что альтернатива земному праху есть, а знак бесконечности не просто татуировка на твоём плече, закопчённом благословенными днями. В одни из таких обычных тянущихся по минутам суток, мир, построенный по твоей прихоти, в который даже если ты не веришь сам, приходит, располагается в твоём любимом кресле, и начинает вносить свои коррективы в твою замороченную до нельзя жизнь. Тем паче, если удалось не просто увидеть, а подержать в руках предметы, наполняющие его сущность, то он начинает разрастаться, заполнять собой всё пространство жизни, вытесняя из неё всякую социальную, условно навязанную чушь.
Местные камбоджийские кмаи пользовались такими вещицами, и они спасали от притаившегося в мутных водах крокодила или налогового инспектора с шариковой ручкой вместо смертельного жала, как у местного шершня размером с указательный палец.
Но чтобы картины меняли судьбу? О таком я слышал впервые!
Я выпил ещё кофе, смакуя каждый его горьковатый глоток, всё ещё пребывая под впечатлением этой милой женской истории, потом примерил свой деловой костюм, скучно взирающий из тусклого целлофана, уснувший почти на полгода. Он мне показался тесным и чересчур сковывающим движения рук, сердца, внутреннего полёта привыкшей уже к океанскому простору мысли. Одеть его, однако, пришлось, потому что отложенные на неопределённый срок дела ждали моего неминуемого возвращения.
Пока разговорчивый шофёр такси с неискоренимым кавказским акцентом расплетал новые хитроумные дорожные развязки, я с некоторым удивлением разглядывал изменившуюся Москву. Эти лояльные ленты расчерченных белыми линиями шоссе, висящие в утренней синеве многоэтажные кондоминиумы, затяжные до негодования светофоры. Хотя в моём воображении всё ещё покачивались ржавые пальмы вдоль пыльных красновато-глинистых дорог и безногие со сморщенными лицами торговцы жареными пауками и кокосами на обочинах показывали мне знаками цену: один доллар, один доллар – указательный палец вверх, а второй указательный рядом чертит в воздухе знакомую змейку.
Вот проплыла аббревиатура модного банка на бесконечном козырьке нескончаемого многооконного дома, вот снова она дубликатом на плакате в стиснутом толстеющими продуктовыми павильонами, умирающем парке, тянущего к проезжей части, сплетённые в мольбе о свободном пространстве ветви. Реклама печатного издательства во весь строительный забор. За ним, жёлтая рука экскаватора упорно ковыряет здешний исторический грунт. На обочине, облагороженной зелёным бобриком травы, то и дело выплывают умалишённые образы рекламы: лак для ногтей в египетской бутылочке, шоколад со смыслом орехов, мыло из целебной грязи, восстанавливающий шампунь для коленок, магазин детской обуви – малыш с лицом пророка плывёт по морю в огромной пинетке, – глаза соскучились по эдакой отрицающей живую природу ерунде.