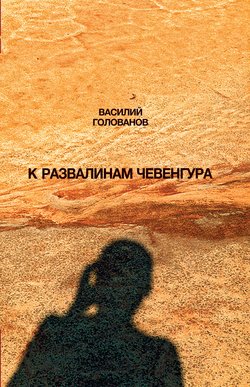Читать книгу К развалинам Чевенгура - Василий Голованов - Страница 1
Исток
Оглавление…Земля родины всегда принадлежит сакральной географии… Для меня родина есть центр неисчерпаемой мифологии. Благодаря этой мифологии мне удалось познать ее настоящую историю. Быть может, и свою тоже…
Мирча Элиаде. «Испытание лабиринтом»
Подбор эпиграфа – подходящего ключа к словесной партитуре – занятие, столь достойное промозглого майского утра, что грозит затянуться допоздна. Листая любимые страницы, тычешься наугад и все равно попадаешь вроде бы в настроение оставшегося позади пути: грунтовой дороги, снегопада, крупного, слепого, душистого, как цвет черемухи, и, конечно, прозрачного, только что рожденного свитка воды, на котором еще не запечатлелась ни единая буква бесконечной, как и сама эта река, летописи.
Однако и эпиграфом не отделаешься, ибо то, что нас интересует, обойдено словесностью. Ширь волжская совсем застила крошечную точку на карте, из точки отворяющийся ключ, исток. О Волге написано неимоверно много, но в чудовищных пластах беллетристики и специальной литературы, которую породила река, собственно о начале ее, об истоке, написано всего несколько страниц, которые не вдруг и отыщутся в толще литературных отложений. Потому и нашему современнику о начале вод известно то же, что и той первоначальной летописи, «которая знает, что Волга начинается в Оковском (Воковском, Волоковском) лесу, течет в земли булгар и хвалисов и впадает в Хволынское море «семьюдесятью жерелы» – сиречь гирлами, или рукавами.
Определяясь, где искать Оковский лес, я, признаюсь, не вдруг поставил точку на мысленной карте, и только купив атлас Тверской области, удостоверился, что искать надобно километрах в 70 к северо-западу от города Осташкова, у границы Новгородской земли, где возле деревни Волговерховье и была обозначена на карте едва заметная голубая змейка.
Желание отправиться к волжскому истоку возникло давно и было настойчиво – следовательно, насущно. И в этом можно увидеть простую иллюстрацию совершившегося поворота общественного внимания на себя, вовнутрь. Этот поворот сейчас слишком даже заметен, словно все ужаснулись сначала, увидев в неоновом космополитическом свете родину-мать – испитую, нищую, ожесточившуюся и давно уже вдовую бабу – и бросились от нее врассыпную. А потом опомнились – дело-то серьезное, уходит родина, уходит мать, сам ее запах, тихие, с детства памятные песни, сказки, которые она рассказывала, какая-то необъяснимая, невысказанная ее материнская доброта и простота, которой дети, собственно, наши дети, рожденные всего-то на 20—30 лет после нашего рождения, уже ни любить, ни даже почувствовать не смогут. Они – другие. Они – дети телевидения и глобальных процессов. Их образ родины – для меня жестокий постмодернизм, неумолимый, как реклама автомобилей, шоколадок, болтовня политиков или откровения «звезд». А они никак не могут понять, что меня тянет туда – в глушь, в эти опустевшие деревни с пустыми черными окнами, с провалившимися крышами, где прежних жителей осталось едва ли пять, ну – десять человек…
Все последние годы поездки в деревню были наполнены для меня горестной нежностью, будто правда ехал я напоследок повидаться с престарелыми родственниками и еще с чем-то, что потом уйдет навсегда, но что для меня было и останется самым главным в народе, во всей нашей жизни, без чего вся великая литература наша (один из немногих даров, которые внесли мы в культуру мировую) останется непонятной для наших уже детей клинописью… И, собираясь весною к волжскому истоку, не мог забыть я последней своей – накануне осенью – поездки в деревню. Я сейчас расскажу про нее, ибо это важно. Для каждого русского человека, которому сейчас от 40 до 50 лет, это важно: таково было прошлое, таков был завет, таков был исток – мудрости, доброты, слова… И для меня каждая поездка туда, в мир уходящий и уже ушедший, была поездкой в места силы, где все достоверно. Мне трудно это объяснить, но если я скажу, что пластиковый мир порождает пластиковые чувства, слова мои, может быть, станут понятнее.
В крестьянской жизни была когда-то счастливая пора: двадцать коротких дней бабьего лета, когда, завершив вал летних работ, пускали по полям огонь, когда длинными вечерами начинались посиделки, а днем – труд ненадсадливый и приятный: уборка ульев, рубка капусты или просто сбор орехов в лесу. И как раз на эту пору, когда даже грибы и орехи уже собраны и вокруг, над озерами и в лесах, остается только беспричинная красота, которой природа наслаждается как художник, исчерпав свою полезную, плодоносную силу, и выпадает время милых крестьянину праздников: Архангела Михаила, Автонома и Корнилия, после которого всякий корень в земле только зябнет, а не растет. А 25 сентября – Малая Пречистая – богородичный престольный праздник многих деревень, не исключая и Новотроиц, где обжился мой друг, с которым не раз и не два хотели мы запечатлеть какой-нибудь деревенский праздник, сохраняющий особенности быта и фольклора, да все тянули резину, пока не ясно стало, что, если дальше тянуть, снимать-расспрашивать будет некого.
Был белый утренник. Через весь выгон один только темнел к озеру, в заиндевевшие сухие тростники, след раннего рыболова. Над озером вместе с солнцем поднималось ослепительное, беспощадной осенней голубизны небо. На склоне, открытом солнечным лучам, уже клубился в чертогах травы розовый пожар: серебро инея оплавлялось дневным теплом и замирало в травах чистыми каплями. Все это вместе с красками поредевшей листвы, с тишиною того невообразимого объема, когда кажется, что слышишь парашютное паренье паутинок или по отдельности скольженье каждого листа, а уж крик сойки или ворона слышишь в самой дальней глубине леса, – все вместе это было так потрясающе, что, казалось, это и есть счастье. И самое странное, что всегда так было, с тех пор, как я помню себя. И тогда, давно, много лет назад, когда деревня еще настоящей деревней была, и сейчас, когда от деревни ничего не осталось почти, кроме памяти. И я еду в память о. В горькую память: как будто уходит что-то самое милое-близкое. Как будто бабушка умирает…
Утром постучал к соседям: две были замечательные старушки-учительницы, с которыми я с давних пор очень подружился. Помню, они мне про деревенскую школу рассказывали; про то, как в 50-е годы с учениками пешком ходили давать концерты в дом ветеранов войны… Оставшихся, значит, без родных и без крова ветеранов, доживающих жизнь свою в невероятной бедности и тихом горе. А дети стихи читали им, пели песни. Только и всего. И, помню, поразило, что инвалиды-калеки всегда выходили встречать детей очень далеко на поворот дороги и старались обязательно им припасти сухарей и обласкать. И что был один барак, где собраны были такие человеческие обломки, изуродованные железом войны, что их не решались детям показать, и так они жили сумеречно, без праздников.
Постучал. Нет ответа. Раскрыл дверь: прямо предо мной стояла Екатерина Васильевна, учительница. «Здравствуйте! С праздником!» – радостно приветствовал ее я.
– Кто тут? – кротко, но неожиданно спросила Екатерина Васильевна.
Она стояла в пяти шагах от меня. Я не сразу и понял… А потом заметил в одном глазу мутное бельмо и другой глаз – подвижный, темный, блуждая, все смотрел мимо меня. Я назвался. Она обрадовалась, предложила чаю.
– Давно вы ослепли? – Да уже года два как совсем не вижу. – Как же вы живете? – не удержался я. – Тяжело живем. Марья Васильевна почти не встает, а я не вижу…
А я думал – почему не отодвинется занавеска на окне, как бывало, когда мы приезжали прежде?! Выходит, нет для нее ни занавески, ни синего неба, ни золотого клена во дворе, ни могучих черных елей, за которыми в ясную погоду гаснет желтый закат… И закатов тоже нет. Ничего. Меня тоже. Звуки, шаги, голос. Какое-то воспоминание обо мне прежнем. Я даже не знаю какое. Она дарит мне баночку варенья – кабачков, сваренных с лимоном. Говорит, напоминает начинку пирога-лимонника. А я все пытаюсь представить себе ее мир, очерченный теперь границами стен и неподалеку раздающихся звуков утренних птиц, галок за окном, немощным шевелением сестры, музыкой радио (громкого); шагами почтальонши Маши, которая приносит воду и хлеб, и незнакомыми чужими шагами…
– Это вы? – спрашивает она всякий раз, когда я вхожу с ведрами, полными воды.
– Да.
– Тогда поставьте ведра вот сюда, – она безошибочно указывает место.
Таская воду, я не пытаюсь помочь, я пытаюсь извиниться, что ли. За фальшь жизни, которую мы ведем в городах, все стараясь успеть-преуспеть-заработать. За короткую память о них – еще живых, но забытых всеми и навсегда, как забракованный сценарий, исчерпанная тема. За то, что мы сделали… Не со страной, нет. С собой… «С праздником, дорогие мои», – говорю я, и мне кажется, что фраза звучит до ужаса фальшиво. Но им так нужно хотя бы одно ласковое, произнесенное с нежностью слово, что они прощают неполноту и робость чувства. Он великодушный и ласковый, этот бывший деревенский народ, он сам расточал ласку безмерно, бессчетно, пожизненно, пока весь не сгинул. До сих пор с глубокой болью переживают они все страшные новости, о которых слышат по радио…
Как хорошо, что в самом деле они ничего не ведают о мире, в котором мы живем!
Но ведь праздник! На улице еще ничего не происходило, но меж тем он набухал, делаясь все явственнее, как запах пирогов, которым тянуло из разных домов. Каждое суечение, перетаскивание стульев из избы в избу и уж подавно четверти прозрачного, ржаного цвета самогону – все это должно было в конце концов переполнить меру приготовлений и излиться хоть чем-нибудь, раз уж людям так нужны праздники, чтобы чувствовать себя людьми…
В час пополудни пришла автолавка, и Малая Пречистая тронулась на малых оборотах. Прилавок, как сепаратор, отделил женщин от мужчин: мужики взяли свою водку и пошли пить ее к своим строениям и механизмам. Они желали пить и забываться тихой святостью этого дня. Это женщины желали обратного – забываться и пить, и потому, собственно, путь их к Пресвятой Богородице был столь долог и изощрен – через застолье, концерт и самодеятельность. Я вспомнил празднества, которые видел на юге, армянские застолья, застолья казахов: везде присутствие семейных пар было обязательно, и только в русской деревне оставшиеся мужики пили бережно и отдельно, чтобы бедственным, потертым и изломанным видом своим неприлично не оттенять благообразия жен. Да, впрочем, замужних-то баб оставалось от силы пять человек – остальные вдовы. Всего из трех деревень, по привычке сообща справляющих престольные праздники, собралось на этот раз в Новотроицах бабок пятнадцать.
Ждали артистов.
Артисты прибыли на битом рафике1, когда бабки уже замерзли на прозрачном осеннем ветру и стали хлюпать носами. Баянист, широколицый дед в толстых очках, оправившись с дороги, молодцевато заломил картуз с вдетым в него золотым осенним цветком:
– Какой у вас, девчата, праздник?
– А у вас? – с готовностью поддались на заигрыванье бабки.
– У нас Богородица.
– Ну, значит, ничего не перепутали…
Из-за ветра пошли в избу. Пока ансамбль готовился, а бабки согласно какому-то давно заведенному чину рассаживались вдоль стены в своих «парадных» кофтах или беретах: тетя Паня да тетя Маня, баба Ганя да баба Маня, баба Лиза и красавица роковая тетка Татьяна, четыре дачницы и баба Феня – матриарх деревни, настоящая солдатская вдова, у которой муж погиб еще в войну2, так что его из нынешних «бабок» и не помнит никто – малы были. И тут выяснилось, что скрывать никому нечего, ибо праздник – он и есть исповедь претерпевающего человека, его посильная радость и приоткрытая боль. И тут грянул ансамбль первую вместе с бабками, так что вся изба застонала, как гармонь:
Напилася я пьяна…
Пронзительно защемило в груди – не от того, что пели они особенно или хорошо, а от моментального чувства слитности всех со всеми, которая возникает от способности сердца мгновенно открываться навстречу переживанию. Вся беда этой непутевой девицы, что напилась допьяна, потеряв милого, каждым здесь переживалась как личная. Там, в песне, девушка в самоотречении желает милому счастья, где б он ни был. Буквально: «Если с любушкой на постелюшке – помоги ему, Боже». И в этом месте некоторые бабки вслед за гармонистом удало притопывали: «помоги», а другие тихо, почти про себя, противоречили: «накажи его». И такое проглядывало сквозь это разночтенье разнообразие судеб, столкновение и крушение стольких – и всем знакомых здесь – обстоятельств, что становилось ясно, отчего так пронзительны песни там, где они – сама жизнь, а не эстрадный шлягер и не бельканто.
2
Чудо свершилось мгновенно, чудо преображения: разлилась теплота человечности и радость праздника, который все-таки настал, как время исповеди, позволив бабкам то страдать, то радоваться всласть. И не расскажешь о лицах собравшейся аудитории, потому что такие лица, такие восторженные и наивные одновременно, бывают только у детей, а здесь то же выражение доверчивого восторга накладывалось на иссеченные морщинами черты и глаза женщин, которые почти весь свой век прожили, сработались почти вконец, все прошли и все, что имели, потеряли – а вот, будто и не теряли вовсе:
Хорошо траву косить, которая волнуется.
Хорошо девку любить, которая целуется…
Престарелый гармонист разваливает гармонь и в октаву басам тенором заводит частушки. Тут бы в ответ ему парням вступить, деревенским остроумцам и охальникам, да так, чтоб дети от охальства затаивались на печи, а неукротимые мужики верней находили повод для драки. Но ведь ни парней, ни одного, даже упившегося, мужика за столом! Только память. Память о том, как было, когда была жизнь. Гармонь впустую пропиликала пару частушечных колен, но тут уж тетя Паня, опустив долу глаза, отворилась скороговорочкой:
Молодая я была – всегда давала за дрова,
Когда давала, то и думала: не дорого дала…
Бабки вздохнули от лихости, а баба Лиза тут же врезалась, как гром обрушилась, сверкнув ярым глазом и железным зубом:
Я гуляла-топала, по ширинке хлопала,
Думала, что пятаки – а это яйцы таки…
Бабки завизжали словно девки, застигнутые в бане парнями, и понесло их в Пречистую Бога Мать через всю их лихую молодость, войну, колхозные трудодни, слезы об умерших мужьях и детях и все несбывшиеся надежды…
Медсестра за перегородкой измеряла кому-то давление. Сцену снимал корреспондент местного телевидения, как зримое проявление заботы. Я ж пристроился к тете Пане поближе – послушать разговор.
– Я перед дочерью-то каялась: прости, говорю, что у тебя детства не было… Я ведь телятницей была, ее с собой водила, а у каждой телятницы в колхозе было по тридцать коров да три дойки…
Я стал высчитывать, сколько нужно времени, чтоб трижды тридцать подоить коров, но получалась какая-то ни с чем не сообразная цифра в 23,5 часа, которую тетя Паня обсмеяла: «Я ж аппаратом доила, миленькой… Рукам разве столько надоишь? Рукам летом доила на пастбище тех, кто поздно отеливши – так десяток ли будет за два часа?»
И вдруг, как о счастье каком-то, вспомнила, как распек ее директор колхоза Охотин за то, что не положили хвою в корм коровам. «“Клади, – кричал, – партбилет на стол!” – А потому, что все было: корма, транспортер, дрожжи варили, солому парили, хвою эту мололи, отруби заваривали – но и надаивали по три тысячи! А сейчас как увижу эти развалины в окно – глаза б не видели, скорей бы рухнуло все и заросло!»
Не суди меня, девчата, что я с песни
сбилася,
Я на курсы не ходила, в школе не училася! —
низким хриплым голосом проорала баба Лиза, несколько раз запускавшаяся было в пляс, но тут приметившая, что за столом уже некоторое время присутствует ее муж, по-видимому, явившийся к бабьему столу от истощения у мужского меньшинства хмельного продукта.
– Мишенька, – сорванным голосом позвала баба Лиза. – Ты как здесь, родной, оказался-то?
Баба Лиза проработала телятницей на ферме тридцать лет. Это самая нежная, почти материнская животноводческая работа. А муж ее Миша был лучшим в деревне механиком. Про них даже в газете писали, в смысле: трудовая семья. Дядя Миша и сейчас всякие механизмы и в особенности бензопилы выправляет досконально; но речь трудная у него, невнятная, быстрая, внюхивающаяся и хрюкающая, как у ежика, внезапно извлеченного на свет из норки. Не ответив на вопрос жены, дядя Миша стал в меня внюхиваться и урчать, протягивая пустой стаканчик. Я налил ржаного самогону. Баба Феня, острым взглядом бригадирши оценив ситуацию, сделала знак подойти: «Не наливал бы ты ему, он пьяный нехороший». И такая в этих словах прозвучала материнская нежность, что я понял, что переживает старуха за дядю Мишу – не за меня. Дядя Миша и впрямь, скошенный самогоном, все ниже склонял голову на плаху стола и не видел уже ничего, уходя, как в норку, во тьму забвения Малой Пречистой и не слыша ни зовов жены своей, ни песни про дуб да рябину, которую я не припомню, чтоб где-нибудь с такой горечью, с такой слезой еще пели одинокие женщины…
Может показаться, что все это никакого отношения к поездке на волжский исток не имеет. Но я оговаривался уже, что исток – это еще и завет, и слово, и тот достоверный мир, который всегда излечивал меня от всех недугов. Бывают ведь совпадения личного плана. В поездку меня вышвырнуло напором обстоятельств, справиться с которыми я сам уже не мог. Я отправлялся к истоку в глубоком разладе с самим собой и с близкими. Что-то в самом деле происходило то ли с миром, то ли со мной. И было желание почти буквальное: добраться до начала начал и прикоснуться… Потому что каждый исток, а тем более такой – это изливающаяся на поверхность сила. От великого избытка, как песня, рождается река, и казалось почти естественным, что даже там, у истока, где она совсем еще мала, можно от ее избытка отчерпнуть – и силы ее не убудет, если ты в своей человеческой малости преклонишь колена и отопьешь. Попьешь немного живой ее водицы. И, подкрепившись таким образом, распутаешься наконец и с собой, и с миром.
Таковы были мои внутренние обстоятельства. Но в машине в результате оказалось нас четверо: поэтесса и писательница Таня Щербина, мой друг фотограф Александр Тягны-Рядно, моя восьмилетняя дочь Саша и я. Был канун первомайских праздников. Москва, как гигантский вулкан, объятый завесой пепла, волна за волной исторгала из себя лавовые потоки скрежещущих автомобилей. Час мы выскребались из Москвы. Еще два добирались до Клина, где стокилометровая пробка начала помаленьку рассасываться.
Разумеется, у каждого из нас было вполне рациональное, ничуть не менее логичное, чем у меня, объяснение, почему это ему взбрело в голову ехать к истоку Волги. Но, как выяснилось по мере нашего продвижения, у каждого была еще причина своя, особая, связанная с рекой такими глубокими личными отношениями, что этому, особенно в наши дни, невозможно было не удивиться. Я, разумеется, умственно «понимал», что Волга для всех обитателей российских пространств, живущих по эту сторону Уральских гор, – это универсальный символ огромного напряжения, с которым связано все – время вообще, история, личная история, детство, зрелость, смерть («…издалека долго // течет река Волга…»), размежевание родного пространства и даже его сочленение с пространствами неродными и весьма отдаленными. Но то, что все мы, и мои попутчики тоже, окажемся повязанными с рекой неразрывными родственными узами, словно это не река и не вода, а кровь и кровеносная жила, было по-настоящему поразительно узнать.
Но ведь папоротники детства не вдруг прошелестели. И было детство. Счастливое. Прекрасная девочка Таня. И мир – прекрасный и незыблемый. Только потом стало ясно, что все висело на волоске – все-таки бабушка тяжело болела, уже случались с нею обмороки, пугающие взрослых. Но что может знать маленькая девочка об утратах, грядущих, как обещание праздника? Бабушка купила билеты на теплоход. Два билета. Себе и внучке. Никто не имел решимости воспротивиться – и они поплыли. До Астрахани. По Волге. Это была волшебная страна. Бабушка подолгу стояла на прогулочной палубе, вглядываясь в очертания берегов, в прекрасные воды. Бывало, что ей делалось плохо – но, как всегда, ничего серьезного не происходило. Ибо что может знать маленькая девочка, живущая под покровом бабушкиной любви, о грозных предвестниках?
Вскоре после возвращения из путешествия бабушка умерла. Следом за нею умер и дед. Мир рухнул. Детство кончилось. Но Волга – последний бабушкин дар – осталась.
Потом девочка прожила еще несколько все более взрослых жизней. Одна из них, длиною в восемь лет, пришлась на Париж и была тоже и полной, и счастливой. И вот на излете этой жизни Таня Щербина – уже парижанка – снова оказалась ненадолго на родине, в Москве, с тем чтобы сопроводить группу своих новых компатриотов, французов, в поездке по Волге на теплоходе.
– Понимаешь, мы плыли по тому же маршруту, останавливались в тех же городах, что и тогда, с бабушкой. В городах, которые я запомнила, как сказку. Я ничего не узнавала. А то, что видела, было ужасно. Углич. На пристани пьяные женщины продают часы местного завода «Чайка». Толкаются, дерутся: «Ты куда вперед лезешь, б…?» Строения. Обшарпанность – это не то слово. И убожество – не то. Убитость. Я была в ужасе, в настоящем ужасе. Я не знала, куда бежать из этого кошмара. Но интересно, что именно после этой поездки я вдруг приняла решение вернуться в Россию. Навсегда.
– Почему? – спросил я.
Был третий час вальпургиевой ночи, ночи с 30 апреля на 1 мая. Сатана уже собрал всю свою нечисть на далекой Броккенской горе, путая мысли и чувства, месил дождь с туманом, мешая становлению дружной весны. В холле тверской гостиницы «Волга» плавал остывший табачный дым.
– Потому, что свои плюсы и минусы есть везде. Но на наши минусы у тебя наработана защита, нормальная эмоциональная реакция. А там всегда есть то, к чему ты не привыкнешь никогда.
Я сто раз слышал об этом и никогда толком не понимал, что имеется в виду.
– Для этого нужно влюбиться. Там.
– Знаете что? – произносит Тягны-Рядно, которому надоело слушать нашу болтовню. – По-моему, вы все страшно преувеличиваете…
– Приуменьшаем.
– Но ведь, в конце концов, – говорит он Татьяне, – мы с тобой тоже встретились… там…
Дорога – это жизнь. Новая жизнь, сразу набело. Мгновенное обживание новых ситуаций, короткие знакомства и столь же безболезненные расставания и, наконец, самое странное чувство: deja vu – совершенно подлинного узнавания, когда на набережной в Твери или в Торжке вдруг взглянешь на какой-нибудь дом и почувствуешь, что, конечно, его уже видел, а может быть, даже в этом доме жил и был счастлив – совсем иначе, нежели сейчас, но, может быть, даже проще и лучше… Цветы на окне, занавесочки кисеей, кошка… Вот из этой двери я бы выходил поутру. Кем? Учителем французского языка уездной гимназии или преподавателем географии губернского университета? О, я был бы краеведом, возил бы своих студентов на раскопки, в фольклорные экспедиции. У меня была бы клеенчатая тетрадь с рукописью незаконченного «романа», лодка на Волге, прекрасная библиотека из подшивок позабытых ныне газет, журналов и книг. И утра в моем доме были бы прохладные и чистые, как натюрморты Петрова-Водкина…
Продвинутые психологи утверждают, что чувство deja vu появляется, когда человек оказывается на перекрестке, в «точке выбора», и от того, что он предпримет в следующий момент, может зависеть вся его жизнь…
Что-то подобное случилось со мною лет за десять до этого, в Торжке как раз. Я приехал сюда к священнику Владиславу Свешникову писать о нем материал, а получилось, что мы все время говорили о Боге. Его духовный сын Саша тогда работал в церкви истопником; вставал в четыре, уходил в темное льдистое мартовское утро, возвращался, пахнущий угольным дымом, но он казался мне самым счастливым человеком на свете, потому что у него был Бог, а больше ничего не было. Никаких мелочей, ничего лишнего не было, только самое главное – Бог. А у меня только лишнее и было: ненужные отношения, работа ненужная, ненужный дом, где я ненужно жил… А Бога не было, и никакой надежды не было… И вот в церковной ограде, когда ветер качнул мартовские липы и галки стаей закружились над церковными куполами, – помню, было оно, это пронзительное чувство, что – вот! это! – я его знаю, этот исток жизни, и если только вспомню хорошенько, где он, то уж, верно, буду знать, как жить…
Я тогда тоже искал исток, но ничего не нашел, и ровно через неделю жизнь моя улетела под откос…
– Что это? Что это?!
В темноте на дороге или над нею вдруг возникают огненные полосы. Автомобиль летит на них, и они то свиваются, будто раскаленные ленты, то вдруг делаются совсем прозрачными.
Река?!
Оказывается, это свет фар играет в проводах.
Пространство непомерно, оно налетает из тьмы, как ветер, песчинка за песчинкой выдувая знакомые образы из привычной картины мира – нет больше ни придорожных кафе, ни чайных для дальнобойщиков, ни нужной нам марки бензина, ни панельных домов, ни заводских складов – только темный лес по краям дороги да столбики километров. И как оглядывали нас в убийственно скучном ресторане какого-то крошечного районного городка, в котором мы в конце целого дня пути остановились поужинать: наши лица, наше обличье кажутся странными здесь. «Москвичи». Примерно с тою же интонацией, как мы в детстве говорили: «иностранцы». Без неприязни, но настороженно. Или неприязнь все-таки была? Сейчас уже не помню.
Бывают минуты, когда кажется, что ты в космосе, что вырвался наконец из «цивилизации» и всех тех отношений, которые ею порождены, попал в чистое, необезображенное, истинное пространство. Потом в самой глуши темного ночного леса видишь несколько домов, десяток автомобилей с московскими номерами, помойку и понимаешь, что все нормально, мир не даст тебе выпасть никуда. Да и куда ты, дурачок, убежишь от мира на автомобиле?!
Фигура старушки в белом платочке появляется именно в тот момент, когда клинит заднее колесо и мы оказываемся совершенно беспомощными перед этой поломкой, тьмой, холодом, плеском невидимой ночью близкой промозглой волны, ветром и отсутствием крыши над головой.
– Квартиру ищете? – спрашивает добрая волшебная старушка.
Квартиру? Как?! Ну конечно…
Через полчаса мы уже ужинаем в прекрасной, хоть и холодноватой, для приезжих обставленной квартире на третьем этаже блочного дома, из окна которой утром видно озеро Селигер. Я открываю пиво, набиваю трубку и вместе с друзьями медленно ухожу в ночь. К середине ночи появляется ощущение, что мы все-таки вырвались. В окно видна луна и быстро бегущие по небу тучи.
Едва сворачиваешь с шоссе на проселок, ведущий в глубь того самого Оковского леса, что оберегает собою исток Волги, как тебя охватывает необыкновенное чувство подлинности, вневременности пейзажа. И тут дело не только в весне, в очень нежной еще тонировке того, что станет потом сплошной, непроглядной лиственной завесой, не в контрасте нежных, прозрачных, будто стеклянных молодых листочков ольхи или березы и темных, косматых еловых бород, но и в самой проселочной дороге. В дороге, сохранившей свою изначальную суть, свою многомерность, не до конца подчинившейся автомобилю. Не служащей ему одному только нитке асфальта, призванной удовлетворить его притязания на наивысшую скорость и комфорт. Дорога причудливо петляла, поднимаясь, как ей и положено, вверх и ныряя вниз, и ничего не было проще, чем представить себе на ней и пешего, и конного, и почтальона на велосипеде, и инока, торопящегося успеть в свою обитель к вечерней службе.
Еще в Твери мы слышали, что волжское первоначало заповедано и на машинах туда нельзя. И я, помню, даже подумал, что правильно. Если ты едешь к истоку, как ты полагаешь, Родины, к ключу, слабому еще, как младенец, и в то же время к ключу ото всего русского мифа, то будь добр, сойди на землю и пройди хоть немного пешком, как подобает паломнику. А если просто любопытствуешь – то тем более, земля не все стерпит, поступай по предписанию. Но только в лесу стало все окончательно понятно (и я подумал о мудрости хранителя): ничто так не унижает святыню, как автомобиль. Ничто так не равнодушно к ней, ничто не испытывает перед нею большего самодовольства. А сюда с самодовольством нельзя. Нельзя с железным блеском в глазах и с пламенным мотором вместо сердца. Людям – можно всем. Всяким. Даже таким, как мы, столичным жителям, запутавшимся и даже скверным, – можно. А автомобилю – нельзя.
Я все ждал, что за очередным поворотом поджидает нас шлагбаум и пространство для парковки, но дорога вилась себе и вилась, и никакая стража не заступала нам путь. Это было удивительно. Потому что, как это ни странно покажется, каждый из нас от предстоящей встречи ждал одного: увидеть хранителя. Хранителя истока. Потому что казалось совершенно естественным, что раз есть ключ, который отверзает воду самой большой реки на всем пространстве Европы (и он же – волшебный мифологический ключ), то при нем должен быть и ключник с ключами от ключа, хранитель бессонный и бессменный. Это совершенно сообразно законам волшебного мира, в котором такие вещи, как истоки великих рек, не могут быть просто так, без стража, без святого подвижника, который не давал бы замутить исток и соблюдал бы чистоту места.
И то, что я в Москве слышал о каких-то старухах, которые ходят из разных деревень, чтобы блюсти чистоту ключа, в общем в эти представления вписывалось, и я даже очень хорошо представлял себе этих старух, хотя, кажется, читал, что их не много, а всего одна. И вот – увидеть ее было важно. Потому что больше всего на свете я люблю старых интеллигентов и деревенских стариков, на которых лежит глубокий отпечаток старой, дореволюционной еще культуры, последние проявления которой я еще застал. Эти старики – сами как исток, люди незамутненной души. Нас больше, мы прем, как талая вода, мы сильнее, но мы никогда не будем так чисты, как исток, как люди истока.
В Твери выяснилось, что хранительница истока, Нина Андреевна, давным-давно померла, а дело принял некий человек из Питера, Сергей, который, как и положено, попал однажды к истоку, припал и не смог уже оторваться, отреставрировал церковь, построил дом… Обозначилась судьба, замерещилась тема. Поэтому Сергея-то я и ждал в первую очередь встретить за поворотом лесной дороги. Но вот уж мелькнул указатель «Волговерховье», справа обозначился храм – и вдоль мокрой от талого снега улицы несколько взъерошенных изб. Никто нам путь не преградил, и мы, выходит, приехали…
Дул сильный ветер. По ветру крупные, как лепестки черемухи, снежинки летели почти параллельно земле. Я увидел бредущую по улице фигуру, побежал. Думал, мужик, оказалось – женщина, обвязанная платками. Спросил про Сергея.
– Так он уехал. Был, но уехал. Вообще эту зиму не зимовал…
– А кто же тогда следит за истоком? – изумился я.
– А во-он, – показала женщина на фигуру пожилого мужчины, быстро погоняющего небольшое стадо в облаке снега. – Анатолий Григорьич. Только громче ему кричите, он слышит плохо…
– Анатолий Григорьевич! Анатолий Григорьевич! – закричал я, бросаясь ему наперерез, потому что показалось, что и он сейчас уйдет туда, куда потянулось стадо, – в зеленые, давно не паханые поля, в глухие водораздельные леса, в Новгородчину, вон за ту вершинку, откуда уже все реки не в Волгу текут, а в Ильмень-озеро…
Он остановился. Пиджак из искусственной кожи не слишком-то, конечно, грел его; щеки румянились от мороза. Выслушал нас.
– Хорошо, я приду на исток, только кнут домой отнесу да ключ возьму…
Вот оно с хранителем истока как все обернулось; а вместе с тем ничего не поделаешь, только это правда и есть, ибо та женщина, о которой я читал когда-то, Нина Андреевна Полякова, она уж двадцать лет как умерла, Сергей из Питера оказался обычным временщиком, который, конечно, сам себя мнит в ореоле истока, однако ж отсутствует; а ключ от ключа бессменно держит повстречавшийся нам глуховатый пенсионер, он же пастух и продавец местного сельпо Анатолий Григорьевич Марсов.
По ощущению исток Волги не есть око и ключ. Ключ, который в старое время звал народ «Иорданом», таится на дне болотца, и «ключ от истока» – железный ключ с самодельным деревянным брелоком – выполняет функцию скорее декоративную. Потому что настил и часовенка на нем с обязательным образком Николая Угодника и пробитым в полу отверстием, символизирующим как раз родник, поставлены на сваях над болотцем, образовавшимся у опушки леса. Здесь всяческая лесная влага собирается-собирается и наконец, достигнув критической массы, пускается в самостоятельное течение. Таких истоков в окрестных лесах – тысячи, вокруг пространство совершенно необыкновенное – родина воды. Здесь вся земля сочится водою на три стороны света (есть места, где верховья притоков Волги, Днепра и Западной Двины разделяет всего несколько сот метров). Особенно по весне, когда облепленные седым лишайником стволы осин стоят посреди талой воды, будто колонны какого-то исполинского святилища, и вся земля, напитанная водою, журчит, хлюпает, пузырится зеленоватой лягушачьей икрой, пуская в лужи отражения синего неба и белых облаков, из которых поднимаются вверх деревья, лес, Лес-Отец-Вод, порождающий все эти «волго», «пено», «вологдо», «болого»… Когда в конце прошлого века профессор П.Е. Белявский решил научно выяснить, где находится исток Волги, то обнаружил, что теоретически на роль истока могли бы претендовать несколько ручьев. Но народ упорно и единодушно считал истоком только один – «Иордан». И непонятно почему. Вроде бы ничего особенного. Вокруг – самая обычная заросль, ива, ольха, краснотал, осока, затопленные кусты, березовый лист на дне… И все же с этим единогласным выбором приходится, конечно, считаться.
Видел, как две девочки зашли в часовню и в отверстие над родником бросили свернутую записку: «сбудется». Видел, как люди умываются – «чистым становишься» – и обязательно пьют воду. Я тоже, как и хотел, напился темной, на осеннем листе настоянной волжской воды. Подошла дочь, тоже попила. Потом сказала: «там в одном месте Волгу можно перепрыгнуть с камня на камень. Пойдем, я перепрыгну, а ты сфотографируешь. Бабушка с ума сойдет!»
До этого она видела Волгу только у бабушки, в Саратове. Она связала в уме две точки невообразимого для восьмилетнего ребенка пространства, не подозревая еще, что этими изначальными водами связано все – и жемчужная нитка поволжских городов, каждый из которых гордится своею набережной; и огромная территория, на которой и Шексна, и Ока, и Белая, и Чусовая – лишь ветви одного исполинского ствола; и фигуры орнаментов, передающиеся от мари к мордве и затем уж подхваченные русскими; и мелодические ходы, которые многие наши напевы так роднят с башкирскими или с татарскими; и вся история наша – и летописная, и долетописная даже, – дошедшая до наших дней смутными отголосками о волнообразном истечении народов из Азии на запад через Великие Ворота между Уралом и Каспием. Тут не одна история, а несколько исторических эпох, безвозвратно позабытых, только и связаны, что названием этой реки – Ра, А-Рас, Итиль, Идель, Иуль, Волга…
Должно быть, сознание мое (осознающее это величие) не вполне примирялось с тем, из какой малости рождается Волга. Но в том и заключалась правда, что другого ничего не было: часовенка над болотом, церковь на холме, пасущийся на зеленом склоне черный конь, смятые ветром березы… Только потом, когда мы с дочкой вдвоем пошли вдоль ручья Волги, согнанные с настила группой подъехавших туристов, я вдруг испытал щемящую нежность к этой новорожденной воде. Такая это была чудесная, прозрачная, полная солнца вода, такое вокруг царило чистое весеннее младенчество мира, что захотелось вновь преклонить колени, умыться, испить, позвать ее: «Волга, детка…»
Здесь начало, укромная чаша, заповедные дремучие леса, «дорог автомобильных дальше нет, только конные». Вот отсюда она и пойдет, пойдет, разольется, наберет силу, чтобы одолеть все ужасы, устроенные на ее пути современным человечеством, одолеет – и неостановимой сверкающей лавой, разделившись на множество рукавов, подобно коннице Чингисхана, устремится к Каспийскому морю, пробивая раскаленные пустынные пески, оставляя по бокам, в ильменях, столько воды, что сама пустыня станет похожа на амазонские джунгли…
Но это там, за тридевять земель. А начало всему этому – здесь, в этой малости. И вся сила – в этой вот слабости. И все величие будущее – пылающие на солнце зеркала вод до горизонта – оно начинается под сводами этой часовенки над болотцем…
– Ну что, я закрываю? – Анатолий Григорьевич, поглядев на синюю снеговую тучу, встающую над лесом, поежился в своем скрипучем пиджачке.
– Да, пожалуй… – я готов был уходить.
– Пап, а ты разве ничего не будешь писать? – вдруг спросила меня дочь Саша.
– Где?
– На доске (что-то вроде «доски отзывов» было еще на настиле позади часовни).
– Нет, не буду.
– Тогда дай мне ручку.
Я недаром говорил, что у каждого из нас помимо очевидного был еще и другой, по-настоящему значимый повод отправиться к волжскому истоку. Я хотел спастись, обрести если не твердую почву, так хоть воду под ногами. А дочь? Много лет она слушала мои рассказы о дальних поездках, о таежных реках, о тундре, о северных островах… Она научилась верить, что там-то и начинается настоящая жизнь, жизнь, которую стоит жить… Но она не верила, до последней минуты, я видел, не верила, что когда-нибудь я возьму ее с собой туда. Да и сам я был полон сомнений, потому что если бы в результате нашей поездки она сказала: «знаешь, пап, мне не понравилось, все это скукота и ерунда», то я был бы убит на месте. Это значило бы, что как отец я проиграл. Ибо своим примером ни в чем не убедил ее.
На «доске отзывов» она написала, что еще никогда в жизни не видела такой красивой Волги. Когда она сказала мне об этом, я понял, что во веки веков я оправдан и спасен.
Ветер ударил, и опять косо полетел снег. В приглушенном сумраке ненастья по мокрой деревенской улице прошествовало стадо: четыре коровы да с десяток, наверно, овец. Навстречу стаду двигался человек. Я заметил его давно, едва только мы въехали в деревню: это был сухонький седобородый старик в солдатских штанах, меховой душегрейке и старой шляпе, которая от многократного изменения форм стала походить на ковбойскую. Тогда он стоял у ограды, а теперь сам шел навстречу, причем по особой решительности шага легко было понять, что идет он в магазин за водкой.
– О Волга! Родина! Я твой должник! – вскричал дед, приблизившись, и вскоре выяснилось, что говорит он только стихами, или, вернее, ритмической прозой – «с тех пор, как напрямую с Богом…»
В общем, история вышла обыкновенная: чтоб не держать Анатолия Григорьевича понапрасну в магазине, который он хранил так же неукоснительно, как и исток, мы взяли бутылку водки, закуску и отправились в избу к боговдохновенному деду Вене.
Анатолий Григорьевич рассказывал, что народу в деревне осталось постоянных восемь человек, поля не паханы шесть лет, сыновья разъехались… Вспоминал он и какого-то князя, который, прибыв впервые из Франции в Россию, был привезен в эти места и, увидев исток, попросился побыть один – и пропал. Когда через четыре дня, к радости и ужасу тех, кто сопровождал его, он вышел из лесу, он был неузнаваем и на попытки выяснить, что с ним приключилось, закричал: «Не трогайте меня! Не приближайтесь! Я – русский человек!»
Мы чокались, пили за князя, дед Веня вскакивал и обнимал Тягны-Рядно: «Родной! Оставайся со мной на неделю! Оставайся со мною пить! Я один живу! Я скажу тебе истину…» Но истину не говорил, а вдруг начинал прихлопывать и заводить удало:
Я гулял недели две – лопнуло терпенье,
И решил жениться я в это ж воскресенье.
Но с женщиной всю жись потом
не развязаться,
Она ж все время мне под бок: «Пойдем,
чтоб расписаться!»
Но и рассказ потешный про женитьбу тоже все никак не мог довести он до конца – должно быть, от избытка чувств. А я сидел, вдыхал ни с чем не сравнимый запах деревенской избы и думал, что старик этот поразительно похож на другого, ныне уже покойного старика, дядю Колю, которого знавал я в своих деревенских странствиях – только дядя Коля воевал, а этот в войну еще мальчишкой был, как мой отец. И еще я подумал, что ищу всегда одно и то же, как говорят киношники, «уходящую натуру» – как раз таких вот людей, которых наш век и наша земля уже не родит. И не успокаиваюсь, пока не найду. С некоторых пор этого (сразу и вдруг) почти не стало: людей таких, домов таких, утвари, старых, сильно прорисованных карандашом фотографий, мыслей таких, чувств таких. Мир изменился необычайно быстро, и эти вот старики – последние носители того крестьянского понимания жизни, которое в полной мере присуще было их отцам и дедам. Конечно, до дедов им далеко, но все же и на них лежит еще отблеск их света, их истины.
Стали прощаться. Лицо деда Вени, осененное пьяным вдохновением и глубочайшим знанием истины – истины о красоте и святости мира, о прекрасности жизни любой, – было воистину величественно. Соседи посмеивались, глядя на наше прощанье, но я подумал, что нет смысла обманывать себя: таких людей я люблю больше всего на свете и буду любить, хоть это и несовременно, и глупо. Буду любить, как последних живых персонажей русской классической литературы, запоздало задержавшихся в мире. Буду любить потому, что эти люди чисты, как вода истока. И неизвестно еще, что больше надо оберегать – исток или души этого исчезающего человечества, которому ведома еще истина, хоть и не может быть вымолвлена…
– Люди! – вскричал дед Веня, когда мы погрузились в машину. – Я не спрашиваю, какой судьбы вы, какой фамилии, есть только истина, и истина – свобода, и вы должны это понять, чтобы спастися…
Так вот оно в чем дело! «Спастися…» Не в первый раз мелькает это слово. Мы все, выходит, ехали к волжскому истоку ради спасения? А может, правда? Ведь каждый спасся. И каждый получил то, что хотел. Конечно, многое приходилось просто претерпевать. Но каждый ведь не с пустою душой вернулся домой, каждый нашел что-то? Образ. Миф. Свободу. Может быть, даже получил импульс, начало движения новой жизни, новой работы, которое подобно течению реки. Возможно, это движение, эта работа уже начались и все мы – сами того не ведая – делаем ее: заново пишем сакральную географию своей родины. Ведь мы утратили не только боеголовки и жуткие рутинные производства, на которых держалась наша промышленность, – мы утратили сам поэтический образ своей земли. А без мифа земля обморочна и безъязыка. Она не оживлена и подлежит забвению. И никакими усилиями, даже понимая это, миф о родной земле нельзя «декретировать», насадить и привить в приказном порядке. Он должен родиться из неистового усилия выжить и «спастись»; из надежд, deja vu, паломничеств и безумных пророчеств; из фотографий, картин и фильмов, труда крестьянина на земле и самоотверженного корпения над грудами позабытых книг и сочинительства невообразимых географических метафизик, в которых проступает новое лицо России третьего тысячелетия.
1
Микроавтобус несуществующей более марки РАФ, предназначенный для сельской местности.
2
«Война» – долгое время в народе этим словом называлась только одна – 1941—1945 гг.