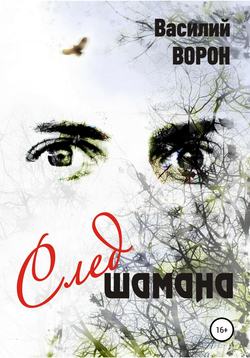Читать книгу След шамана - Василий Ворон - Страница 1
ОглавлениеИ познаете истину, и истина сделает вас свободными
Евангелие от Иоанна, 8:32
У страха глаза велики
поговорка
…и внимательны
неизвестное дополнение
В одном очень большом городе, где портил людей отнюдь не только пресловутый «квартирный вопрос», хватились человека. В «спальном районе», до которого еще не добрались вечно бодрствующие бульдозеры, парадоксально призванные улучшать жилищные условия, взволновались жильцы дома, одна из квартир которого была подозрительно необитаема. На жилплощадь, впрочем, никто не покушался, и проблема состояла в другом: жильцы уже были знакомы со страшным словом «гексаген» и, обжегшись на молоке, дули на воду.
– Квартирант-то, может, удумал чего? – волновались соседки. – Не слыхать его, не видать. Хорошо, если помер…
Кто именно жил в этой квартире, многие не знали, а кто-то вспомнил некоего мужчину, но имени назвать не смог. Все это было не только крайне любопытно, но и подозрительно, поэтому как-то поутру у единственной не железной двери на площадке собрались участковый милиционер, тетка из жилищного управления и двое самых настырных соседей, в нелегкой борьбе заслуживших право быть понятыми. И если понятым не было известно о хозяине квартиры совсем ничего, то официальные лица – участковый и женщина из управления – знали только имя, но оно ничего им не говорило.
Дверь легко вскрыли и вошли в квартиру.
Внутри никого не оказалось и понятые – баба с отвратительным неженским лицом и мужик с необъятным брюхом – разочарованно переглянулись. Однако сама квартира при ближайшем рассмотрении произвела на всех большое впечатление, заставив понятых неумело перекреститься, а участкового даже пробил холодный пот. Он действительно решил поначалу, что это было гнездо террористов, но вскоре понял, что ошибся. Однако инспекция квартиры затянулась: определить, что за человек здесь жил, оказалось задачей не из легких.
Жилище оставалось необитаемым давно, и пыль обильно покрывала хаос, царивший внутри. Участковый милиционер оказался человеком знающим, к тому же подавшимся в участковые не от хорошей жизни и сделал некоторые любопытные выводы из всего увиденного. Хаос, например, не был результатом покидания этой квартиры – тот, кто в ней жил, исчез внезапно, никак не повлияв при этом на внутреннюю обстановку. Мало того, странный человек среди этого хаоса жил так, как ему хотелось, и, похоже, чувствовал себя при этом хорошо.
Одна из комнат оказалась труднопроходимой – в ней была сосредоточена вся мебель, находившаяся в квартире. Обычно так происходит, когда берутся, скажем, циклевать паркет и полностью опустошают одну из комнат, превращая в баррикады другую. Однако ремонта эта квартира не видела очень давно. В забитой мебелью комнате в двух шкафах доживала свой век изъеденная молью одежда, лежали нетронутые простыни с наволочками и другой подобный текстиль. В другой, почти совсем пустой комнате, определенной как «жилой», в углу беспорядочной кучей было свалено множество книг и несколько журналов. При беглом осмотре участковому удалось условно поделить книги на три категории: немного классической и фантастической литературы, трактаты по философии и религиоведению, а также труды по истории. Журналы в основном были так называемые «толстые». Все это читали и перечитывали, но делали это давно.
В этом же помещении лежал кусок ковра (было ясно, что его бесхитростно и не жалея вырезали из настенного красавца, висевшего в забвении в наполненной мебелью комнате). Коврик был явно предназначен для лежания: очевидно, на нем спал хозяин странной квартиры. Кроме того, особенность этого коврика была такова, что он не просто лежал на полу, но был совершенно определенным образом ориентирован по сторонам света, располагаясь по длине с запада на восток (либо наоборот: изголовье участковый определить не сумел). Коврик, к тому же, лежал не у стены, чтобы, скажем, удобнее было его обходить, но располагался в месте, явно для его владельца единственно возможным – его никуда не двигали несколько лет. Несмотря на то, что среди книг был обнаружен Коран, участковый пришел к выводу, что найденный коврик не является молельным, а квартира не принадлежит последователю газавата. И не только потому, что никакого оружия обнаружено не было: просто рядом со священным текстом мусульман мирно соседствовали Библия, Тора, а также Упанишады и «Дао дэ Цзин» – ни один поборник войны с неверными не позволил бы такого кощунства.
Еще одной особенностью этой квартиры было то, что электричеством в ней попросту не пользовались. Не всегда, конечно, но, начиная с определенного момента, будто вовсе позабыли, что такое телевизор, электрочайник и даже обыкновенные лампочки (все они отсутствовали в патронах). Свечей и иных осветительных приспособлений, к слову, тоже обнаружено не было. Холодильник, в отличие от мебели, стоял на своем месте в кухне, но был пуст, хотя и не совсем: в его теплых сумрачных недрах был обнаружен старый журнал «Октябрь» («Чтобы голодная мышь не покончила жизнь самоубийством», – мысленно усмехнулся участковый). Все электроприборы были выключены из розеток, а у телевизора, стоявшего вместе со всей мебелью, был, к тому же, обрезан шнур.
Водопроводом вкупе с канализацией тоже не пользовались очень давно, причем произошло это еще до того, как странный жилец покинул квартиру насовсем, а самым диким оказалось то, что и унитаз крепко подзабыл о своем предназначении.
Увидев все это, участковый милиционер пришел к странному, на первый взгляд, выводу: тому, кто обитал в этой квартире, такое понятие как «человеческая логика» было чуждо. Складывалось впечатление, что здесь жил нечеловек. Но об этом участковый не сказал ни понятым, ни тетке из управления – им и без того было не по себе. Особенно из-за того, что было обнаружено сразу, как только они вошли в эту квартиру – в прихожей все стены от пола до потолка были исписаны одной и той же фразой: «Я НЕ БОЮСЬ». И сделаны надписи были давно. Часть стен в комнате, примыкавшей к прихожей, тоже была исписана, но здесь была одна особенность – на определенном этапе предыдущая фраза была заменена на несколько измененную, а именно: «СТРАХА НЕТ». Потом непостижимый жилец перестал изо дня в день писать на стенах и эту фразу.
Всем уже было понятно, что у исчезнувшего из квартиры человека «съехала крыша». Но только участковому показалось, будто он понял, почему.
1
Первым страхом детства, который помнил Птиц, была боязнь темноты в тесной кладовой или, как ее называли родители, «тещиной комнате». Вернее, боялся он не темноты, а того, кто в ней таился и так и норовил оттуда появиться, лишь только Птица оставляли одного, уложив спать. Он закутывался в одеяло с головой и с наслаждением боялся, с замиранием сердца и дыхания прислушиваясь к тишине, доносившейся из кладовой.
В «тещиной комнате» на стенах, заклеенных выцветшими обрывками обоев, были развешаны старые пальто и плащи, а на широченных самодельных полках, прилаженных в глухом углу от одной недалекой стены до другой, лежал всякий иной хлам, давно позабытый и никому не нужный. На полу кладовой, занимая добрую треть всего ее объема, стоял древний бабушкин сундук, тщательно ею запираемый. На оставшемся пятачке в разнокалиберных картонных коробках хранились игрушки Птица. И среди этого всего и жил тот, кто имел намерение всякую ночь прокрасться к его постели и наверняка сожрать. Или, по крайней мере, утащить спасительное одеяло. Но почему-то никогда из комнаты не вылезал, отчего, кстати, менее страшно не становилось.
Утром Птиц иногда подходил к снятой с петель еще в период вселения двери, ведущей в «тещину комнату». Солнце в упор било в крошечное ее нутро, разгоняя мрак до еле видных теней, совсем не страшных и даже веселых. Он победно и смело входил в кладовую и принимался, скажем, перебирать свои игрушки, затягиваемый этим занятием на добрых полдня, попутно размышляя, куда могло прятаться ночное чудище. Детский ум услужливо подсовывал единственную правдоподобную версию: страшило сидел в бабушкином сундуке. От этого ёкало сердце, торопливо и сладко взбираясь к самому горлу, но на сундуке висел большой и мрачный замок, обещая никого и никуда без особого на то дозволения – ни в сундук, ни из него – «не пущать». Поэтому бояться было нечего. Правда, становилось непонятно, как тогда чудовище могло вылезти оттуда ночью; поэтому Птиц, добираясь до этой стадии размышлений, неизменно начинал скучать, и, опасаясь, что так, пожалуй, и бояться будет нечего, прекращал дальнейшие изыскания. Когда солнце пряталось либо за тучу, либо за соседний дом, Птиц зажигал лампочку, по-простецки висящую без всякого абажура под потолком над дверным проемом, и она прекрасно заменяла скрывшееся мировое светило.
А ночью, стоило только родителям уложить Птица в постель и уйти вместе с бабушкой смотреть телевизор в соседнюю комнату, страхи возобновлялись, и самой лучшей защитой от них было одеяло.
Изредка Птицу удавалось заглянуть в таинственную обитель зла – сундук, – когда бабушка, не чаще одного раза в месяц, принималась в нем что-то неторопливо перебирать. Она не позволяла ему ничего трогать, и он с благоговением пристраивался в неудобной позе рядом и наблюдал за ритуалом появления из сундука всевозможных вещей. То, что сундук оказывался открытым и, следовательно, из него легко могло выбраться ночное чудище, его никак не волновало, поскольку все страхи меркли перед желанием заглянуть в святая святых – магический сундук. А чудище что? – оно ведь легко могло укрыться на время ревизии сего убежища в каком угодно другом месте, хоть в карманах старого папиного дождевика, угрюмо висевшего тут же и, однако же, нисколько не страшного сейчас, днем, да еще при бабушке.
К внутренней стороне крышки сундука были любовно прилажены при помощи заржавленных кнопок вырезки из невиданных доселе Птицем журналов. На пожелтевших страницах были изображены какие-то невероятные тети с тонюсенькими талиями в пышных платьях, полностью скрывавших ноги. Тети были в шляпах, которые Птиц видел разве только в кино, и еще некоторые из них держали в руках, затянутых длинными перчатками, необыкновенные зонты – такие ажурные, с которыми в дождь совершенно невозможно было бы появиться на улице.
В сундуке лежали старые бабушкины вещи, издавая стойкий запах нафталина. Например, неведомые фильдеперсовые чулки, в которых бабушка, в изредка произносимых речах, среди других называемых вещей завещала «положить себя в гроб». Там же хранилась ее гордость – шуба из черного каракуля, которую несколько лет подряд безуспешно клянчила у нее мама, и которая пришла таки в негодность то ли пожранная молью, то ли еще по каким-то причинам. Это тряпичное барахло Птица не особо интересовало, и он терпеливо ждал, когда оно обнажит заветное дно сундука, где покоилась, словно сокровища пиратов в глубине моря, шкатулка. Она была из темного лакированного дерева, имела внушительные размеры и запиралась на ключ, так же строго хранимый бабушкой. В шкатулке среди каких-то бумаг и писем находились истинные богатства. Ими были: бронзовая увесистая фигурка древнего воина в панцире и кирасе, который опирался на ствол длинного ружья, пробка для бутылок с серебряным навершием в виде бегущего козла, и старые мужские часы на потертом кожаном ремешке. Все это Птицу удавалось увидеть очень редко и в знак особой милости потрогать при бабушке (все, кроме часов), чтобы потом вновь целый месяц дожидаться повторения ритуала. И помнить, что в сундуке в это тихое время обитает ночное чудище.
На более поздний период в детстве Птица приходился эпизод, связанный с другим его страхом, вернее, не страхом, а неким физиологическим неприятием и, что более ценно, попыткой это неприятие преодолеть.
На лето Птиц, как правило, был отправляем с бабушкой в деревню к тетке. Недалеко от деревни проходила железная дорога, на которую местные мальчишки любили бегать для разного рода развлечений. Птиц игр возле железной дороги не терпел, но, поскольку шли все, то оставаться в стороне было не к лицу, и он шел тоже. На рельсы подкладывались гвозди и монеты – это и было главной потехой мелюзги. С трудом выносить подобные мероприятия Птицу мешал не сам факт такого озорства, а нечто совсем другое. Он не выносил громких звуков вообще, а жуткий грохот несущихся товарняков просто вводил его в полуобморочное состояние. Шум этот забирался внутрь него, как чудище в бабушкин сундук, и устраивало там свистопляску. Мир качался, мерк, Птицу казалось, что земля, так же как и он, не могущая терпеть этого звукового надругательства трескается у него под ногами, и вот-вот провалится в какие-то жуткие неведомые тартарары. Проезжавшую мимо зеленую электричку выдержать было много легче – она и двигалась стремительней, и была гораздо короче, и так истово не громыхала. Но вот товарную вереницу глухих заклепанных вагонов, заляпанных цистерн и иных емкостей он терпеть не мог. Бежать смысла не было: во-первых, особо далеко не убежишь, а во-вторых (и это было главным), ребята бы засмеяли. Поэтому Птиц просто крепко зажимал уши ладонями и ждал. Помогало не слишком хорошо, но все-таки было легче. Деревенские пацаны над этим его чудачеством смеялись, но он придумал для них подходящее объяснение: мол, с детства уши болят, потому что когда-то давно рядом с Птицем де выстрелила настоящая пушка. Пушка, конечно, была нагло выдумана, вблизи он ее видел лишь на легендарном крейсере «Аврора», когда был в Ленинграде, а стреляла, по питерскому обыкновению, другая пушка – в Петропавловской крепости, обозначая тем самым не менее обыкновенный полдень. В фантазии Птица пушка стреляла именно на крейсере, а он притаился рядом. Такое объяснение полностью устроило деревенских мальчишек и теперь эта Птицинская странность – зажимать уши ладонями – не казалась им придурью, а, напротив, заставляла его, Птица, уважать, совсем как тех древних красноармейцев, которые «видели Ленина». Уважать-то его уважали, но смеяться не перестали – смеяться не обидно, а так, больше для порядка. Но Птицу обидно было. И даже не то, что смеялись, нет. Ему было обидно за себя. Перед самим собой. Поскольку он-то знал, что никакой героической засады рядом с пушкой не было. К тому же в деревню, куда ездил Птиц, как-то приехала девчонка, старше его на целый год и тоже из столицы. Девчонка оказалась боевая, всюду лазила с мальчишками, и про Птицинскую пушку ей рассказали. Она тогда хмыкнула и ничего больше не сказала, но Птицу показалось, что не поверила она в эту его легенду. Ну, девчонка и девчонка – скажет кто-то, – подумаешь! Но он-то в нее влюбился. Ему-то уже было не все равно – зажимать уши или нет. И стыдно ему теперь было вдвойне. Правда, зазноба его тайная ничем не дала понять, что ему не поверила. Но он тогда заболел. Заболел мыслью, как это свое неприятие шума победить. И не нашел ничего лучше, как выбить клин клином.
Выбрав как-то день, когда никто из деревенских не намерен был отправляться к железной дороге, Птиц тайно ушел туда один. Было там одно место, где рельсы проходили по небольшому мосту, перекинутому через крошечную речку-ручеек. Мост, само собой, был весь железный и когда по нему проходил даже одинокий маневровый тепловоз, слышно было далеко окрест. Мальчишки не любили лазать по этому мосту – даже им было неприятно сидеть под ним, такой там стоял грохот и лязг. Однако сидели, испытывая друг друга в выносливости. В основном это было неким наказанием за проигрыш в каком-либо споре. Было на этом мосту одно подходящее для таких испытаний место. Правда, ребята использовали его крайне редко. Потому что там действительно было страшно.
Место это находилось в само́м железном чреве моста. Протиснуться туда можно было либо с одного конца моста, либо с другого. Небольшой узкий проход тянулся под самыми рельсами, до которых при желании можно было дотянуться рукой. Внизу, на приличном расстоянии, сквозь решетчатый пол этого тоннеля была видна речушка. И повсюду, куда ни ткнись – железо. Вот в это место, в эту жуткую погремушку, он и отправился бороться с неприятием шума.
Пробираясь по насыпи к мосту, он тайно надеялся, что на избранном им самим сеансе преодоления ему достанется безобидная молниеносная электричка. Но, уже устроившись ровно посередине моста в тесном проходе под самыми рельсами, он услышал приближавшийся издалека тяжкий грохот товарного состава. Птиц испугался. Он уже хотел было вернуться, но ему на миг привиделось, как он, жалкий и нелепый, лезет по сотрясаемым недрам моста наружу, протискивается в узкий лаз и… И невероятный стыд овладел им. Птиц решил остаться, и оттого, что он принял решение, ему стало легче. Он сел на уже начавшую вибрировать решетку пола и зажмурился. Он все-таки зажал ладонями уши, не в силах противиться этому желанию и тут на него набросился поезд.
Как сильно он не прижимал ладони к горячим ушам, ничего не помогало. Дикий рев, лязганье, грохот и яростные удары наполнили его доверху, как забытый под водопроводным краном чайник. Он разом пожалел, что затеял это испытание. Ему хотелось бежать без оглядки прочь из этого зловещего места. Он даже инстинктивно поднялся на ноги, еще не разжимая век, и тотчас потерял равновесие. Ему пришлось распахнуть глаза и выставить руки в стороны, обнажив уши, чтобы не упасть. Так он и остался стоять посреди страшного перехода в чреве моста: враскоряку, как обезьяна, упавшая с дерева, не в силах уже ни вновь закрыть глаза, ни зажать уши.
Казалось, что нечеловеческий грохот не стал больше, а картина, увиденная Птицем, хоть и была страшна, но завораживала. По сумрачному стальному проходу метались солнечные блики-просветы. Они совершали мгновенные скачки́ от одного края моста к другому и сейчас же начинали всё заново. Над головой Птица, на темном фоне проносящейся туши товарняка плясали россыпи искр, высекаемые чудовищно близкими жерновами колес, налетавших на рельсовый стык. Жуткий шум, аккомпанирующий всему этому кавардаку, был настолько велик, что Птицу даже показалось, что он вовсе не такой громкий. Он помнил, что число вагонов в товарном составе никак не может быть меньше семидесяти, и поэтому догадывался, что пытка затянется. И он стоял в тесном переходе и заворожено смотрел на стальную мистерию, участником которой стал.
…Когда Птиц вылез из-под моста и, шатаясь, побрел по полю назад к деревне, он был оглушен, но оглушен не тем, чему только что был свидетелем, а тишиной, царившей в мире. Перед ним качалось поле с поднимающимся хлебом, весело разбавленное озорными васильками, которые подмигивали такому же синему небу, где пил это самое небо далекий жаворонок. И в этом мире не было места никаким железным чудовищам, способным убить тишину только тем, что им вздумается начать движение – бессмысленное движение в неведомую даль.
С тех пор Птиц перестал зажимать ладонями уши, если оказывался поблизости проходящего мимо поезда. Однако не оттого, что этот грохот теперь был ему безразличен. Просто ему казалось, что таким образом однажды он может прослушать что-то важное. Например, крик человека, попавшего в беду.
2
Спустя несколько лет он рассказал об этом своем испытании «железом» другу Димычу. Внимательные не по годам глаза Димыча за толстыми стеклами его безобразных очков заинтересованно прищурились.
– Любопытно, – сказал он тогда. – Теперь понятно, как в древности рождались мифы. Тебе это не напоминает битву, скажем, Ильи Муромца со Змеем Горынычем на калиновом мосту?
– Да, действительно, – с улыбкой кивнул Птиц. – Только твой Илья на этот раз чуть не обделался.
Димыч жил через улицу в тесной квартирке со своей бабкой. Отца он не помнил, а мать давно жила отдельно, позабыв не только о сыне, но и о собственной матери. Птиц познакомился с ним в первом классе – нелепый малыш в больших очках был похож на слепого котенка. Поначалу общаться с ним никто не хотел, и Птиц не был исключением. Димыча посадили на первую парту с девочкой и Птиц со своей «камчатки» мог наблюдать за тем, как тот старательно пытается разглядеть то, что было написано на доске. Димыч страдал по мужской компании и хвостом ходил за Птицем и еще двумя ребятами, благо все жили по соседству. Поначалу они на это преследование не обращали никакого внимания, потом стали развлекаться. Они дразнили Димыча, будто бы зовя с собой поиграть, а сами прятались и хохотали до упада, наблюдая из кустов, как жалкий недомерок в очках безуспешно пытается их найти. Это веселило Птица недолго, до тех пор, пока он не обратил внимания на то, как Димыч переходит довольно оживленную улицу по пути в школу и обратно. Шел он, как и все, не до перекрестка, где стоял светофор, и была намалевана заезженная «зебра», а наискосок – так было, конечно, быстрей и удобней, но и грозило опасностью оказаться под колесами резво проезжавшего мимо автотранспорта. Весь первый класс многих ребят встречали-провожали мамы-папы. Даже Птица поначалу тоже водили в школу за ручку, но через месяц он начал делать это сам, поскольку у его родителей по утрам и так не хватало времени. Единственным, кто с самого начала ходил в школу один, был Димыч: бабке было трудно таскаться туда-сюда, поэтому он самостоятельно преодолевал весь путь от дома до школы и обратно. Иногда его переводил через дорогу кто-либо из родителей, опекавший своего отпрыска, но чаще Димыч сам пересекал опасный участок, делая это самым бесхитростным образом. Он намечал своим далеко небезупречным зрением две точки в пространстве и медленно шел от одной к другой, не обращая никакого внимания на то, что делалось по сторонам. А по сторонам водители, не привыкшие пропускать пешеходов даже на «зебре», с недоумением и досадой объезжали малыша-очкарика с портфелем, невозмутимо шедшего наперерез любой легковушке или автобусу. Изо дня в день наблюдая преодоление этого несгибаемого маршрута, Птиц как-то стал свидетелем того, как какой-то зазевавшийся погонщик самосвала с жутким скрежетом остановил своего железного коня, едва не раскрошив череп Димыча бампером. Когда вой покрышек растворился в огненной листве деревьев, а на асфальте остались чернеть две жирные полосы, Димыч замер, втянув голову в плечи. Затем повернулся к распахнувшейся дверце грузовика, нашарил близоруким взглядом бледное пятно лица водителя, так и не сумевшего вспомнить ни одного не то что человеческого, но даже матерного слова, поправил на носу очки и так же медленно двинулся дальше. Птиц в тот же день, отстав от своих приятелей, привычно улепетывающих от несчастного очкарика, дождался Димыча, перевел через дорогу, и с тех пор они уже не расставались. Вытеснив девочку, Птиц занял место на первой парте рядом с ним. Учительница для порядка пыталась поначалу их рассадить, но, видя, с каким упорством они вновь садятся рядом – то на последней парте, то на первой – уступила.
Сидеть с Димычем для Птица оказалось выгодно. Нелепый очкарик все схватывал на лету, не только успевая по всем предметам сразу, но даже здорово опережая всех, давно проторив дорожки во все доступные библиотеки. Птиц же предпочитал на уроках считать ворон, рисовать забавные рожи на задворках тетрадей и сочинять стихи, поэтому Димыч учился за двоих. На золотую медаль он не тянул только потому, что умудрился обратить против себя почти всех учителей в школе – всюду он замечал за ними ошибки и не боялся высказываться по любому поводу.
Преподавателю алгебры и геометрии, бездарной Зинаиде Петровне, Димыч никогда ничего не высказывал по одной лишь причине – любой конфликт выбивал ту из накатанной колеи, она начинала путать все на свете, и ее и без того чудовищное преподавание материала становилось абсолютно недоступным даже хорошистам. Химичку – косолапую бабищу с невероятной грудью, легко применявшей на своих уроках рукоприкладство и плохо отредактированный мат, – он бесил своей близорукостью, помощью Птицу на контрольных, а также тем, что решался предлагать иные решения задач, нежели уже были явлены классу ею самой. За что и слетал нередко с невысокой кафедры в шкаф с ретортами. Преподаватель истории, плакатная еврейка Сара Моисеевна его вообще не выносила – Димыч спорил с ней чуть ли не на каждом уроке по поводу всего.
Он утверждал: древляне вовсе не отличались от полян дикостью нравов оттого, что жили в лесах в непосредственной близости от зверей. Сара Моисеевна, борясь с желанием сорваться на крик, ссылалась на Карамзина, на что Димыч парировал, что Карамзин пользовался источниками древнего летописца, который, очевидно, сам был полянского племени, а потому объективностью не отличался…
…Нет, Димыч не верил в то, что древние славяне были варварами, которым греки поднесли на блюде свою культуру вместе с христианством. Религия славян оказывалась вовсе не так плоха, а сами славяне были простыми добрыми людьми в отличие от надменных эллинов, к тому времени знавших толк не только в государственном структурировании и искусстве, но также в гомосексуализме и пьяных оргиях…
…О нет, Сара Моисеевна, Куликовская битва, преподносимая нам как переломный момент в истории противостояния татаро-монгольскому игу, вовсе не была таковой. Мало того, Русь в те времена активно сотрудничала с Золотой Ордой, а Мамай был обыкновенным самозванцем, свалив которого, Дмитрий Донской оказал услугу тогдашнему правителю Монгольской империи хану Тохтамышу, с которым Русь успешно сотрудничала, а вовсе не воевала…
Выдержать это действительно было трудно: к тому времени (седьмой класс) Димыч уже был знаком с трудами Карамзина, Грановского, Соловьева, Ключевского и еще бог знает кого. Преподавателей это приводило не в священный трепет, но в тихий ужас: мальчик разбирался в таких вещах, для которых стены средней школы оказывались тесноваты, подобно ползункам, натягиваемым на половозрелого отрока. Бессчетное число раз Димыч за свой язык оказывался не только в коридоре, но и в кабинете директора, который, к счастью, симпатизировал несносному очкарику (директору посчастливилось избежать опыта преподавания чего-либо юному дарованию).
Тем временем зрение Димыча, и без того ужасное, ухудшалось. Его даже хотели перевести в специализированную школу, но передумали – осталось учиться не так много.
Птиц же был далек от всех этих сложностей – он наслаждался жизнью без вникания в механизмы таковой, ничуть не задумываясь о будущем. Он влюблялся в девчонок, писал стихи, и читал всем подряд: тем же девчонкам, приятелям и, конечно, Димычу.
В Иваново едут по разным причинам:
Во-первых здесь есть первоклассные ситцы,
Еще, во-вторых, неженатым мужчинам
Здесь можно невесту найти. И жениться.
Ведь очень неплохо, подумайте сами:
Во-первых, с товаром домой возвратиться,
А также (конечно же, к радости маме)
Приехать с красивой женой-мастерицей.
И кто его знает: а может ведь статься
Совсем в этом городе взять да остаться…
Правда, Димыч только поначалу позволял ему декламацию своих произведений, а с некоторого времени просто требовал бумажку, на которой они были записаны, чтобы тут же погрузиться в них своим носом, оседланным очками. Как-то Птиц возмущенно спросил:
– Почему ты не хочешь, чтобы я сам прочитал тебе свои стихи?
– Потому что редкий поэт умеет читать собственные вирши.
– Это еще почему? – удивился Птиц. – Кому как не поэту это уметь – ведь он их и написал!
– Ошибаешься. То, что поэт декламирует, написано кем-то другим.
– Бредишь, что ли? – спросил ошарашенный Птиц.
– Это ты бредишь, когда берешься читать стихи. Когда ты пишешь, а тем более хорошие стихи, ты находишься в особом состоянии, порой даже не замечая этого. Ты не адекватен этому миру. Ты словно приемник, настроенный на неведомую волну и просто фиксируешь на бумаге то, что еще мгновение назад не имело словесного эквивалента. Поэт не пишет стихи! Что-то пишет поэтом. А когда он начинает исторгать их собственной глоткой, заглядывая в бумажку, или даже делая это по памяти, то берется уже не за свое дело, так как в этом случае стихи читает то, что и составляет его как человека, то есть компот из эгоизма – самовлюбленность, тщеславие, гордыня. Лишь очень немногие поэты умеют декламировать то, что некогда записали. Например, Владимир Семенович и Булат Шалвович. А вот тебе, дорогой друг, делать это ни к чему. Записал – и дай прочитать другому. Так лучше, поверь.
– Но ты-то откуда про это знаешь? – усмехнувшись, спросил Птиц. – Ведь ты стихов не пишешь.
– Не пишу, – кивнул Димыч, стараясь разглядеть сквозь чудовищные линзы друга. – Но я же почти слепой, поэтому у меня хороший слух.
– Ну и что?
– Слышал где-то, – лукаво улыбнулся Димыч. Он слепо прищурился за стеклами своих линз и добавил, глядя куда-то в неведомое: – Знаешь, шаманы во время камлания, общаясь с духами, разговаривали особым ритмичным речитативом. У таких народов не знали, что такое поэт, потому что им был шаман. А многие мистики отлично знали и без этого, что поэт сродни шаману, так как умеет слышать то, что другим недоступно. И не только слышать, но и рассказать об этом стихами. Поэзия это литература, поверенная математикой, искусство, возведенное в степень магии! Волшебные заклинания из сказок – это и есть стихи. Впрочем, стихи стихам рознь… Некоторые мудрецы были уверены, что если бы поэты не занимались такой ерундой, как жонглирование словами, то вполне могли бы стать адептами высшего знания, как даосские мудрецы или буддийские монахи. В суфизме так вообще поэзия была неотделима от высшего знания – у них понятия «поэт» и «мудрец» просто не разделяли.
Димыч рассмеялся и едко добавил:
– Так что ты, выходит, недоделанный шаман.
– Что же они, эти твои шаманы, мрут как мухи? – спросил Птиц. – Один стреляется, другой в водке топится, третий из окна выбрасывается?
– На самом деле мрут они не чаще, чем другие люди. Просто поэты – особенно известные – на виду. Такие люди в своей жизни подходят к особой черте, своеобразной точке невозвращения или «принятия решения», как говорят пилоты, где они вынуждены выбирать, идти ли им дальше, или поворачивать оглобли. Никто, конечно, им об этой точке не говорит, они просто интуитивно ее чувствуют. Поэта, повернувшего оглобли, сразу видно: в своем творчестве, если это еще можно так назвать, он как бы стоит на месте, не двигается вперед. А другие из тех же, кто тоже дальше не пошли, и поняв, что жить как прежде они уже не просто не могут, но и не умеют, не находят иного выхода, как шагнуть из окна. Но тот человек, кто оставил эту точку невозвращения позади, дальше уже не просто идет, но летит. Правда, и стихов чаще всего больше не пишет. Он уже не поэт, а шаман. Настоящий шаман.
Димыч немного помолчал.
– Так что со стихами нужно быть аккуратнее. А то можно достучаться до приемной Самого́… Мда.
Он вздохнул, посмотрел на Птица и ехидно произнес:
– Но тебе это не грозит. Так что можешь расслабиться.
3
Чудище из домашней кладовой Птица давно уступило место другим страхам, более серьезным, бабушкин сундук для которых оказался бы тесен, а защита в виде одеяла смешна. Сам сундук, как и большая часть его содержимого, после смерти бабушки сгинул на помойке и все, что от него осталось, была шкатулка, выпотрошенная полностью, а былые сокровища, давно перестав быть таковыми, заняли дежурное место под стеклом на одной из книжных полок.
С детства для Птица самыми страшными людьми были зубные врачи. С взрослением этот страх не уменьшился, и зубоврачебное кресло оставалось для него сродни электрическому стулу. Неудивительно, что с зубами у Птица дела обстояли далеко не белоснежно-ослепительно. Каждая очередная дыра в зубе, обнаруживаемая при помощи языка или неприятные ощущения во время, скажем, чаепития, тут же портили жизнь, немедленно превращая весь белый свет в нестерпимо бьющую в рот лампу над вышеозначенным креслом. Птиц всегда терпел до последнего, но в ненавистный кабинет все-таки шел, считая это самым большим испытанием.
Будучи жутко мнительным, Птиц любые страшные болезни непременно примерял на себя, словно француз под Москвой армяк заколотого мужика-партизана, тревожно сравнивая симптомы с собственными ощущениями. На первом месте по внушаемому ужасу у него стоял рак – с тех пор, как Птицу довелось пару раз посетить вместе с мамой ее двоюродную сестру, проходившую очередное облучение в тогда еще свежевыстроенном онкологическом центре на Каширке. Птиц тогда на всю жизнь насмотрелся на полупрозрачных, как ему казалось, людей, без единого волоска на голове, помеченных кто где особыми крестиками для точности облучения. После этого ни одно кино не могло напугать его сильнее. Он замирал от страха, представляя, как обнаруживает у себя в теле какое-нибудь уплотнение-опухоль, не понимая, как это она может быть, скажем, «доброкачественной», и тут же последующие картины начинали тесниться у него в голове: хмурый врач, обреченно кивающий головой, рвота от «химии», клоки волос на расческе и непременное «сколько мне осталось?» Птиц жадно ловил любое упоминание об очередном чудо-лекарстве, способном, как утверждалось, излечить от смертельной напасти и тайно записывал непонятные названия на клочках бумаги, которые неизбежно терял.
Как-то, уже в призывном возрасте, когда Птиц уже должен был идти отдавать священный долг родине, ему действительно стало нездоровиться. Он и так был не слишком упитан, а тут совсем исхудал и вдобавок стал мерзко покашливать. Будучи начеку, Птиц выявил некоторые другие симптомы и пришел к выводу, что занедужил туберкулезом. Врач, к которому он обратился, полностью подтвердил его диагноз.
Птиц пребывал в шоке неделю, вместо казарм отправившись в больничную палату. Димыч, которому он позвонил, не без ехидства поздравил его с грамотно поставленным диагнозом, сказал, что если бы Птица угораздило пойти учиться в медицинский, он нашел бы у себя еще и не то, и на прощание «успокоил», сказав, что «так удачно еще никому не удавалось откосить от службы». Птиц, конечно, был раздосадован на Димыча, однако понимал, что тот прав.
Птиц начал помногу есть, до некоторых пор нисколько не прибавляя в весе, привык пить непереносимое поначалу козье молоко и научился различать на собственных рентгеновских снимках предательские пятна туберкулом, с содроганием гадая, не увеличились ли их размеры. В санаториях он общался с себе подобными, в кругу которых кто в шутку, а кто и всерьез причислял себя к особой касте избранных, отмеченных таковым элитным недугом, в списках почетных членов которой непременно стояли известные люди во главе с Антоном Павловичем Чеховым, а также персонажи некоторых классических литературных произведений.
Птиц стал спокойнее относиться к вероятности заболеть чем-либо и даже его страх перед раком несколько притупился, когда судьба нанесла ему еще один удар с неожиданной стороны: у мамы был обнаружен рак правой молочной железы.
Когда он пришел к ней в уже знакомый и прозванный им «бухенвальдом» корпус онкологического центра, то на всю жизнь запомнил, как мама, увидев его, неловко и стыдливо закрыла руками свое отнятое естество под опавшим халатиком. Он прижимал к себе ее маленькое вздрагивающее тело и никак не мог понять теперешнего своего отношения к раку, этому проклятому чудовищу, отнимавшего у него родного человека. Он по-прежнему боялся его, но вместе с тем что-то еще поднималось из недр его души, заставляя сжимать кулаки.
Птиц стал чаще забегать к Димычу. Он сидел в его крохотной кухне, пил крепкий чай, давая читать свои, ставшие меланхоличными стихи и боялся идти домой (где-то он вычитал, что раковые больные излучают особые энергетические токи, небезопасные для здоровых людей). Несмотря на операцию и «химию», обширные метастазы сожгли маму за год с небольшим, и все знакомые сердобольцы хором твердили, что ей прямо-таки повезло – иные, дескать, мучаются гораздо дольше. А Птиц ненавидел себя за трусость, из-за которой в последние месяцы все реже подходил к постели слегшей окончательно мамы. Только когда он невероятным образом почувствовал, что она уходит, он подошел к ней, уже несколько дней не приходившей в сознание и, взяв холодеющую руку, прошептал: «Прости, мама».
Но себе простить так и не смог.
4
Наступила эпоха очередных переходов от худшего к неизведанному: Советская Империя приказала идти в светлое будущее без нее и по языческой традиции забрала с собой в небытие почти все запасы какой ни есть провизии. Посиделки у Димыча не стали реже – теперь за все еще крепким чаем они обсуждали лихорадку в стране, которая, подобно амебе, принялась размножаться делением. Димыч к этому времени успел устроиться на так называемый «слепой завод», по иронии судьбы находившийся не так далеко от его дома – там трудились люди с частичной или полной потерей зрения, и где выпускались нехитрые, но необходимые во всяком хозяйстве электротехнические штуковины: выключатели, розетки и все в том же духе. Благодаря тому, что завод имел регулярные правительственные заказы, предприятие сумело выжить в хищном рыночном зоосаде, поэтому деньги у Димыча с бабкой были. К тому же бабка как военный пенсионер(!), почетный партизан и герой всевозможных починов получала пенсию чуть выше, чем у всех остальных стариков бывшего Союза, из-за чего денег хватало не только на крепкий чай. Еще Димыч раздобыл где-то старую пишущую машинку, объясняя это тем, что начал «подрабатывать машинисткой». Птиц поверил в это лишь когда застал Димыча за работой врасплох: тот не услышал звонка, и дверь открыла бабка. Птиц остановился столбом на пороге комнаты друга: Димыч сидел за столом и с невероятной ловкостью тарахтел всеми десятью пальцами, совершенно не глядя на клавиши и упершись носом в какие-то листки, укрепленные в специальном держателе прямо перед его очками.
– Ну, ты даешь! – восхитился тем же вечером за чаем Птиц. – А стихи мои перепечатаешь?
– Тащи, – пожал плечами Димыч, таращась сквозь него без своих привычных линз (во время чаепития он всегда снимал очки, потому что стекла запотевали). – Только это у тебя еще не стихи.
– А что? – готовясь обидеться, спросил Птиц.
– Стихосложение, – невозмутимо ответил Димыч, прихлебывая настой. – А чтобы ты стал поэтом, а не специалистом по стихосложению, тебе еще пострадать нужно.
– Пострадать? – отставил чашку Птиц, но с обидой пока решил повременить. – Я что, по-твоему, страдал мало?
– Ты вообще не страдал.
– Да ты что, серьезно, что ли?
– Как никогда. Все это время за тебя страдал кто-то другой. В основном мама. И когда ты чахотку свою подхватил, и когда она сама слегла. А тебя пока только холили и лелеяли.
– Да ты чего, Димыч?! С дуба рухнул, что ли? – растерявшись, лепетал Птиц. – И что же мне, в переход идти, как иные с дудками-гитарками, причитать «ударьте Христа ради», что ли? А?..
– Не надо никуда идти. За тобой, когда надо будет, сами придут.
Птиц молчал, позабыв и про чай и про обиду, и слушал. Димыч продолжал пыхтеть в свою чашку, попутно излагая:
– Придут и мордой об стол ударят. Так, чтобы, глядя в зеркало, себя не узнал. Чтобы перестал о себе думать и себя жалеть. Вот тогда из тебя поэт, может быть, и получиться. Так что сиди пока и чай пей. Остынет. Поэт…