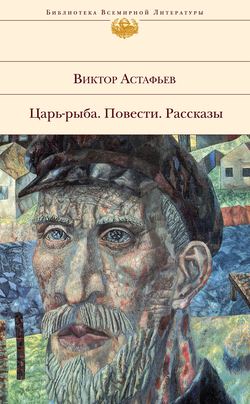Читать книгу Ода русскому огороду - Виктор Астафьев - Страница 1
Виктор Петрович Астафьев
Ода русскому огороду
ОглавлениеПамять моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встречь, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.
И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплющенная, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне.
Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов и где-то за полночь начинаю с ужасом понимать: это уже не та война, от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало и равнодушно жду последней вспышки – вот сверкнет бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой, оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого моим разумом мирозданья. И вижу ведь, явственно вижу искорку ту, ощущаю ее полет. Оттого вижу, что был уже песчинкой в огромной буре, кружился, летал где-то между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом или волей судьбы не унесло меня в небытие, а сбросило на изнуренную землю.
Сколько раз погибал я в мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал. На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах; шумливая березовая роща; тихий кедрач на мшиной горе; вспененная потоком река; коромысло радуги над нею; остров, обметанный зеленым мохом тальника; степенный деревенский огород возле крестьянского двора.
И лица, лица…
Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и любить, и, уже снисходительный к ним и к себе, не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле. С годами я научился утешать и обманывать себя – воспоминания об этих встречах сладостней и чище самих встреч…
Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси – слышишь? – воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Ну хочешь, я, безбожник, именем Господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика – и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами.
Мне говорили: этакая надсада не пройдет даром! Буду я болен и от нервного перенапряжения не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне, эти сколько-то лет, без моего мальчика? И кто их считал, годы, нам положенные?
Озари же, память, мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе – учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы.
Первый в жизни шрам.
Сколько потом их будет на теле и в душе?
…Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепенулось, отозвалось на едва ощутимый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовой оборваться, под куполом небес, притушив дыхание, идет ко мне, озаренный солнцем, деревенский мальчик.
Я тороплюсь навстречу ему, бегу с одышкой, переваливаюсь неуклюже, будто линялый гусь по тундре, бухаю обнажившимися костями по замшелой мерзлоте. Спешу, спешу, минуя кроволития и войны; цехи с клокочущим металлом; умников, сотворивших ад на земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо житейских дрязг; мимо газовых факелов и мазутных рек; мимо вольт и тонн; мимо экспрессов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов…
Сквозь все это, сквозь! Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату – ответную любовь.
Много ходившие больные ноги дрогнули, кожей ощутив не тундровую стынь, а живое тепло огородной борозды, коснувшись мягкой плоти трудовой земли, почуяли ее токи, вот уже чистая роса врачует ссадины.
Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек, в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто…»
…Беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженого, конопатого, – неужто он был мною, а я им?!
* * *
Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и завалинкой над подмытым крутоярьем, заросшим шептун-травой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей. К правой скуле дома примыкал городьбою огород, косо и шатко идущей вдоль лога, в вешневодье залитого до увалов дикой водою, оставлявшей после отката пластушины льда и свежие водомоины – земельные раны, которые тут же начинало затягивать зеленой кожицей плесени. По чуть приметной ложбине вода иными веснами проникала под жерди заднего прясла, разливалась под самой уж горой, заполняла яму, из которой когда-то брали землю на хозяйственную надобность. В яме-бочажине, если год бывал незасушливый, вода кисла до заморозков, лед на ней получался комковатый, провально-черный, на него боязно было ступать. В бочажине застревали щурята, похожие на складной ножик, и гальяны, проспавшие отходную водотечь. Щурята быстро управлялись с гальянами, самих щурят ребятишки выдергивали волосяной петлей, либо коршунье и вороны хватали, когда они опрокидывались от удушья кверху брюхом – в яму сваливали всякий хлам.
Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала вдоль и поперек зеленой чумой, и только лягухи, серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. Иной раз прилетал с реки чистоплотный куличок. «Как вы тут живете? – возмущался. – Тина, вонь, запущенность». Трясогузки сидят, сидят да как взовьются, да боем на гостя, затрепыхаются, заперевертываются, что скомканные бумажки, и раз! – опять на коряжину либо на камень синичкой опадут, хвостиком покачивают, комара караулят, повезет, так и муху цапнут.
С гор наползали, цепляясь за колья огорода, лезли на жердь нити повилики, дедушкиных кудрей и хмеля. Возле бочажины незабудки случались, розовые каменные лютики и, конечно, осока-резун. Как без нее обойдешься?! Средь лета огородную кулижку окропляло солнечно-сверкающим курослепом, сурепкой, голоухими ромашками, сиреневым букашником, а под них, под откровенно сияющие цветы и пахучие травки лез, прятался вшивый лук, золотушная трава, несъедобная колючка. Кулижку не косили, привязывали на ней коня, и он лениво пощипывал на верхосытку зеленую мелочь, но чаще стоял просто так, задумчиво глазея в заречные дали, или спал стоя.
Ни кулижку, ни огородные межи плугом не теснили – хватало пространства всем, хотя и прижали горы бечевкой вытянувшуюся деревушку к самой реке.
Левого прясла у огорода не было – семья мальчика придерживалась правила: «Не живи с сусеками, а живи с соседями» – и от дома и усадьбы, рядом стоящих, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа тут была так широка, так заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой прочей дурниной, что никакого заграждения и не требовалось. В глухомани межи, вспененной середь лета малиново кипящим кипреем и мясистыми бодяками, доступно пролезать собакам, курам, мышам да змейкам. Случалось, мальчик искал в меже закатившийся мячик или блудную цыпушку – так после хоть облизывай его – весь в кипрейном меду. Густо гудели шершни в межах, вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из обгорелых пленок слепленные. В них копошилось что-то, издавая шорохи и зудящий звон. Непобедимое мальчишеское любопытство заставило как-то ткнуть удилищем в это загадочное дыроватое сооружение. Что из того получилось – лучше и не вспоминать…
Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, точно старая лошаденка из худой упряжи, и только заросли плотного бурьяна, подпершие баню со всех сторон, казалось, не давали ей укатиться под уклон. Зато воду на мытье и поливку таскать было близко, зато лес рядом, земляника, клубника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой.
На хорошем, пусть и диковатом приволье располагалось родное подворье мальчика, и небогато, но уверенно жилось в нем большой, разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый, размашистый, на дело и потеху гораздый.
Из бани, чтобы попасть во двор, надо пересечь весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щекочущих кистей морковки, с твердо тыкающихся бобов – отовсюду сыпалась роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистая жалица-летунья зудливо стрекалась.
Но какая это боль и горе после того, что перенес мальчик в бане?!
Из ноздрей, из горла выдыхивалась угарная ядовитость, звон в ушах утихал, не резал их пронзительной пилой, просветляясь, отчетливей видели глаза, и весь мир являлся ему новосотворенным. Мальчику все еще казалось, что за изгородью, скрепленной кольями, нет никакого населения, никакой земли – все сущее вместилось в темный квадрат огорода. Леса, горы по-за логом и задним пряслом, примыкающим к увалу, там все равно что в телефоне, висящем в сплавной конторе, – все скрыто: говорит телефон, а никого нету! Вот и постигни!
Нет, за огородом еще огороды, дворы с утихшей скотиной, дома, роняющие тусклый свет в реку, люди, неторопливые, умиротворенные субботней баней. И в то же время ничего нету. Совсем бы потерялся мальчик в ночном подзвездном мире и забыл бы себя и все на свете, да вон в молочном от пара банном окне мутнеет огонек, выхватывая горсть пырея на завалинке. Громко разговаривает в бане, стегая себя веником, повизгивает истомно женский род. Там, в бане, две родные тетки, замужние, еще три девки соседские затесались туда же. У соседей есть своя баня, но девки-хитрованки под видом – ближе, мол, воду таскать, сбиваются в крайнюю баню. «Молодые халды! Кровя в их пышут!» – заключает бабка. Да уж пышут так пышут! И двойной, если не тройной умысел у девок, набившихся в баню вместе с замужними бабами: выведать секретности про семейную жизнь, надуреться всласть и еще каких-никаких развлечений дождаться.
Клуб им тут, окаянным!
Пять человек в бане было, да еще он, мальчик, шестой путался под ногами и стеснял чем-то девок. Ну они его быстренько сбыли, чтобы остаться в банной тайности одним, ждать, не заглянут ли парни в банное оконце – таким манером парни намечают предмет будущего знакомства в натуральном виде.
Стекло от пара мутное. Надо его рукавом вытереть либо подолом рубахи. Навалятся парни друг на дружку, чего увидят – не увидят, но дыхание в груди сопрет, затмение в глазах, гул в голове колокольный, от азарта, от слепости выдавят стекло! Грех и беда! Парни окно нарушат, девкам же быть родителями срамленными, в которой семье построже, так и за волосья трепанными. Но сторожки и чутливы девки, ох чутливы! Улавливают алчно горящий взор еще до приближения к окошку и, обмерев поначалу от знобящей, запретной волнительности, разом взвизгивают, давя друг дружку, валятся с полка, задувают лампу, во тьме, одурев окончательно, плещут из ковша в окно и никак не могут попасть кипятком в оконный проруб – как бы, упаси боже, и в самом деле не ожечь глаз, что подсекает девичье сердце на лету.
Голова и размягчившееся тело мальчика остывают, укрепляются. Увядшее от жары сознание начинает править на свою дорогу; шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердечко, птичкой бившееся в клетке груди, складывает крылья, опадает в нутро, будто в гнездышко, мягко выстеленное пером и соломками.
Банная возня, вопли, буйство и страх начинают казаться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия.
Губы меж тем сосали воздух, будто сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его наполнялось душистою прохладой, настоянной на всех запахах, кружащих над огородом, будто над глубокой воронкой: растущей овощи, цветочной пыли, влажной земли, окропленной семенами трав и острой струйкой сквозящего из бурьянов медового аромата.
Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий рев – дерануло из бани чадо, которому отскабливали ногтями цыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь – и горестный голос беглеца одиноко и безответно затерялся в глухотеми. Суббота! Вопят и стонут по деревенским баням терзаемые дети. Добудут они, сердечные, сегодня столько колотушек, сколько за всю неделю не сойдется.
Мальчик обрадованно поддернул штаны – у него-то уж все позади! Ковырнул из гряды лакомую овощь: «Девица в темнице – коса на улице». Мала еще «девица»-то, и рвать ее не велено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму.
Такое наслаждение!
А ведь совсем недавно, какие-нибудь минуты назад, подходил конец свету. Взят он был в такой оборот, ну ни дыхнуть тебе, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает, другая шайку водой наполняет, девки-халды толстоляхие одежонку с него срывают, в шайку макают и долбят окаменелым обмылком куда попало. Еще и штаны до конца не сняты, еще и с духом человек не собрался, но уж началося, успевай поворачивайся и, главное дело – крепко-накрепко зажмуривай глаза. Да как он ни зажмуривался, мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб, потому что мыло варят из вонючей требухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного – сказывали, в мыловарный котел купорос кладут, собак бросают и даже будто бы ребенков мертвых…
Вырываясь из крепких сердитых рук, ослепший, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже дальше; пробовал бежать, но запнулся за шайку, упал, ушибся. Ругаясь, чиркая черствыми сосцами грудей по носу, по щекам, по губам, тетки вертели, бросали друг дружке мальчика и скребли, скребли, так больно скребли! Отплевываясь от грудей еще брезгливей, чем от мыла, сторонясь и везде натыкаясь все же на них – от женщин в бане куда теснее, чем от мужчин! – уже сломленно и покинуто завывал мальчик, ожидая конца казни. В заключение его на приступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка загадку складную сказывала: «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в щелкунец. Всех перебил и царю не спустил!» Царю! А он что? Хлещите…
В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко вечерней мерцающей звездой возник огонек лампешки. Старшая тетка обдала надоедного племяша с головы до ног дряблой водой, пахнущей березовым листом, приговаривая как положено: «С гуся вода, с лебедя вода, с малого сиротки худоба…» И от присказки у самой обмякла душа, и она, черпая ладонью из старой, сожженной по краям кадки, еще и холодяночкой освежила лицо малому, промыла глаза, примирительно воркуя: «Вот и все! Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и унесут тебя в лес, такого чистого да пригожего». Мальчик успел лизнуть мокрую ладонь тетки, смочил спекшийся рот.
Нутро бани смутно обозначалось. Литые тела девок на ослизлом полке, бывшие как бы в куче, разделились, и не только груди, но и косматые головы у них обнаружились под закоптелым потолком. Мальчик погрозил им кулаком: «У-у, блядишшы!»
Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и принялись громко лупцевать друг дружку вениками, бороться схватились, упали с полка, чуть лампу не погасили. На деревне поговаривали, что девки любят прятаться в теплых банях с парнями, а соперницы подпирают бани кольями, учиняют посрамленье, на крик сбегаются матери и принародно таскают девок за волосья, те зарезанно вопят: «Мамонька родимая, бес попутал! Разуменье мое слабое затмил…»
Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и забытый всеми, хлюпая носом, мальчик отыскивал в глухом углу возле каменки свою одежонку. Свет все еще дробился в его глазах, и девки на полке то подскакивали, то снова водворялись на место, а мальчику так было жалко себя, так жалко, что он махнул рукой на девок, не злился уж на них, сил не было не только на зло, но и рубаху натянуть.
Соседская девка, к которой в открытую ходил жених, отведавшая сладкого греха, но еще не познавшая бабьих забот и печалей, главная потешница в бане была, она-то и вытащила из угла мальчика, тренькнула пальцем по гороховым стручком торчащему его петушку и удивленно вопросила: «А чтой-то, девки, у него туто-ка? Какой такой занятный предмет?» Мгновенно переключаясь с горя на веселье, заранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: «Та-ба-чо-ок!»
«Табачо-о-ок?! – продолжала представленье соседская девка. – А мы его, полоротыя, и не заметили! Дал бы понюхать табачку-то?»
Окончательно забыв про нанесенные ему обиды, изо всех сил сдерживая напополам его раскалывающий смех, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животишко.
Девки щекотно тыкались мокрыми носами в низ его живота и разражались таким чихом, что уж невозможно стало дальше терпеть, и, уронив в бессилии руки, мальчик заливался, стонал от щекотки и смеха, а девки все чихали, чихали и сраженно трясли головами: «Вот так табачок, ястри его! Крепче дедова!» Однако и про дело не забывали, под хохот и шуточки девки незаметно всунули мальчика в штаны, в рубаху и последним, как бы завершающим все дела хлопком по заду вышибли его в предбанник.
Такая тишина, такая благость вокруг, что не может мальчик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы.
Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские обиды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние вечера сольются и останутся в памяти дивными видениями.
…На твердых, круто согнутых коленях деда сидит человечек. Дед обломком ножа скоблит располовиненную брюкву и коричневым от табака пальцем спихивает с поцарапанного бруском лезвия истекающую соком мякоть в жадно распахнутый зев. Пошевелит языком малый, сделает вдох – и лакомство живым током прошибает его вздрагивающее чрево, растекается прохладно по жилам. «Вот дак варнак! Вот дак варначина! Не жевавши мякает!» – сокрушается дед и, кося на малого ореховым глазом, убыстряет работу, чтобы и самому полакомиться брюквенной скоблянкой. Но внук никакого роздыху не дает ему и без устали держит разинутым ловкий рот. Если дед все же вознамерится понести к своим усам ножик с лакомством, малый, клюнув ртом, схватывает с ножа крошево и по-кошачьи облизывается. «Обрежешься!» – стукает его по лбу черенком ножа дед и с удивлением обнаруживает: одна лишь видимость от овощи осталась, обе половинки брюквы превратились в черепушки. Дед нахлобучивает на голову внука половинку брюквы, спихивает его с колен и отправляется в огород, что-то ворча под нос и сокрушенно качая головой.
Посидев на нагретых за день плахах крыльца, мальчик сбрасывает с головы брюквенную камилавку, и куры со всех сторон кидаются доклевывать черепушку. Мальчик опрокидывает водопойное корыто, взбирается на него и, вытянув шею, глядит со двора через частокол в густо заросшее пространство огорода.
Раздвигая развесистые седые листья, дед ходит согнувшись между гряд, отыскивает брюкву покруглей, без трещин и зеленой залысины. «Де-е-е-еда-а-а!» – кричит мальчик, давая понять, что он его видит и ждет. Дед, погрозив внуку перстом, уцеливает наконец брюкву, вытаскивает ее за хрупнувшие космы из рыхлой земли и, ударив ею об ногу, поднимает вверх и осматривает белорылую, с грязной бородой овощь: нет ли червоточины и других каких изъянов. Мальчик нетерпеливо перебирает ногами: «Скорее, деда, скорее!»
Дед ровно бы его и не слышит, бредет по сомкнувшейся борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны, остается вспененный след, словно за кораблем, медленно растворяющийся вдали, – листья, ботва, метелки трав с недовольным шорохом выпрямляются, восстают, занимая свое постоянное место на земле.
И снова дед садит внука на твердые, заплатами прикрытые колени, скоблит брюкву, ворчит, стукает малого черенком по лбу, пока насытившийся, ублаженный пузан не зашевелит ртом заторможенно, лениво, и глаза его не начнут склеиваться, и маленькое тельце, что слабая былка, отягощенная росой, приникнет к выпуклой груди деда и в теплом ее заветрии распустится доверчиво и защищенно.
И тогда совсем осторожно, совсем почти неслышно дед скоблит ножиком брюкву – он сладкоежка, дед-то, и шевелит беззубым ртом, двигает крутыми челюстями, озираясь – не видит ли кто, как он впал в детство, и для маскировки ворчит в бороду: «Ат ведь варначина! Ат ведь неслух! Умаялся!» – и пытается есть и петь одновременно, покачивая на коленях внука: «Трынды-брынды в огороде, при честном при всем народе…» Но тут же стопорит с песней – дальше в ней слова не для внука. Вот уж подрастет, ума накопит внучек, глядишь, до чего самоуком дойдет, чего от старших нахватается, а пока шабаш, пока мри, дед, не дай Бог, сама услышит!
Мальчик не может понять, спит он или еще не спит. Ему хорошо, уютно на коленях, под щекочущей бородой деда, за которую, в знак благодарности, надо бы теребнуть старого, но разморило так, что даже руку поднять нет сил, да и видеться начал очень знакомый голозадый человечек – вот он перебирается руками по частоколу, пыхтит, продвигается к жердяным воротцам. Неровность какая-то под розовую ступню или меж пальцев подвернулась, закачался малыш, упал голым местом в крапиву. Рев. Слезы. Бабка, выдернув вицу из веника, сечет крапиву, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе, змея жалючая!..» И всовывает вицу в руку мальчика. Он со всего плеча лупцует крапиву, аж листья летят, и тем утешается, по щеке катится остатная слеза, и, слизнув ее, солоноватую, языком, малый делает еще одну попытку встать на ноги и двинуться вдоль частокола на кривых, подрагивающих ногах.
А сзади хвалят, поощряют, тормошат: «Эдак! Эдак! Эдак, дитятко!»
И вот наконец наступило жуткое, ослепляющее счастье первого самостоятельного шага! Мальчик отпустился от городьбы и на неверных, жидких еще ногах ковыльнул по двору. Все в нем остановилось, замерло: глаза, сердце, дух занялся, и только ноги, одни ноги шли и сделали два огромных, может быть, самых огромных, самых счастливых шага в жизни!
Чьи-то руки подхватили его, уже падающего наземь, подхватили и с ликующим возгласом: «Поше-ел! Поше-о-о-ол!» – подбросили вверх, в небо, и он летал там, кувыркался, а солнце то закатывалось во двор, приближалось вплотную к глазам, то мячиком отскакивало за огород, к лесу, на хребтины гор. Пронзенный восторгом победы, захлебнувшийся высью, мальчик ахал, смеялся, взвизгивал и, не сознавая еще того, первый раз ощутил отраву жизни, которая вся состоит из такого вот опасного полета, и только сознание, только вечная надежда: под тобой, внизу, есть крепкие руки, готовые подхватить тебя, не дать упасть и разбиться о твердую землю, – рождает уверенность в жизни, и сердце, закатившееся в какой-то дальний угол обмершего нутра, разожмется, встанет на место, и сам ты не улетишь к «едрене-фене» – по выражению дедушки, неисправимого, как заверяет бабка, ругателя и богохульника.
Примыкающий к задам дворовых построек клочок жирной земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь широкие межи буйным разноростом да маковый цвет недолговечным полыханием освещали огород к середине лета, да и мак-то незатейный рос, серенького либо бордового, лампадного цвета с темным крестиком в серединке. В крестике бриллиантом торчала маковка, пушисто убранная, и в пухе том вечно путались толстые шмели. «Кину порохом, встанет городом», – сеючи мак, вещала бабка. Была и еще одна роскошь – непроходимым островом темнел средь огорода опятнанный беленькими цветами горох, который без рук, без ног полз на бадог. Иным летом в картошке заводился десяток-другой желтоухих солноворотов, часто до твердого семечка не вызревавших, но беды и слез все-таки немало ребятам от них было. Широкомордые, рябые подсолнухи притягивали к себе не только пчел и шмелей, вечно в них шарящихся и роняющих яичную пыльцу, они раззуживали удаль юных «огородников». Продравшись в огород, поймав солноворот за шершавый, «под солдата» стриженный затылок, налетчики клонили его, доверчиво развесившего желтые ухи долу, перекручивали гусиную шею, совали под рубаху и задавали тёку в лес, пластая штаны о сучья городьбы. Везде и всюду репу и горох, как известно, сеют для воров, а в селе мальчика – подсолнухи. И вот что непостижимо: изловив в огороде младого налетчика, тетеньки и особенно дяденьки, сами когда-то промышлявшие огородным разбоем, с каким-то веселым, лютым сладострастием полосовали жалицей по беззащитному заду лиходеев.