Арийский миф в современном мире
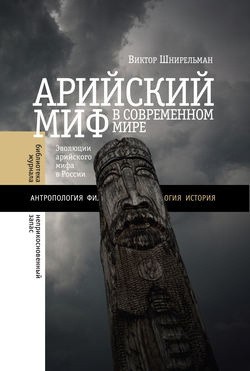
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Виктор Шнирельман. Арийский миф в современном мире
Введение
Глава 1. Рождение и эволюция арийского мифа
Романтизм и индийский соблазн
Арийцы и расовая теория
«Арийское христианство»
Глава 2. Арийская идея в эзотерических учениях
Идея Севера и становление эзотерики
Австрийская ариософия
От ариософии и неоязычества к нацизму
Глава 3. Нацистский след
Типы национализма
Нацизм и паранаука
«Нордический миф» Альфреда Розенберга
Нацизм и христианство
Юлиус Эвола и неофашистская традиция
Свастика – от солярного символа к нацистскому знаку
Глава 4. Источники и корни русского «арийского мифа»
Национализм и ностальгия по далекому прошлому
«Славянская школа»
Эмигрантские истоки неоязычества
«Влесова книга»
Советское наследие
Научные теории
Глава 5. Научная фантастика и этноцентризм
«Научная фантастика» в поисках славян-арийцев
От научной фантастики к патриотическому роману
Глава 6. Русское неоязычество: действующие лица
Глава 7. Мифы русского неоязычества: национализм, мегаломания и травматическое сознание
Эзотерика, арийство и проблемы современного мира
Арии и политизация науки
Аркаим и арийская идея
Миф о праславянской письменности
Свет с юга
Свет с севера
Арийская идея и партийное строительство
Народная археология и эзотерика
Идея Севера и поиски священных центров
Миф как врачевание
Глава 8. Неоязычество, христианство и антисемитизм
Национал-капиталисты
Национал-социалисты
«Русская империя» или «Русское национальное государство»?
Российские коммунисты и арийская идея
Неоязычники и христианство
Образ далекого прошлого, эзотерика и антисемитизм
Глава 9. Эра водолея и русское мессианство
Глава 10. Украинский взгляд
Глава 11. Экспансия арийской идеи: Кавказ и Средняя Азия
Политизация арийства
Тюркское арийство
Борьба между арийским мифом и пантюркизмом
Глава 12. Индийское арийство
Заключение
Библиография
Отрывок из книги
База современной науки закладывалась в XVIII в., когда справедливые сомнения в надежности библейской традиции, с одной стороны, порождали поиски в самых разных направлениях и вели к становлению научных дисциплин, но, с другой, способствовали появлению самых нелепых теорий, одно время имевших широкий спрос у любознательной европейской публики. Именно в 1777–1778 гг. французский астроном аббат Жан-Сильвен Байи поделился с Вольтером своими фантазиями о существовании древнейшей цивилизации в Сибири, куда ее создатели пришли якобы из Арктики (Байи 2003). Но еще большей популярностью пользовалось представление о происхождении высокой культуры из Индии, о чем наперебой тогда сообщали философы, натуралисты и писатели. В этом контексте Библия виделась вторичным источником, отраженным светом, доносившим в искаженном виде обрывки древней мудрости, исходившей когда-то из Индии. В конце XVIII в. это поветрие, позволявшее успешно отвергать поднадоевший иудеохристианский миф, не оставило равнодушными даже таких титанов мысли, как Кант и его ученик Гердер.
Отчасти речь шла о формировании новых основ европейской идентичности: христианская идентичность отступала, сменяясь национальной, а затем – расовой. Отчасти же можно говорить о сопротивлении эмансипации евреев, которой настоятельно требовала наступавшая эпоха. В этом плане и надо понимать причины нападок на иудаизм, которыми полна европейская литература рубежа XVIII–XIX вв. и первой половины XIX в. В писаниях ряда европейских интеллектуалов это выражалось в решительном отказе от поиска своих корней на Ближнем Востоке. Однако это вовсе не подрывало их убеждения в том, что истоки генеалогии лежали в таинственных экзотических странах Азии, где с упоением искали то «благородного дикаря», то «мудрого философа». Там же усматривали и источник «первобытного монотеизма», впоследствии пережившего упадок, искаженного и давшего начало политеистическим религиям. Так европейская мысль и открыла для себя «арийского человека» (Поляков 1996: 198–203).
.....
Примечательно, что для Макса Мюллера исторические и филологические штудии отнюдь не имели отвлеченного характера. Он пытался вернуть европейцам их древнее наследие в надежде на то, что это поможет им решить ряд современных проблем и навести порядок во внутренней жизни (Figueira 2002: 34, 38). Занимаясь в основном лингвистикой и мифологией, Макс Мюллер резко отделял арийцев от семитов и туранцев, с которыми, по его мнению, они не имели ничего общего. В отличие от своих предшественников и ряда современников он не находил никаких сходств между древней арийской и древней семитской религиями – в далеком прошлом пути арийцев и иудеев, по его мнению, нигде не пересекались. Макс Мюллер еще не знал, где именно располагалась прародина «арийской расы». Он помещал ее условно где-то в горах Центральной Азии, откуда древние арийцы и расселялись: одни – на запад, другие – на юг. При этом он резко противопоставлял одних другим: именно первые обладали необходимыми навыками для прогрессивного развития, тогда как вторые отличались пассивностью и созерцательностью. В то же время он однозначно включал индийцев в состав «кавказоидной (яфетической) расы»9, относя потемнение кожи на счет местного климата. Будучи сторонником теории завоевания, Макс Мюллер описывал, как пришлые арийцы покорили местных дасью, которых он называл туранцами, приписывая им скифский язык. Он верил, что от этих арийцев происходили брахманы, тогда как племенное население и неприкасаемых он связывал с потомками дасью (Trautmann 1997: 196–197). Мало того, он постоянно подчеркивал различия между исконными арийцами, когда-то пришедшими в Индию, и их далекими потомками, пережившими разложение и деградацию и перешедшими от первичного монотеизма к идолопоклонству и кастовому обществу. В индуизме он видел искажение исконной арийской религии (Thapar 1996: 5–6; Figueira 2002: 36, 39–43). Во всем этом, как отмечает Д. Фигейра, он был «последним аватаром романтизма в области лингвистики» (Figueira 2002: 47).
Тем не менее Макс Мюллер был далек от расизма. В молодые годы он, во-первых, писал об «арийском братстве», имея в виду европейцев и индийцев, а во-вторых, не видел никакого вреда в расовом и культурном смешении. Напротив, он полагал, что в Индии это пошло на пользу арийцам и их культуре. Он доказывал, что для прогресса цивилизации вовсе не обязательно заставлять местных обитателей переходить на язык и культуру пришельцев. Напротив, тесные мирные взаимоотношения создавали основу для успешного развития. Тем самым, раса вовсе не служила определяющим фактором в судьбе людей. Макс Мюллер всю свою жизнь выступал против дискриминации индийцев (Trautmann 1997: 176–178). Однако при этом именно он освятил своим авторитетом отождествление языка с расой, и ему наука второй половины XIX в. обязана популярностью представления об «арийской расе». Об этом сам он горько сожалел в последний период своей жизни, отмечая, что говорить об «арийской расе» – все равно что говорить о «брахикефальной грамматике» (Коккьяра 1960: 313; Поляков 1996: 229–230; Thapar 1996: 6; Figueira 2002: 44–46).
.....