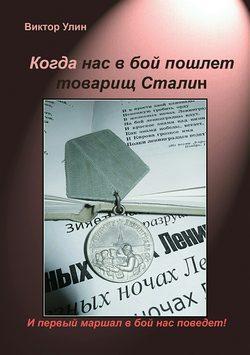Читать книгу Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин - Виктор Улин, Виктор Викторович Улин - Страница 1
Белой акации гроздья душистые
ОглавлениеСветлой памяти моей мамы Гэты Васильевны Улиной
Недавно смотрел в тысячный раз фильм «Дни Турбиных».
Тот, самый гениальный, с Владимиром Басовым в одной из центральных ролей, снятый в семидесятых годах, когда наши актеры умели играть, а не просто бегать по сцене и размахивать руками.
Посмотрел фильм и накатило на меня прошлое.
И взяло за горло так, сильно, что не могу не писать…
1
Романс «Белая акация» когда-то считался символом гнилой эмигрантщины. И в мое время – советское – хоть и говорили о нем часто, и даже отмечали, что одна из революционных песен являет собой в музыкально-ритмическом смысле кальку с этого романса, услышать его было невозможно.
Этот романс не исполняли ни по радио, ни со сцены.
И я помню истинный шок своей юной души, когда в 1976 году в Ленинграде, учась на 1 курсе матмех факультета Ленинградского госуниверситета имени Андрея Александровича Жданова и живя на съемной квартире, так как общежития не хватало, я включил убитый черно-белый телевизор и от нечего делать сел смотреть фильм – точнее телеспектакль «Дни Турбиных».
Уже потом, окончив Литинститут и став писателем, я оценил творчество Булгакова.
В разные периоды последующей жизни по-разному относился и к его сатире, и к его блистательной чертовщине. Ведь восприятие и сами вкусы меняются под воздействием возраста, условий жизни и еще множества разных факторов.
Но за пьесу «Дни Турбиных» ему можно простить все.
Недаром ее любил сам товарищ Сталин и разрешал держать в репертуаре, несмотря на то, что в ней с потрясающей глубиной были выведены характеры белых офицеров…
Но я отвлекся от сути.
Я включил телевизор убогой ленинградской квартирки и по непонятной причине присосался к экрану.
И когда в конце первой серии герои запели «Белую акацию», сокрушался лишь о том, что в спешке не могу найти ни ручки ни бумаги, чтоб записать слова.
Впрочем, записывать особо не требовалось.
Я запоминал хорошо; я всю жизнь любил петь и потому запоминал тексты песен буквально с первого прослушивания.
А что не запоминал – то домысливал.
Ведь тогда, я – нынешний литератор, один из последних столпов классической русской прозы – писал стихи.
Как ни стыдно в том признаться.
2
Второй раз «Белая акация» настигла меня в ужасный и трагический день августа 1981 года.
Когда я, окончив – неизвестно зачем – с красным дипломом ЛГУ, вернулся в Уфу перед поступлением в аспирантуру.
Мой дед – мой ВЕЛИКИЙ дед Василий Иванович Улин – профессиональный партийный работник, соратник Кирова и многих других деятелей, эвакуированный в Уфу во время войны и фактически СОЗДАВШИЙ город Черниковск, один из промышленных центров Советского тыла…
Мой героический дед, мемуаров о котором давно требует моя жена, умирал в палате больницы № 1 Минздрава БАССР.
Впрочем, факт того, что он именно умирал, еще не знал никто.
Его просто положили в привилегированную больницу, как обычно делали время от времени.
В тот день, помню, настало солнечное затмение.
Довольно сильное: свет дня помер всерьез, словно на секунду возвратилась ночь.
Я еще не понимал, что это настала ночь моей жизни.
Я был тогда всерьез увлечен своей будущей первой женой.
Ленинградкой, приучившей меня к классической музыке.
Неплохой по сути женщине, но абсолютно не подходящей для меня.
И в этот жуткий день солнечного затмения я сочинял стихи, делая римейк (хотя такого слова еще и не было в русском языке) «Белой акации»:
– Помнишь – июнь, пароходы на пристани,
Белая ночь, голубая гроза.
Белой акации гроздья душистые
Нас унесли на своих парусах….
А в это время моего деда, уже признанного безнадежно больным и зазря занимающим палату спецбольницы, везли на «скорой помощи» обратно домой.
Везли просто умирать.
О чем я узнал лишь спустя несколько минут после того, как дописал стихотворение.
3
У деда Василия Ивановича, прожившего бурную жизнь, случился рак легких.
От которого он умер через две недели.
Он имел огромный послужной список, мой покойный дед.
Я не говорю про Ленинградский период его жизни, когда он пил и с павшим от руки ревнивого мужа Сергей Миронычем Кировым и с расстрелянным после войны по сфабрикованному делу Алексеем Александровичем Кузнецовым, Первым секретарем Ленинградского горкома ВКП(б).
Даже здесь, в богом забытой Башкирии, он был и вторым секретарем Башкирского Обкома ВКП(б), и председателем Черниковского Горисполкома (именно он построил две восьмиэтажки, которые до сих пор служат символами этого района), и Председателем Облсовпрофа БАССР.
Но то было в прошлом.
Сейчас от деда остались орден Красной Звезды, орден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», бесценная медаль «За оборону Ленинграда», осененные чеканным профилем Верховного Главнокомандующего медали «За Победу над Германией» и «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» на скромных Георгиевских лентах, «хрущевская» медаль «За освоение целинных земель» и еще несколько юбилейных знаков.
И еще – маленькое скрюченное тело, никому не нужное ни на том ни на этом свете.
То были страшноватые и неоднозначные по своей сути закатные времена СССР.
Когда вроде еще все было можно, но ничего уже было нельзя.
Когда для покупки простого гроба требовались усилия сравнимые с теми, которые нынешний безработный должен приложить, чтобы получить кредит на «Хаммер».
Но тогда все-таки царило иное время.
Коммунистическая партия, как бы ее ни ругали, помнила о своих членах.
И когда удалось дозвониться до светлой памяти Мидхата Закировича Шакирова – тогдашнего секретаря Обкома КПСС БАССР, машина сдвинулась с места.
(Попробовать бы вы сейчас выйти на контакт с каким-нибудь начальником из местных, хотя бы с главой районной администрации …)
И рванулось действо, описанное мною в повести «Зайчик».
Деда похоронил Областной совет профсоюзов, причем с такими почестями, каким сегодня позавидует иной генерал.
4
А время шло.
Я окончил аспирантуру, вернулся в Уфу, поступил на работу в Башкирский государственный университет, на математический факультет.
На факультет, который по сути дела создала моя покойная мама.
Именно создала: когда она в 1957 году единственным кандидатом наук вернулась из ЛГУ на физмат, тут процветало болото.
Которой существовало бы до сих пор, если бы в начале 70-х годов из Москвы не приехала группа специалистов по комплексному анализу во главе с Членом-корреспондентом АН СССР Алексеем Федоровичем Леонтьевым – единственным из известных мне людей. которого я уважаю, как бога.
Так получилось, что мама стала работать на его кафедре и сразу сделалась его заместителем. И в общем она, моя мама Гэта Васильевна создала все то, что ныне именуется математическим факультетом Башгосуниверситета. Поскольку Алексей Федорович занимался наукой – а мама решала административные дела.
В 1987 году Алексей Федорович умер.
Пришедший на его место завкафедрой – неплохой ученый, но… промолчу, кто именно с человеческой точки зрения – быстро отправил мою маму на пенсию. Взяв на ее место своего бывшего аспиранта, свежего и в общем совершенно ничтожного кандидата наук.
После чего кафедра начала глохнуть и сейчас сдохла полностью.
Но я пишу это не к тому, чтобы кого-то обложить – хотя очень хочется.
Я пишу о «Белой акации».
5
К тому времени я играл на гитаре так, что уже мог бы работать певцом-исполнителем в каком-нибудь ретро-ресторане (и, возможно, это стоило сделать, пока голос мой не сел, а пальцы левой руки еще как следует сгибались).
На матфаке постоянно проводились юбилеи, мою маму приглашали туда, даже когда после ухода на пенсию она стала работать на другой кафедре, где умные люди оценили ее потенциал.
Она очень любила этот романс.
И на юбилеях я исполнял его в общем для нее.
6
А потом мама заболела той же болезнью, что и дед.
И от которой надеюсь умереть я сам.
У нее обнаружился рак, причем сразу в последней стадии.
Мама держалась 2 года.
В о многом благодаря искусству моего друга, гениального хирурга Васи Пушкарева.
Отчасти – силой со воли.
Когда маме исполнилось 70 лет, факультет по инерции устроил ей юбилей.
Мама уже не работала нигде: ее силы практически иссякли.
До сих пор я помню этот выморочный праздник.
Огромную аудиторию имени А.Ф. Леонтьева (с памятной табличкой), столы расставленные покоем и маму, сидящую во главе.
Маленькую, ссохшуюся, пожелтевшую.
В черном парике, который купили ей мы с моей второй и последней женой Светланой, поскольку от химии у мамы полностью выпали волосы.
Я помню как сейчас этот момент – один из самых жутких моментов моей жизни.
За окнами унылого матфака стояла черная ноябрьская ночь; злой снег хлестал по стеклам и выл, как призрак, в щелях разбитых рам.
Я стоял между ножек покоя и пел «Белую акацию».
Для мамы, которая так ее любила.
Руки мои работали автоматически, и голос сам собой выводил слова.
Я пел и смотрел на маму, и понимал, что вижу ее в такой обстановке в последний раз – и что я, работавший тут с 1988 года уже не смогу находиться среди этих стен, впитавших ее дыхание, когда ее не будет на свете.
Слезы, которые катились из моих глаз, не позволяли мне ничего видеть.
И я молил об одном: чтобы их никого не заметил.
Я пел и заранее оплакивал мою маму, такую маленькую и несчастную, отдавшую всю жизнь этому ничтожному во всех отношениях факультету и ничего не имеющую впереди.
Я оплакивал все лучшее, на что надеялось, и что не сбылось, поскольку шел 2000 – оставался всего год до того, как жизнь моя рухнет по всем направлениям, как треснет моя семья, как мой партнер меня кинет на миллионы, а сам я угожу под суд.
Из-под которого выйду человеком, не уважающим самого себя.
Я не знал ничего этого, но я пел и глотал слезы и старался. чтобы этого никто не заметил.
7
…В час, когда вьюга бушует неистово,
В час, когда в окнах не видно ни зги
Белой акации гроздья душистые
Вспомнить, как прежде, ты мне помоги…
8
Мама умела грозовым летом 2001 года.
Не могу ничего писать о том.
Все это гораздо лучше описано в повести «Незабудки», где молодой ее герой – это в точности я сам.
Жаль, что мне не удалось сделать его судьбу.
Жаль, что мне не удалось ничего.
Все прошло, все затихло под землей.
Белой акации гроздья душистые больше уже не расцветут ни для мамы, ни для кого.
* * *
Но почему?
Почему, почему, почему…
Почему, слыша звуки романса «Белая акация», я, распятый на кресте своей беспощадной памяти – почему при этом кричу…
То есть нет, не кричу.
Мои сведенные судорогой губы шепчут еле слышное и мало кому понятное:
Или! Или! лама савахфани?..
Но нет и не будет мне ответа.