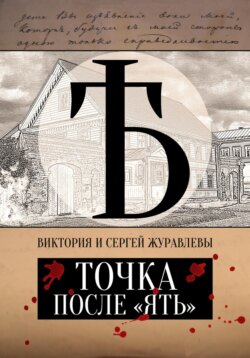Читать книгу Точка после «ять» - Виктория и Сергей Журавлевы - Страница 1
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОглавлениеГлава I
Утром 10 июня 1868 года Москва встретила меня лучами солнца: выныривая из-за сползавшей с неба свинцовой тучи, они пробивались сквозь грязные окна в сумрачное нутро вагона второго класса.
Мерно постукивая колесами на стыках рельсов, подрагивая на остряках стрелок и поскрипывая тугими рессорами, поезд неспешно подходил к вокзалу. За влажными разводами на стеклах вагона замелькали ажурные мачты и алые крылья семафоров, потом – кирпичные станционные пакгаузы и закопченные паровозные стойла, а затем под окном побежала длинная низкая полоса перрона, на которой, появляясь и тут же исчезая прочь, запестрели изумрудные и сизые мундиры офицеров, темные сюртуки штатских и пышные пастельные дамские платья.
Взвизгнув напоследок пару раз свистком, состав затрясся от головы до хвоста, дернулся и с шипением и лязгом, наконец, остановился.
Я вскочил со своего жесткого сиденья, на котором провел весь предыдущий день и ночь, показавшуюся мне бесконечной, подхватил новенький хрустящий кожаный саквояж и поспешил к выходу. Свежий утренний ветер ударил мне в лицо, и, зажмурившись от яркого света, я соскочил с подножки вагона на платформу.
Передо мной на входе в большой город, словно в котле, бурлила толпа: встречающие, провожающие, отбывающие и прибывающие появлялись и исчезали в сонме себе подобных, перекрикивались между собой, махали друг другу руками и платками, торопливо выпрыгивая со своей поклажей из тамбурных дверей или же растворяясь за мутными стеклами вагонов. Я проводил взглядом паровоз, отъезжавший от перрона в клубах черного дыма, и, в последний раз услышав его протяжный гудок, за долгое время пути уже ставший мне привычным, влился в людскую массу, вместе с нею пройдя или, сказать точнее, проплыв насквозь темную каменную махину Рязанского вокзала.
Толпа вынесла меня на привокзальную площадь и растеклась на тысячу маленьких ручейков, впадавших в широкий многолюдный бульвар и десятки узких переулков. Я шел по мостовой и, слыша обрывки чужих разговоров, украдкой разглядывал шедших мне навстречу или деловито обгонявших меня прохожих, их шинели, пальто и накидки, цилиндры, кепи, картузы и шляпки, поблескивающие кокарды и погоны, перчатки и зонтики. Пассажиры быстро заполняли стоявшие нестройными рядами конные экипажи и под залихватские окрики извозчиков торопливо покидали площадь.
Скрип колес и стук копыт сливался с гомоном голосов мальчишек-газетчиков: те, умело лавируя между пролеток, умудрялись бойко продавать свои листки, полные, если верить словам юных торговцев, самых необычайных новостей.
– «Русские ведомости»! «Русские ведомости»! Последнее сообщение прямо из зала заседаний Городской думы! – кричал один.
– «Современные известия»! «Современные известия»! Грандиознейшие события из жизни царской семьи! – голосил другой.
– Скоропостижная смерть купца Савельева! Кому достанутся миллионы? Покупайте «Московский листок»! – старательно выводил третий, силясь перекричать своих товарищей.
За привокзальной площадью виднелись нескончаемые торговые ряды и слышались голоса зазывал. В свежем воздухе разливался приторный аромат акаций.
Шагнув было на влажную от недавнего дождя деревянную мостовую, я вдруг услышал свист кнута и неразборчивую, но, без сомнения, угрожающую брань. Мимо меня в облаке из водяных капель и грязи пронеслась запряженная парой лошадей коляска с необъятных размеров кучером на козлах. Доски мостовой заходили ходуном, заливая дождевой водой тротуар и прохожих, и мои начищенные до блеска сапоги в мгновение ока стали буро-коричневыми.
Пришлось мне остановиться у окна ближайшей лавки, дабы проверить, не осталось ли на моей одежде других досадных следов московской ухарской езды. Но, кажется, все обошлось: с отражения в стекле витрины на меня смотрел аккуратно одетый молодой человек семнадцати лет, довольно симпатичный, пусть и немного взъерошенный, в невысокой шляпе-цилиндре с плоским верхом, новеньком черном сюртуке с иголочки, с гладким, чисто выбритым лицом, серыми глазами, тонким носом, острым подбородком и светлыми вьющимися волосами.
Платье мое заметно не пострадало, но вид и цвет сюртука напомнили мне о предстоящих делах, коих ожидалось немало.
Мальчишка-газетчик не лгал: через несколько дней будет оглашено завещание моего покойного дядюшки, известного московского купца Петра Устиновича Савельева, Царствие ему Небесное! Родом он был из наших, из самарских. Во время своей продолжительной болезни дядя, до того не замеченный в склонности к сантиментам, сблизился с родственниками, и это давало повод надеяться на то, что меня или мою матушку упомянут в завещании, что могло означать весьма неплохой куш. К тому же наследников мужского пола у дяди не было, а единственная дочь… Единственная дочь не была сыном, а это в купеческих семействах считается самым главным недостатком.
Однако я должен был признать, что трагические события, которые привели меня сюда, не особенно угнетали мою душу – слишком разительные перемены к лучшему они сулили. Где-то далеко остался тихий уездный город с назойливой и докучливой матушкиной опекой, впереди же меня ждало целое состояние.
С этими мыслями я добрался до Замоскворечья. Сняв маленькую комнату в небольшой уютной гостинице в три этажа, я поспешил отправиться на поиски дома Савельевых. Проплутав по узким корявым переулкам три четверти часа и успев расспросить полдюжины прохожих, я, наконец, нашел то, что искал: за изящной оградой в глубине благоухавшего сиренью сада виднелся коренастый дом купца первой гильдии Петра Савельева.
Дом был двухэтажный, добротный, покрашенный краской мышиного оттенка. Белоснежная широкая резьба, окаймлявшая окна, придавала дому изящество, пусть и непохожее на благородный лоск дворянских усадеб, зато отражавшее степень благолепия и уютного довольства проживавшего здесь семейства. Кусты сирени до середины закрывали окна первого этажа своими плотными малахитовыми листьями. Небольшой деревянный стол под раскидистыми яблонями, казалось, только и ждал, чтобы его накрыли к чаю. Усыпанные мелкими серыми камешками дорожки разветвлялись и разбегались в разные концы цветущего сада, разбитого вокруг дома. После тесных московских переулков тут, за оградой, чувствовалось раздолье. С косогора за домом можно было увидеть и другие купеческие усадьбы, расположенные на возвышенностях или в низинах: они тоже утопали в зелени, через опоясывавшие их изгороди свешивались ветви яблонь, а на склонах холмов островки леса перемежались с покрытыми изумрудной порослью полянами и оврагами.
Я ожидал встретить дядюшкиных домочадцев в трауре и потому заранее готовился к беседам, полным уныния, натянутости и всякого рода неловкостей. Поэтому, оставив за спиной почему-то не запертую на засов калитку, я прошел через сад к дому и здесь в нерешительности остановился.
Огромная белая морда с желтыми клыками и грязные когтистые лапы возникли передо мной совершенно внезапно, ну просто вдруг, откуда ни возьмись! Я услыхал клацанье зубов у самого моего уха и в мгновение ока повалился навзничь в мокрую траву.
– Сапсан! Сапсан, назад! Назад! Что же это такое?! К ноге! К ноге! – раздался женский окрик. Быть может, меня все же не успеют сожрать прямо сейчас…
Собака, гавкнув пару раз, будто бы для порядку, уже просто стояла надо мной, оскалив зубы и утробно рыча.
Тонкая рука ухватила животное за ошейник, и я, лежа в траве, услышал девичий голос:
– Любезный, вы целы?
Я в ответ только кивнул.
– Господи, не понимаю, как так случилось! – продолжил голос. – Мы обыкновенно пса только на ночь с цепи спускаем…
Я сел.
Передо мной стояла девушка лет шестнадцати на вид в строгом траурном платье. Она была худа, и ее острое лицо с высоким лбом и вздернутыми густыми резко очерченными бровями казалось совсем бледным на фоне мрачного одеяния. Свою кузину я не видел с детства, но узнать ее оказалось делом несложным. Те же удлиненные савельевские черты, только глаза карие, и волосы темные, аккуратно убранные в высокую прическу. Черное шерстяное закрытое платье с белым узким воротничком подчеркивало тонкую шею и совсем не по-купечески стройную фигуру. Рядом с девушкой ворчала собака, не сопротивляясь, однако, маленькой изящной руке, державшей ошейник.
– Не беспокойтесь, я в полном здравии… – я поспешил подняться на ноги. – Аглая Петровна, если я не ошибаюсь?
– Да… – моя спасительница с удивлением и любопытством взглянула на меня.
– В таком случае позвольте приветствовать вас и отрекомендоваться: Михаил Иванович Барсеньев.
Я хотел было принять ее руку для поцелуя, но, увидев, что ладонь моя измазана мокрой землей, поспешил спрятать ее за спину.
Аглая Петровна улыбнулась:
– Вам, Михаил Иванович, необходимо почиститься. Ваш сюртук, боюсь, сильно попорчен…
– Пустяки!
– Мы вас ждали, – кузина помедлила, и потом добавила, – а я, признаться, представляла вас совсем другим…
Двери дома отворились, и к нам по ступеням крыльца сошла хозяйка усадьбы Надежда Кирилловна Савельева, статная круглолицая сорокалетняя женщина в пышном черном платье, отороченном множеством лент и кружев. Она, всплеснув полными белыми руками, украшенными крупными золотыми кольцами, воскликнула:
– Что за шум? Извольте объясниться!
Аглая обернулась:
– Матушка! Михаил Иванович, братец наш двоюродный, приехали, так на него наш Сапсан набросился, чуть было не помял! Пришлось выручать!
– Михаил Иванович? – ахнула Надежда Кирилловна. – Бог мой! Что же вы, милый, в колокольчик-то у ворот не позвонили? Наш Трофимыч вам бы непременно отворил! Уж он-то собаку к вам и близко бы не подпустил! Проходите, проходите, пока снова дождь не начался, а то вон опять какая буря собирается! Сюртук вам придется снять. Его сей же час почистят, – она хлопнула в ладоши и властно крикнула в глубь дома, – Машенька, помогите же нам! И накройте, любезная, стол к чаю! Ах, тучи гонит, просто страсть! – тетушка так хлопотала вокруг меня, что я со стыда был готов провалиться сквозь землю.
Мы вошли в дом, и горничная наверху помогла мне привести сюртук в порядок. Надеясь, что нелепейшее первое впечатление удастся хоть как-то сгладить, я спустился к уже ожидавшим меня родственницам. В столовой как раз подавали обедать.
Голубая фарфоровая супница с прозрачной стерляжьей ухой источала божественные ароматы. На столе красовались блюда с заливным, соленые рыжики в масле, жареные рябчики, горкой лежали теплые пирожки с рубленым сердцем, а разлитый херес золотом блестел в хрустальных бокальчиках. Поданные в конце плотного обеда сласти – янтарное варенье из полупрозрачных райских яблок с хвостиками в стеклянной вазочке, клюква, перетертая с грецкими орехами, печатные пряники, тонкие слоеные сладкие пирожки, обильно посыпанные сахарной пудрой, серебряный сливочник, доверху наполненный свежими сливками, – все это великолепие располагалось на багровой набивной скатерти вокруг внушительных размеров самовара, из которого Надежда Кирилловна разливала ароматный чай.
– Вы, Михаил Иванович, в гостинице остановились? – тетка медленно наполнила чашку и красивым выверенным жестом подала ее мне.
– Да. Это недалеко отсюда – у церкви Иоанна Предтечи, – ответил я и сделал глоток.
– Значит, у Прилепского. Что ж, это хорошо! Там весьма кстати и нотариальная контора рядом. Друг мой, вы не очень стеснены в средствах? А то остановились бы у нас! Комната для вас найдется, да и не чужие мы все-таки, – вспомнив, видимо, о покойном муже, Надежда Кирилловна тяжко вдохнула и приложила к глазам шелковый платок.
Я поспешил отказаться. Денег у меня было не то чтобы много, но все же в гостинице я мог позволить себе куда более вольное житье, нежели то, что ожидало меня в омраченном трауром купеческом доме. В субботу уже огласят завещание, поэтому больших трат на проживание не предвиделось…
– Вы только, пожалуйста, осторожнее по улицам ходите, – будто прочитав мои мысли о предвкушаемой трехдневной свободе, сказала Надежда Кирилловна. – Сейчас у нас в Замоскворечье воры объявились. Их и раньше-то довольно было, а сейчас и вовсе – как ни ночь, то где-то крики: «Караул! Грабят!» А будочным хоть бы что! Даже и не просыпаются, наверное… А вы, Михаил Иванович, и с виду примечательны, и мест здешних не знаете, и по молодости на многие, уж извините за прямоту, глупости способны!
– Не беспокойтесь, тетушка! У меня лишь несколько поручений от матушки и ничего более, – я, бросив взгляд на Аглаю, молча сидевшую напротив меня, постарался сказать это спокойно и равнодушно.
Хозяйка дома мне не ответила, только с сомнением пожала плечами и поставила перед собой чашку с горячим чаем. Потом она, вздохнув, начала бесконечно долгий, как мне показалось, разговор обо всех последних событиях.
Помешивая сахар тонкой серебряной ложечкой, Надежда Кирилловна сопровождала свой рассказ ее монотонным постукиванием. Почти в такт ему за окном от налетавшего ветра в стекла бились ветви яблонь.
– Петр Устинович и так-то крепостью здоровья в последние годы не отличался. Водянка его уже несколько лет беспокоила, слаб был, что греха-то таить… – тетушкина ложка завершила очередной круг, прочертив на чайной глади мгновенно исчезающий след. – А тут еще холера началась в Замоскворечье, вот нас с Аглаей и отправил Петр Устинович к матери моей – проведать старушку, да чтоб подальше были от всей этой заразы…
Тетка повернулась к висящему на стене зеркалу, затянутому черным покрывалом, и всхлипнула, но потом, подавив дрожь в голосе, продолжила:
– Письма от самого приходили ежедневно, и хоть холера его и не обошла, все же он писал мне, что почти поправился, болезный. Я даже врачу нашему записочку передала, так он меня уверил, что опасности и нет никакой, что только лишь слабость осталась, да и та несерьезная. Мы уже и в обратную дорогу засобирались, да тут и пришло известие, что хозяин-то наш преставился, – ложечка в теткиной руке задрожала и выбила об фарфоровый край чашки мелкую дробь. – Вот так бывает: кажется, болезнь отпустила уже, так ведь нет – если уж пришла забрать, то наверняка заберет.
Мы с кузиной молчали. Надежда Кирилловна, стиснув руки и качая головой из стороны в сторону, горестно повествовала:
– Мы с Аглаей сразу домой воротились, верст-то тридцать пути всего будет, а тут!.. Батюшки! И полиция все в протокол с описью описывает, и курьеры разные шастают, и соболезнующие толпами ходят. Суета сует, а горя-то сколько! Уж как я убивалась-то! Да и плакальщицы на похоронах свою работу знали! Знамо дело, лучших из Замоскворечья позвали! Петр Устинович-то чай не приказчик какой был – купец первой гильдии, да и какой купец-то, ой…
Продолжать свой рассказ Надежда Кирилловна была не в силах. Аглая встала с места, чтобы обнять и успокоить мать, но та отмахнулась, и потому девушка отошла к окну в дальнем конце комнаты, за стеклом которого темнело низкое грозовое небо.
После того, как хозяйка дома немного утешилась, разговор наш пошел на менее тревожные темы: тетка справилась о здоровье моей матушки, о наших самарских делах, о новостях и прочих мелочах, мало что значивших. Я уже подумывал о том, как бы найти благовидный предлог, дабы распрощаться с осиротевшим семейством, ибо разговор этот стал мне в тягость.
Долгое время наши фамилии избегали тесного общения. Отношения между моей матушкой и дядей были сложными. Характера оба родственника были сурового, и отличались они упрямством и прагматичностью. Началом разлада, как поговаривали в наших краях, стал брак моих родителей, весьма выгодный для почти разорившихся Савельевых; после свадьбы по настоянию молодой жены мой будущий отец передал дяде внушительную сумму денег, на которые тот позднее сумел перебраться в Москву и достойно устроиться. Когда же удача в делах ему улыбнулась, вести от него стали приходить все реже.
Брак моих родителей оказался вполне счастливым, воспитан я был в родительской любви и заботе, а после смерти в прошлом году отца моего, Ивана Михайловича Барсеньева, я, видя искреннюю скорбь о нем моей матушки, не воспринимал более местные слухи всерьез.
Именно на похоронах отца и появился мой дядя Петр Устинович Савельев, встречи с которым были в последние годы крайне редкими. После этого приезда дядя взялся участвовать в нашей судьбе, стал постоянно писать, давать советы, и, таким образом, брат с сестрою снова сблизились. Именно поэтому, а также опираясь на заверения в дядиных письмах, матушка полагала, что его завещание коснется нас самым заметным образом.
В передней хлопнула дверь, и в комнату вбежала белокурая девушка в платье изумрудного цвета. Она осмотрелась и, сделав вид, что не заметила меня, бросилась к хозяйке дома:
– Надежда Кирилловна, здравствуйте! Ничего, что я без приглашения? Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вам удалось сегодня хоть чуть-чуть сомкнуть глаза? А я все беспокоюсь! Дай, думаю, навещу подругу с маменькой! Ах, вот и Маша уже чашки несет! Не беспокойтесь обо мне, я сама управлюсь, – говоря это, незнакомка успела обежать вокруг стола, обнять Надежду Кирилловну, чмокнуть Аглаю в щеку и занять свободное место за столом.
Ударил раскатистый гром, и частые капли дождя забарабанили по крыше и стеклам окон.
Я с любопытством разглядывал нежданную гостью. Она была так идеально одета и причесана, что это не могло не привлекать внимания: как говорят у нас, перышко к перышку! Мягкое, округлое лицо делало ее внешность почти ангельской, но хитрый прищур глаз и уверенность в каждом движении выдавали непростой и далеко не ангельский характер. Меж тем, наливая себе чай, она продолжала делать вид, что меня здесь нет.
– Познакомься, Липочка, с нашим дорогим сродственником, – Надежда Кирилловна представила меня девушке, а потом обернулась ко мне, – наша соседка и моя крестница, Олимпиада Андреевна Егорова.
Затем тетушка отодвинула от себя чашку и поднялась с места.
– Извините меня, но я вынуждена вас оставить. Ужасная мигрень… Михаил Иванович, я жду вас завтра к обеду! Я чувствую себя ответственной за вас перед Анной Устиновной, вашей матушкой, и потому двери моего дома всегда для вас открыты, – с этими словами хозяйка дома степенно удалилась.
После ухода Надежды Кирилловны разговор пошел куда веселее. Пусть Аглая не стала более разговорчивой, Олимпиада, или Липочка, как ее здесь звали, щебетала без остановки обо всем, что произошло в последние пару дней у множества людей, которых я никогда не имел чести знать. Но все же я был ей благодарен: она привнесла собою в наше мрачное застолье дух жизни, лета и тепла, и мы с Аглаей, сами того не заметив, немного оттаяли, заразившись Липочкиным озорным весельем. Мы даже прощали ей не всегда смешные и порой грубоватые образы и шутки: нам, казалось, очень хотелось выбраться из царившей в этом доме траурной тени, а наша юная Ариадна, нитью своей беседы выводящая нас из лабиринта черных платьев и завешенных темной тканью зеркал, была так мила, что мы просто обязаны были следовать за ней неотступно.
За окном лил дождь, а мы все разговаривали и пересмеивались. Я вдруг обеспокоился мыслью о том, как бы веселость сидевшей рядом со мной Аглаи не обернулась истерикой в свете всех обстоятельств последнего времени, но кузина моя сейчас вовсе не выглядела человеком, готовым выставлять свои чувства напоказ. Напротив, казалось, все, что она думает, так укромно спрятано в ней, что ее улыбка и произносимые ею слова суть лишь проявление учтивости. Но я был ей благодарен хотя бы за то, что в дополнение к множеству новостей о занятных происшествиях, случившихся в последнее время с соседями и знакомыми семьи Савельевых, не прибавился ее рассказ о моем появлении в этом доме.
День клонился к вечеру. Дождь кончился, выглянуло солнце, и я решил откланяться.
Взяв извозчика, я отправился на Кузнецкий мост.
На площади у большого итальянского фонтана, огромную чашу которого держало с полдюжины амурчиков, изредка показывавших из-за прозрачной водяной стены свои лукавые физиономии, гуляло множество народа. Шарманщики в широкополых шляпах и темных сюртуках крутили ручки своих инструментов, гнусаво выводивших нехитрые скрипучие мелодии, дамы в голубых и кремовых шелковых мантильях кормили голубей, а суетливые гувернантки в черных платьях с белоснежными манжетами и воротничками присматривали в сторонке за детьми, весело игравшими с большими мыльными пузырями, выдуваемыми через обломок соломинки и переливавшимися в косых солнечных лучах всеми цветами радуги.
На краю площади раскинулись торговые ряды. Купив вишневого кваса и постной душистой свинины, я расположился за большой бочкой, стоявшей здесь вместо стола, и начал свою трапезу путешествующего пилигрима. Да, ветчина, поданная на листе промасленной бумаги вместе с заостренной деревянной палочкой, которой было очень удобно накалывать аккуратно нарезанные кусочки мяса, была просто отменной!..
Город гудел сотнями звуков. Приземистая беленая церковь звонила к вечерней службе, и я стоял за своей бочкой и наслаждался видом, запахом и вкусом нового для меня города. Свежий после дождя воздух дополнялся ароматами березового угля, горячего хлеба и жареного мяса, доносившимися из трактиров и лавок. Теплый вечер угасал в красивом закатном небе, расцвеченном всеми оттенками пурпурного и золотистого…
– Ба! Знакомые все лица! – неожиданно кто-то сгреб меня в охапку.
Ничего не понимая, я хотел было обернуться, чтобы проучить внезапного бесчинника, но над своим ухом вдруг услышал строгий шепот:
– Подыгрывай мне! На нас смотрят…
Я отстранил незнакомца.
Передо мной стоял высокий стройный юноша, мой ровесник или, может, чуть старше, с открытым приветливым лицом, в студенческом кителе и в фуражке, из-под которой выбивались непослушные темные кудри.
– Что, брат, не узнаешь меня, что ли? Да мы же с тобой вместе курс профессора Разумихина слушали! – громко возмутился он моим замешательством. – Впрочем, чего там слушали! Пили больше после, ха-ха! Ну, трактир-то на Мытной помнишь? Эх, славно, братец, отдыхали! Клянусь весами Юстиции! А как у Новикова, однокурсника нашего, гуляли, помнишь? Хорошо же гуляли! – студент снова кинулся обниматься и уже раздраженно зашептал, – ограбить тебя хотят, провинция! Ну, не молчи же, дубина!
– Гм… у Н-н-новикова? Припоминаю, а то как же! – ответил я. – Это тогда, когда на тройках катались?
– Вот! На тройках! Я ж знал – ты и есть! Ну, брат, в честь встречи сегодня гуляем! У меня тут товарищи неподалеку праздник празднуют: пьют за просвещение и судебные преобразования, будь они неладны, – я едва успел подхватить свою ветчину, когда незнакомец прямо за рукав потащил меня в сторону и выпустил, только когда мы оказались за торговыми прилавками.
– Туговато соображаете, милейший! – проговорил молодой человек, вытирая платком свой китель, который я невольно задел свертком с ветчиной. – Взгляните-ка, только осторожно: вон там, рядом с квасным лотком, двое стали было сговариваться, как вас, голубчика, сегодня половчее споить да обчистить. По вам же видно, что приехали недавно, да явно при деньгах!
Выглянув из-за прилавков, я увидел в толпе у квасных рядов двух неряшливо одетых типов. Те, покуривая замызганные трубки и поплевывая на мостовую, внимательно вглядывались в прохожих и перекидывались короткими негромкими фразами.
Мне стало не по себе.
– Благодарю вас, – сказал я моему спасителю. – Чувствую, вы избавили меня от многих неприятностей, как и от пространных писем, исполненных рыданий и нравоучений моей матушки. И я, право же, не знаю, что из этого мне было бы легче пережить!..
– Уж сомневаюсь, заслужу ли я расположение этой достойной дамы, ибо не помню, чтобы кто-либо благодарил бога за дружбу их сыновей со мной! – почистив китель, мой нечаянный собеседник спрятал платок в карман, взглянул на меня и протянул мне руку для знакомства.
– Андрей Федорович Данилевский! – назвал он свое имя и беззаботно улыбнулся, отчего мне вдруг тоже стало весело.
– Вы студент? – тоже представившись, спросил я.
– «Ты», голубчик, только на «ты»! Пусть мы и не пили на брудершафт, сие упущение очень нетрудно исправить. Кстати, спасая твою шкуру, я совершенно не врал о своих приятелях. У нас все просто, без церемоний и приглашений, так что, как говорят наши немецкие друзья, Willkommen! Добро пожаловать!
Мой новый знакомец до чрезвычайности заинтересовал меня. Откровенно говоря, я жаждал более интересного времяпрепровождения, чем мог бы изыскать в дни траура в доме моей тетушки. К тому же от слова «студент», малоизвестного в нашем небольшом купеческом городке, далекого, вольнодумного и почти революционного, веяло чем-то фантастическим, будто сошедшим со страниц трепетно мною любимого романа госпожи Шелли о Франкенштейне и его ужасном творении.
Поэтому я охотно откликнулся на приглашение Данилевского, и мы двинулись мимо нарядного многоглавого Покровского собора через новенький мост над рекой в Замоскворечье. По дороге мой спутник щедро делился со мной здешними анекдотами и занимательными историями обо всем, что попадалось нам на пути. А попадались нам, и гораздо чаще, чем что бы то ни было иное, различного вида трактиры и прочие питейные заведения. Со слов Данилевского, представители всех сословий и профессий имели здесь специальные негласные ресторации. Лишь студенты, пусть и обретались в трактире Нехладова, предпочитали проводить время на так называемых «вечерах», собираемых их же товарищами, где и довольствовались не хлебом и зрелищами, но выпивкой и благородными спорами о судьбах Отечества.
Незаметно приличные чистые мостовые сменились перекинутыми через лужи досками, и мы, пройдя чередой многочисленных улочек и переулков, очутились в тупичке, окруженном приземистыми неказистыми домами. Ветки деревьев спускались к нам из-за высоких глухих заборов, многие из которых были утыканы по своему верху острыми гвоздями.
Мы подошли к небольшому старому дому на несколько квартир и постучали. Какая-то баба с подоткнутым подолом отворила дверь и, исподлобья оглядев нас, проводила в верхние комнаты, откуда доносился звон стекла и оживленный разноголосый говор. Скрипучие половицы, как оказалось, издали оповестили собравшуюся компанию о новых визитерах, так что встречены мы были громко и весело.
Дальнейшие воспоминания того вечера остались в моей памяти лишь разорванными лоскутами. Друзья Данилевского оказались довольно шумными молодыми людьми, на спор пьющими пиво и разнообразные наливки, добытые, подозреваю, в ближайшем трактире или же, что тоже не исключено, в родительских кладовых, претерпевших налет и разорение.
Ближе к полуночи мы наконец выбрались на улицу. Так как ночь ожидалась лунной, фонари сегодня не зажигали. Однако надежды на ночное светило со стороны жаждущих экономии городских чиновников не оправдались, и потому темень стояла хоть глаз выколи. Прислонившись к изгороди, мы продолжали пить из бутылки наливку или, может быть, шампанское, и шутили, и смеялись, и вдыхали пахнущий цветами акации свежий воздух, наслаждаясь ночной прохладой.
Где-то вдали послышался скрип рессор и перестук копыт. Данилевский, опершись рукой на забор и немного пошатываясь, вгляделся в темноту и залихватски свистнул.
Экипаж подъехал к нам и остановился.
С трудом ворочая языком, я в конце концов все же сумел выговорить извозчику адрес гостиницы Прилепского.
Глава II
Следующее мое утро началось в час пополудни. Несмотря на сильнейшую головную боль, я сумел встать и кое-как привести себя в порядок. Полотенце, смоченное водой, приятно холодило кожу, и я чувствовал, как пренеприятный стук в висках понемногу утихает. Дабы избавиться от влажной тошнотворной духоты в комнате, я распахнул окно. Солнце ослепило меня, а воробьи на улице заверещали так сильно, будто, сговорившись, решили навечно лишить меня слуха. К моему удивлению, от свежего воздуха головокружение мое усилилось, стены поплыли, и я снова опустился на кровать.
Провалявшись в постели без сколько-нибудь связных мыслей в голове еще около четверти часа, я все же заставил себя подняться и одеться: к обеду мне надлежало появиться у Надежды Кирилловны, и исчезновение мое могло быть истолковано как провинциальная невоспитанность. Допустить подобного было никак нельзя.
Одернув на себе сюртук и поправив булавку на галстуке, я несколько раз провел щеткой по волосам, взял шляпу и вышел из номера. Ощущая некоторую неловкость за свое ночное возвращение в гостиницу, я хотел было незаметно прошмыгнуть мимо бородатого, но безусого швейцара, стоявшего внизу в длинной ливрейной шинели, но проделать этот фокус мне не удалось: швейцар, приподняв фуражку, окликнул меня, а затем подал мне на серебряном подносе сложенный вчетверо лист бумаги. Внутри крупными размашистыми буквами были написаны имя и адрес Данилевского.
Надежда Кирилловна встретила меня, как и в прошлый раз, со сдержанной приветливостью. Аглая где-то задерживалась, и обед у нас с тетушкой прошел наедине.
– Я совсем не удивлена тому, что Аглая опаздывает, – сказала Надежда Кирилловна, ножом намазывая на калач тонкий лепесток масла, – Олимпиада Андреевна позвали ее на разбор приданого, а это, сами понимаете, дело небыстрое и для молодых девушек – дюже завлекательное! Пока все переберешь да пересмотришь, и во времени потеряешься! А с подругой оно, конечно, веселей. Уж Аглае-то любая радость сейчас на пользу, да и Липе полезно – она тоже от сватовства устала. Родители уж год как с женихом имущество невестино не обговорят: то одно, то другое! Сложное это дело – свадьба! Ох, сложное…
Горячие дымящиеся щи в моей тарелке, только что налитые серебряным половником из прелестной бело-голубой фарфоровой супницы, вдруг совершенно неожиданно перестали мне казаться такими уж вкусными…
Дождавшись окончания обеда, я распрощался с тетушкой до завтрашнего оглашения завещания. Мне нужно было выполнить еще кое-какие поручения.
Прежде всего, я отнес письмо княгине Багрушиной, старинной матушкиной приятельнице, жившей у церкви Никиты Великомученика в Толмачах в большом каменном доме с причудливой крышей и широкими воротами. Затем я заглянул к своему двоюродному деду Илье Осиповичу Савельеву, почтенному старцу, небольшой добротный дом которого я отыскал тут же в Татарском переулке. Илья Осипович жил уединенно и много времени своего проводил при церкви. За приятной душевной беседой дед угостил меня ароматным травяным чаем, и последняя моя головная боль – последствие вчерашних авантюр – улетучилась.
Теперь путь мой лежал в замоскворецкие торговые ряды. На этот раз целью моего визита стала закупка разного рода скарба, коего моя матушка составила целый список.
На рынке я наконец-то почувствовал себя в своей тарелке. Окунуться в знакомую круговерть торга и азарта было приятно. И пусть московские лавочники были в разы крикливее и говорливее самарских, но в искусстве коммерции им до наших было далековато. Иначе едва ли мой покойный дядя смог бы сколотить в Москве свое миллионное состояние, не правда ли?
Здесь все было, как и на любом торгу: цены ломили впятеро, лежалый товар хвалили громче, чем свежий. В суконном ряду худшим тканям приписывалось французское или английское происхождение, и несведущие обыватели расхватывали его, не задумываясь. Отмеряли ткани продавцы тоже не в ущерб себе – различные хитрости позволяли приказчикам прилично экономить в свою пользу лишние куски материи.
Поторговавшись в одной лавке, я сумел сбить цену на приглянувшуюся мне тонкую шерстяную ткань почти вдвое, поэтому я закрыл глаза на то, что меривший ее приказчик «ошибся» на пару локтей. Когда же во втором отрезе я не досчитался уже локтя четыре, если не более, стало понятно, что с благотворительностью пора заканчивать. Отрез мне перемерили заново.
Отправив посыльного с покупками в гостиницу, я продолжил изучать местную торговлю. Уже готовый покинуть этот людской водоворот, я увидел вывеску, на которой крупными угловатыми буквами было написано: «Савельевские меха». Вероятно, это была одна из шести лавок моего покойного дядюшки.
Я открыл резную дверь и вошел внутрь.
В лавке было душно от тяжелого запаха меха и звериных кож. В дальнем углу у прилавка я приметил двоих: долговязого сутулого приказчика в черном жилете и белой сорочке с конторскими нарукавниками, а напротив него – бледного худого молодого дворянчика в дорогом темном костюме.
– Стратон Игнатьевич, – мягким и вкрадчивым голосом говорил дворянчик, покручивая тонкий ус, – не забудьте: вот этот заказ – княжне Лантовой, а вот этот вы мне отправьте. И запишите все на мой счет. Да, полагаю, вы зайдете к моему брату?
– Князь изволил пригласить меня к себе в начале будущей недели, – негромко ответил приказчик, перегнувшись через прилавок. – Обещали принять. Подорожная готова, во вторник отбываю…
– Вот и чудно! – его собеседник мягко хлопнул по столешнице рукой, обтянутой тонкой лайковой перчаткой, и повернулся было к двери.
– Ваше сиятельство, – остановил его приказчик, – прикажете княжне просто сверток доставить или, быть может, с цветами? Могу букет роз от Хлюдова присовокупить…
– Что ж, это вы хорошо придумали! Добавьте! Только не пишите на карточке: «Кобрин». Просто литеру «К» выведите, и все! Так пикантнее!
– Не извольте-с беспокоиться, – Стратон Игнатьевич, сопроводив своего посетителя к выходу, услужливо распахнул перед ним дверь.
Когда тот ушел, приказчик обернулся ко мне:
– Чего изволите, сударь?
– Хочу… на товар взглянуть да цену узнать… – отчего-то запнулся я.
– За смотр денег не беру, хотя пора бы уже, а то все только смотрите, – проворчал приказчик.
Я, немного оторопев от подобной неприветливости, с показной придирчивостью пощупал шкуры и кожи, спросил цены, потом поцокал языком, деловито хмыкнул, кашлянул и, в душе надеясь, что моя поспешность не привлекла внимание, вышел на улицу.
Случайно подслушанный мною отрывок разговора чрезвычайно взволновал меня. Приказчик Савельева, по всей видимости, подыскал себе новое место и, таким образом, теперь поставит мою тетушку и Аглаю в еще худшее положение. Я пробивался сквозь рыночную толпу, и чувство обиды за семейство переполняло мою душу. Что же, теперь ближайшие поверенные в делах Савельева будут разбегаться вместо того, чтобы помочь наладить хозяйство тетушке или другим наследникам?! Предатели!..
Вернувшись в подавленном состоянии в гостиницу, я хотел было написать матушке письмо, дабы рассказать об увиденном и услышанном, однако решил дождаться завтрашнего оглашения завещания и тогда уже обстоятельно написать обо всем сразу. Я сел за стол, взял карандаш, вынул из кармана сюртука свою небольшую записную книжку в кожаном переплете цвета черного кофе и черкнул в ней несколько строк.
Но этого мне показалось мало. Очень хотелось выговориться.
Мой взгляд упал на случайно вынутый вместе с книжкой листок бумаги. Я вспомнил: это была записка с адресом Данилевского.
Таблички с названиями улиц встречались мне по пути крайне редко, а иные указатели и вовсе отсутствовали. Но, на мое счастье, из ограды стоявшей неподалеку маленькой нарядной церкви вышел священник, и я обратился к нему. Расчет мой полностью оправдался: батюшка, в силу своего занятия прекрасно знавший все дома в округе, подробно и доходчиво указал мне дорогу.
Многочисленные ответвления кривых переулков теперь не путали меня, и вскоре я вышел к нужному мне дому. Это был двухэтажный деревянный особняк, где, как написал Данилевский, его семейство занимало верхние комнаты. Пройдя через малые ворота во внутренний двор, я постучал в дубовую, потемневшую от времени дверь.
Мне открыли.
На второй этаж вела кованная из стали лестница. Поднимаясь по ней, я услышал, как сверху загремел низкий, с хрипотцой, мужской голос:
– Это что за номер такой? Такие же вот журнальчики мои люди в сомнительных трактирах находят, а теперь и ты разжился? Крамольная литература в моем доме? Восхитительно! Чем, племянник, так тебе мое место не по нраву? Вот не станет его, и кто, ты скажи, будет платить за дом, за стол, за учебу твою, а? Куролесить-то ты мастак, а отвечать-то готов, карбонарий? Не понимаешь, чем дело пахнет?
В ответ послышался голос Данилевского:
– Журнал мне этот в трактире просто подвернулся, я и взял из любопытства. Я же не знал, что вы, дядя, обыск учините! Стал бы я тогда вас расстраивать…
– Ты, щегол, еще подерзи мне! – хриплый голос звучал уже спокойнее. – Я вот профессора Крылова намедни встретил. Вы, голубчик, лоботряс!
– Неправда сие! – возмутился в свою очередь племянник.
– А в том трактире, откуда журнальчик, ты, поди, лекцию слушал?
– Я, дядюшка, у профессора Крылова на хорошем счету. Но помилуйте: не все же время я должен проводить за книгами?!
– Влипнешь ты, Андрей! Хоть бы вот с этим журналом… Забирай, и чтоб духу его тут не было!
Дверь отворилась, и Данилевский появился на лестнице. Увидев меня, он поднес палец к губам и увлек меня вниз.
– Не лучшее время для представления новых друзей, – развел он руками на улице. – Дядя у меня, конечно, личность выдающаяся, но как начнет нравоучения читать – спасу нет!
Данилевский смял злосчастный журнал и бросил его в сточную канаву.
– Ты уже осмотрелся в городе? – спросил он. – Хочешь, я покажу тебе еще одно замечательное заведение?
– Нет уж, уволь, – поморщился я. – Мой покойный дядя тоже был выдающейся личностью, и завтра мне предстоит важное дело: завещание его оглашают. Надо будет соответствовать.
– Тогда возьмем квасу!
Мы присели за столик у входа в ближайший трактир. Половой в кипенно-белой рубахе, подпоясанной шнуром с кистями, по нашему требованию принес нам две большие кружки с темным квасом и маленькую вазочку с баранками.
– Ты не знаешь часом, кто такой князь Кобрин? – как бы между делом спросил я.
– Зачем это тебе? – Андрей закашлялся и отставил кружку. – Мало вчера приключений было?
– Да, видишь ли, я случайно столкнулся с ним в лавке и узнал, что князь сманивает слуг моего дяди.
– Это того, про которого ты говорил? Того, чье завещание?
– Ну да.
– Князь в лавке переманивает чьих-то слуг… Чепуха какая-то… Постой, а как звали дядю-то?
Я назвал дядино имя.
Данилевский присвистнул:
– Ты племянник миллионщика Савельева?
– Да.
– Вот это переплет!
– А что здесь удивительного?
– Да так… Экий занятный случай: неожиданно и совсем случайно встретить в большом городе племянника человека, о котором вот уже несколько недель судачит вся Москва, – в глазах Данилевского я разглядел искры любопытства. – Стало быть, завтра огласят завещание? На это стоит посмотреть, клянусь весами Юстиции! Там, наверное, будет полгорода…
– Ты не рассказал мне о Кобрине!
– Штука в том, что миллионщик Савельев долгое время служил у Кобриных управляющим, так что случай со слугами вполне объясним. С кем же из князей ты столкнулся?
– Не имею понятия! Захожу в савельевскую лавку, а там какой-то хлыщ с усиками с приказчиком дела обсуждает, и тот к нему: «ваше сиятельство», а этот и фамилию говорит! А фамилия-то – Кобрин!
– Хлыщ? Если ты и вправду видел князя, то это мог быть только Кобрин-младший. Однако… – Данилевский в задумчивости принялся за свой квас и баранки, лишь изредка поглядывая на меня.
Я тоже молчал.
Когда кружки опустели, мой спутник предложил:
– Прогуляемся-ка до реки?
Мы зашагали к набережной. Некоторое время мы шли молча, но потом Данилевский заговорил:
– Князей Кобриных здесь все знают. Ты, вероятнее всего, видел младшего из трех братьев – Всеволода Константиновича. Про него много не расскажу, кроме того, что он известный щеголь, мот и вертопрах. А вот самый старший из них – Евгений Константинович Кобрин – это фигура-с: адъютант московского обер-полицмейстера…
– Самого обер-полицмейстера? Главы городской полиции?
– Ну, да! Есть еще и средний, Дмитрий Константинович, – столичный светский лев, почти всегда в Петербурге…
– При дворе?
– Нет, большей частью при игорных домах! Поговаривают, что очень недурно в карты играет. Ну и возглавляет пару общественных заведений или богаделен, или что-то в этом роде, не помню…
– Зачем же им тогда слуги моего дяди?
– Савельев несколько лет был у князей приказчиком, потом управляющим. Говорят, именно здесь и родился его капитал. Более того, очень много финансовых дел с Кобриными у него было и в последнее время, незадолго до его собственной смерти. Так что, думаю, после оглашения завещания тебе, брат, придется с ними столкнуться.
Я задумался.
Мы вышли к реке. В воздухе запахло тиной.
– Меня еще одно смущает, – сказал я. – Мой дядя был миллионщиком, и его приказчик может рассчитывать на хорошую сумму в завещании. А я не знаю никого, кто с капиталом на руках и с большим опытом за плечами пошел бы в услужение вместо того, чтобы пустить собственные деньги в оборот. С капиталом да опытом самое время свое дело заводить! Так же все поступают! А тут, значит, он себе уже и место подыскал. Не сходится тут что-то. Но что?
Мы остановились у каменной лестницы, подножие которой омывали темные волны. Перед нами сонно текла река. Невдалеке от нас какая-то пара, прогуливаясь, кормила чаек. Девушка в сером пышном платье с кринолином бросала в воздух кусочки хлеба, и ни одна крошка не достигала земли: птицы, пронзительно крича, подхватывали добычу на лету. На мостках чуть поодаль бабы полоскали на реке белье. Они о чем-то болтали между собой и смеялись, и их пустой смех вкупе с криками чаек и печальным звоном церковного колокола, принесенным ветром откуда-то с того берега, почему-то сеял во мне тревогу.
– Слухов о старшем брате Кобрине ходит много, и все они дурного свойства, – продолжил Данилевский. – Про любовь ко всякого рода мздоимствам, злоупотреблениям и подношениям можно и не говорить. Именно его торговыми делами руководил твой дядя; пусть уже лет десять прошло, как он перестал быть главным управляющим Кобриных, от дел он так и не отошел. И, как поговаривают, капиталы князей тоже всегда участвовали в его собственных предприятиях…
Студент сел на скамейку и закурил папиросу.
– Да, есть еще одна тонкость, – помахал он в воздухе обгоревшим черенком фосфорной спички, – отец братьев Кобриных, князь Константин Евгеньевич, был игроком и, конечно же, неудачливым. Можно сказать, он в счет своих колоссальных долгов раздал все свое состояние соседям-картежникам и заезжим любителям виста. Но вот что удивительно: когда долговая тюрьма уже казалась неминуемой, Савельев, будучи еще управляющим князя, исхитрился и поправил княжьи дела. В некоем вечернем листке как-то тиснули заметку о том, что приказчик через подставных лиц, а также от своего имени выкупил почти все долговые векселя знатной фамилии. Положение князя было общеизвестным, так что его финансовые обязательства продавали в полцены, а может, и того меньше. Одним их предъявлением к оплате твоя дядюшка мог бы сделать банкротами всю княжескую семью. И это был бы их окончательных крах. Чуешь?
Я отрицательно покачал головой.
Данилевский искоса посмотрел на меня, выпустил в вечернее небо облако табачного дыма и вздохнул:
– Ничего, позже поймешь! В итоге никаких векселей он к оплате не предъявлял, но из управляющих таки ушел. Незадолго до того, как старый князь окончательно спился и умер от апоплексического удара, братья Кобрины все свои доходы вдруг стали вкладывать исключительно в савельевские предприятия! Следующие несколько лет стали временем расцвета состояния Савельева. Кобринские финансы тоже, представь себе, выправились!
– Как же так? Они же были полностью разорены!
– Так все долговые бумаги оказались у Савельева, а потому земли, деревни да несколько заводов не пошли с молотка, а приносили потихоньку прибыль. Только теперь старый князь не мог свободно ими распоряжаться: захочет лес или фабрику какую продать, чтоб денег выручить, а Савельев уже на векселя намекает, и снова банкротство дамокловым мечом висит! А Петр Устинович все княжеские доходы, вместе со своими, разумеется, в выгодные ему предприятия вкладывает: в сталелитейные и судостроительные заводы, в лесозаготовки и рыбные промыслы, в производство спирта и крупные винокурни. Это же миллионы и миллионы рублей прибытка!.. Причем порой он пользуется не только княжескими деньгами, но и высоким княжеским именем в таких делах, в какие его самого с его купеческим происхождением просто не допустили бы. А тут все двери открыты! В таких вещах ведь что главное? Правильно, оборотный капитал! Чем больше в верное дело вложишь, тем больше куш! Ну и наверняка он от прибылей своих отдавал князьям далеко не половину. Думаю, много меньше. В общем, не в ущерб себе работал управляющий!..
Я почесал в затылке:
– Слушай, откуда ты про все это знаешь, а?
– Газеты, городские анекдоты, кабацкие разговоры… Земля, как говорится, слухами полнится, – Данилевский бросил свой окурок в сухую пыль и наступил на него каблуком сапога.
– А еще, – он вдруг пристально взглянул на меня и понизил голос, – по городу ходят другие слухи…
Я вздрогнул:
– Это какие же?
– Нехорошие, брат! Поговаривают, что миллионщика Савельева отравили…
Глава III
В большом зале Гражданской палаты было тесно, душно и пыльно. Пыль была повсюду: на потертой обивке стульев, на бесконечных стопках бумаг, которые сюда приносили и отсюда уносили, на гардинах, некогда белых, а теперь приобретших песочный оттенок, на одежде толпившихся здесь людей. Солнечные лучи, льющиеся из высоких затворенных окон, подсвечивали носимые сквозняком туда-сюда мелкие пылинки, отчего казалось, что в зале повис туман сродни утренним болотным испарениям.
Вокруг меня сгрудилась куча народу. Никто не пытался сесть на первые места, так как они негласно оставались за нами, членами семейства, но задние ряды публика забивала бойко и шумно. Был здесь и полицейский околоточный надзиратель, ибо сегодня оглашалось завещание именитого жителя его околотка, и некоторые видные купцы, и несколько приказчиков и купчиков рангом пониже. Я заметил в толпе и уже знакомого мне франтоватого худощавого дворянчика из дядиной лавки – князя Кобрина. Он, ухмыляясь, стоял поодаль в компании таких же хорошо одетых молодых людей и девиц. Видимо, театральный сезон заканчивался, труппы служителей Мельпомены разъезжались на гастроли, и теперь для праздной молодежи, подобной князю с его спутниками, такие собрания тоже становились развлечением. Во всяком случае, билеты на заседания, как говорили, раскупались чрезвычайно охотно. Бог мой, какая же пошлость!..
Вскоре из высокой двери в зал вышел немолодой поверенный в черном строгом костюме с большой дубовой шкатулкой в руках. В шкатулке, должно быть, лежало завещание.
Все затихли. В воздухе слышался лишь шелест вееров, временами дополняемый чьим-то кашлем с задних рядов, да еще у стены кто-то все шелестел кульком, по всей видимости, с какой-то снедью – с орехами или с леденцами.
Адвокат поставил свою ношу на стол. Затем он торжественно оглядел зал, одновременно протирая черной бархатной салфеткой золотое пенсне, и, нацепив его себе на нос, занял, наконец, свое место за столом. Солнечные лучи, струящиеся из окна у него за спиной, ореолом светились в его тонких седых волосах, окаймлявших поблескивавшую от пота лысину.
В первом ряду перед поверенным сидели только я, Надежда Кирилловна и Аглая. Совершенно бесшумно в наш ряд, только чуть поодаль от нас, подсел и долговязый приказчик-управляющий – тот самый, которого я накануне видел в лавке.
Крышка шкатулки распахнулась. В зале наступила гробовая тишина.
У меня засосало под ложечкой.
Поверенный вытащил на свет сложенный втрое лист бумаги. Кашлянув, он развернул документ и нараспев, как дьякон на клиросе, громким голосом заговорил:
– Оглашается духовная грамота почетного гражданина Российской империи, купца первой гильдии Петра Устиновича Савельева…
Я приготовился было слушать чтение длиннейшего списка, в котором, как это принято в купеческих семьях, обычно подробно описана вся домашняя утварь, иконы, пожертвования различным богадельням и общественным советам. Но, к моему удивлению, текст оказался гораздо короче:
– «Все движимое и недвижимое имущество, весь денежный капитал в делах, оборотах или долгах предоставляю в равных долях в неприкосновенную собственность моих компаньонов – их сиятельств Евгения Константиновича, Дмитрия Константиновича и Всеволода Константиновича Кобриных. Обязую упомянутых лиц также совершить следующие выдачи из моего капитала: жене моей, Надежде Кирилловне Савельевой, передать во владение мой дом в Замоскворечье, ее личные украшения и пятьдесят тысяч рублей в неприкосновенную собственность; дочери же моей, Аглае Петровне Савельевой, – десять тысяч рублей по достижении ею двадцатилетнего возраста».
Барсеньевы в тексте завещания не упоминались.
Меня бросило в жар. Стало нестерпимо душно. Сердце билось неимоверно.
Значит, все кончено?
Оглядевшись по сторонам, я заметил в последнем ряду младшего Кобрина: он ухмылялся в свои реденькие усики и, казалось, с затаенным удовольствием наблюдал за реакцией окружающих. А зал сперва на несколько мгновений замолчал, будто уясняя услышанное, а потом по толпе пробежал ропот. Он словно вывел Надежду Кирилловну из недолгого оцепенения, и та, недовольно дернув плечами, поднялась с места.
Впрочем, сей факт не привлек к себе никакого внимания: поверенный уже дочитал очень лаконично изложенное завещание и кивнул головой с чувством выполненного долга.
Все в зале разом заскрипели стульями, заговорили, засмеялись. Некоторые бросились поздравлять младшего Кобрина, и мне было гадко созерцать эту липкую, льстивую, услужливую радость.
Надежда Кирилловна, окинув взглядом зал так, что шум стих, поправила на плечах шаль и подошла к столу. Мы с Аглаей последовали за ней.
– Когда же, любезный Игнатий Фролыч, мой муж подписал сию бумагу? – спросила поверенного вдова.
– За день до кончины своей, Надежда Кирилловна. Особливо меня для такого случая вызвал.
– Да, все верно, это рука Петра Устиновича, – тетка, взяв лист, рассматривала аккуратные округлые буквы завещания. – Ну что же, я его на том свете спрошу, за что он мне такой позор учинил. А вы? Как вы-то поставили подпись под подобным документом? Вы ведь в нашем доме всегда столовались, я вас за друга почитала…
– Прошу простить, Надежда Кирилловна, но время не терпит! Позвольте откланяться. Я всем, чем мог, вам послужил.
Поверенный протянул было руку за бумагой, однако Надежда Кирилловна прижала лист к груди.
– Нет уж, голубчик, я на него еще полюбуюсь, – остановила она законника тоном, не предполагавшим возражений.
Игнатий Фролович кивнул секретарю. Тот подал адвокату его цилиндр и темную кожаную папку с золотым гербом, а сам взял со стола открытую шкатулку и встал с нею в руках рядом с нами. Поверенный же, не обращая внимания на зашумевшую снова толпу и нескольких попытавшихся догнать его репортеров, быстрым шагом покинул зал.
Мы с Аглаей смотрели на документ.
Завещание как завещание: витиеватые строчки на именной гербовой бумаге, имя «Петр Савельев» внизу, личная подпись, дата. Ничего необычного.
– Нет, это просто какой-то позор, – вздохнула Надежда Кирилловна. – Ничуть не похоже это на моего Петра Устиновича. Быть такого не может! Иль по болезни не в себе был?.. Чтоб мне лишь вдовью долю оставить? А как же Аглая? – она взглянула на дочь.
Аглая выглядела бледнее, нежели обычно.
– Ну, полно, матушка… Здесь все только на нас и смотрят, – девушка взяла у матери лист и передала его мне, – вот, Михаил Иванович, взгляните и вы внимательнее!
Я стал изучать подписи, скреплявшие завещание. Кроме имени поверенного, тут упоминались еще три фамилии.
– Надежда Кирилловна, позвольте поинтересоваться: кто такой господин Шиммер? – спросил я, перекрикивая гомон, царивший в зале.
– Так это врач наш! Пользовал он Петра Устиновича уже лет десять как, – вдова усмехнулась. – Говорила я мужу, что все врачи – шарлатаны, а немцы – так и вовсе мошенники! Вот и итог! Не написал бы он такого в здравом уме! Ах, и подпись врача тут же? Ну конечно! – она всплеснула руками и, подхватив Аглаю под руку, стала пробиваться сквозь толпу к дверям.
Я бросился было за ней, но секретарь, придерживая шкатулку одной рукой, другой цепко ухватил меня за рукав и кивком головы указал на завещание. Я торопливо сунул ему бумагу и поспешил за теткой.
Мне пришлось пробиваться сквозь строй разделивших нас репортеров. Они наперебой что-то кричали, держа в руках свои записные книжки и огрызки карандашей, при этом не забывая широко расставленными локтями упорно оборонять свое место в толпе себе подобных. Поджав губы и не удостоив ответом или даже взглядом ни одного из них, моя тетушка прошествовала к выходу с высоко поднятой головой. С помощью несколько хороших тычков я смог прорваться через всю эту ораву и догнать Надежду Кирилловну.
– А кто такие эти господа Шепелевский и Хаймович? – спросил ее я, теперь стараясь расчистить дорогу для нашего дальнейшего отступления.
– Шепелевский служил при нас, – бросила она, стрельнув в меня глазами и делая знак, чтобы я замолчал, – а другую фамилию я и не слышала никогда.
Я прикусил язык.
– Благоденствуйте, Надежда Кирилловна, – в дверях, сделав шаг навстречу, нам преградил путь князь Кобрин.
– Да уж какое благоденствие, Всеволод Константинович! – вздохнула в ответ вдова.
Князь ухмыльнулся:
– Не обессудьте! Мы с братьями всегда слушались Петра Устиновича во всех наших совместных делах финансового свойства, выполним его повеление и теперь!
Он кивнул Надежде Кирилловне в знак прощания и, развернувшись на каблуках, вышел.
Я глядел ему в спину, и меня переполняло негодование. Вот подлец! Почему человек, осознанно совершая подлость, ничуть не стесняется этого, а прямо смотрит в глаза и смеет подтрунивать над обманутыми?! Нет, не может это завещание быть настоящим! Не верю! Не мог мой дядя оставить хоть сколько-нибудь этим высокомерным вертопрахам!..
Мы в молчании покинули здание Гражданской палаты. Когда мы вышли на воздух, я услышал, что шедшая за мной под руку с матерью Аглая облегченно вздохнула. У меня тоже голова шла кругом от спертого воздуха зала, от тесноты, от всего увиденного и услышанного.
– Едемте домой, – решительным тоном промолвила Надежда Кирилловна, направившись к поджидавшему нас у ворот экипажу, запряженному шестеркой лошадей.
Аглая вздрогнула.
– Мне бы пройтись, матушка! Мутит что-то… – попросила она.
– Это меня не удивляет, – Надежда Кирилловна окинула дочь взглядом и обратилась ко мне. – Так что вы, Михаил Иванович, уж сопроводите сестрицу, будьте так любезны!
Я поклонился ей в ответ.
Слуга захлопнул за теткой дверцу. Экипаж выкатился через широко распахнутые ворота на улицу и под звон конских подков загромыхал по мостовой, распугивая собак, галок и зазевавшихся прохожих.
Мы с Аглаей с минуту смотрели ему вслед, потом молча переглянулись и прошли несколько шагов вдоль по улице.
– Клянусь весами Юстиции, билет в зал суда явно стоил своих денег, – прозвучал вдруг за моей спиной знакомый голос.
Я обернулся и увидел Данилевского.
Его изумрудный студенческий китель был вычищен, пуговицы на сюртуке и кокарда на фуражке горели медным огнем, сапоги блестели, перчатки сияли белизной. На долю секунды я даже засомневался, он ли это, но веселый, чуть ироничный голос не позволил мне ошибиться.
– А я на правах родственника не заплатил за вход и, как видишь, неплохо выгадал на этом, – горько пошутил я в ответ. – Как оказалось, даже вдова и дочь покойного имеют самое отдаленное отношение к завещанию…
Студент поклонился стоявшей рядом со мной Аглае. Я поспешил представить его кузине.
В эту минуту у ворот Гражданской палаты остановилась двуколка, из которой появилась тонкая девичья фигура.
Я сразу узнал Олимпиаду Андреевну.
Она взглянула на распахнутые двери суда, из которых, оживленно беседуя, группками выходили посетители, и покачала головой. Потом она окинула взглядом улицу и, заметив меня с Аглаей, поспешила к нам.
– Так и знала, что опоздаю, – воскликнула Липочка. – Что, все уже разошлись? А я думала: вдруг, как и всегда, открытие заседания задержат? Много ли было народу? А репортеров?..
– Все досталось Кобриным, – перебил ее я.
Олимпиада осеклась. Она перевела ошеломленный взгляд с меня на Аглаю и пролепетала:
– Как?
Аглая сжала кулачки в тонких перчатках.
– Его убили, – она сверкнула темными глазами. – Отец не мог такого написать! Он не мог им все отдать! Он не мог подписаться просто, как «Петр Савельев»! Почетный гражданин и купец первой гильдии не мог так сделать! Такое просто немыслимо! Это сделали они! Сделали и подписью этой нелепой над нами посмеялись! Над нами всеми… И над вами, Мишенька, тоже…
Я покраснел.
– Душенька! – Липочка всплеснула руками. – Как же я могла такое пропустить? А что же вы теперь будете делать?
– Сперва давайте поскорее уйдем отсюда, – предложил Данилевский.
Мы вышли на бульвар. Тут было свежо и свободно. Изредка по мостовой вдалеке грохотали кареты, ландо и пролетки, здесь же деревья дарили нам тень и спокойствие.
– Если завещание подложно, разве нельзя будет это как-нибудь доказать и вернуть ваше добро? – спросила Липочка.
– Боюсь, это будет несколько сложнее, нежели описывается в дамских романах, – ответил ей Данилевский.
Липа метнула в студента недовольный взгляд.
Тот, совсем от того не смутившись, продолжил:
– Я, как, надеюсь, будущий юрист, полагаю, что сейчас еще рано что-либо предпринимать. Объявленное завещание только принято к рассмотрению. В полиции должен быть документ с описью бумаг и имущества на момент смерти. Если родственники не согласны с завещанием и подозревают, что документ подложный, или же считают, что он подписан завещателем, который пребывал не в себе, или же что духовная грамота получена под воздействием угроз здоровью и жизни, то они могут направить жалобу в Московскую Управу благочиния.
– А если это не поможет? – спросила Аглая.
– А если это не поможет, то нужно будет обратиться с прошением на имя генерал-губернатора!
– Скажи, а кто может подавать жалобы и прошения? Только вдова? – насторожился я.
– Любой близкий родственник, – обрадовал меня своей осведомленностью Данилевский.
Но Аглая вздохнула:
– Ну и что это даст? Вот возьмутся опрашивать подписавшихся свидетелей! Так Шепелевский, например, наверняка будет мертвецки пьян, и от него вовсе ничего не добьешься! Его после запоя только батюшка и мог в человека превратить!.. Мы его даже ни разу не видали после нашего приезда…
– А кем вам приходился Шепелевский? – спросил я.
– Арефий Платонович был одним из батюшкиных приказчиков. Тот его давно, до моего рождения, из Самары в Москву призвал. Когда-то он был вполне годным работником, но последние лет пять дела у него с выпивкой все хуже, особенно после больших праздников. Отец его жалел, не гнал прочь, доверял ему. Но… Нет, в суде его слова и в грош ставить не будут!
– Зачем же останавливаться перед первым же препятствием? – воскликнул я. – В завещании стояла еще подпись некоего Семена Осиповича Хаймовича. Вы что-нибудь слышали об этом человеке?
– Нет, – покачала головой Аглая. – Я, как и маменька, впервые увидела это имя. Но, наверное, нужно справиться у отцовых компаньонов. Батюшка ведь со многими купцами дела вел. Те, быть может, это имя слыхали…
За нашими спинами вдруг послышался топот копыт и грохот колес.
Мы обернулись.
По почти пустой улице неслась бричка. Сквозь поблескивавшую на солнце листву и кусты, отделявшие мостовую от бульвара, сложно было что-либо точно рассмотреть, но, казалось, лошадь понесла и уже не слушается возницу. Затем я услышал вскрик и звук удара, будто мешок с картошкой бросили на деревянный пол. Экипаж понесся дальше и исчез за поворотом.
Все стихло.
Потом раздался визг. На противоположной стороне мостовой, опустившись на панель, тонко и пронзительно кричала какая-то женщина.
Улица будто очнулась. Из дверей домов, из лавок, из выходивших на бульвар переулков стали появляться люди. Они тоже что-то кричали друг другу и размахивали руками.
Мы, словно онемев, подошли ближе.
На дороге, разметав в стороны ноги и руки, ничком лежал человек в строгом черном костюме. Его цилиндр откатился в сторону, и теплый ветер теребил пряди тонких седых волос, обрамлявших его блестящую лысину. В нескольких саженях от нас в грязи валялась раскрытая и разорванная кожаная папка с золотым гербом.
Половые, выбежавшие на шум из ближайшего трактира, перевернули лежащего. Лицо его было мертвенно бледным.
Аглая вскрикнула.
Я тоже узнал погибшего.
Мы постояли еще немного, а потом развернулись и пошли прочь от этого страшного места. По бульвару за нашими спинами летали, подгоняемые ветром, гербовые листы с печатями, рассыпавшиеся из разорванной папки Игнатия Фроловича, адвоката купца первой гильдии Петра Устиновича Савельева.
Глава IV
Проснулся я, когда за окном уже вовсю светило солнце, приближаясь в движении своем к зениту. Голова мучительно ныла. Медленно, как тяжелый сон, в памяти всплыли печальные события вчерашнего дня.
Первым делом я распахнул окно, и в комнату ворвался теплый свежий ветер. Затем я добрался до умывального прибора и, зачерпнув руками прохладную воду, омыл лицо. Стало чуть легче. Придя немного в чувство и одевшись, я спустился вниз.
Там слуга передал мне два письма. Первое было от Надежды Кирилловны, в котором она настоятельно звала меня пожить в ее доме до выяснения всех обстоятельств, связанных с дядюшкиным завещанием. Во втором Аглая писала, что убедила Надежду Кирилловну пригласить меня к ним в дом, и просила не отказываться. Не теряя времени понапрасну, я оставил у слуги записку для Данилевского с сообщением о своем переезде, собрал вещи, расплатился и покинул гостиницу.
У ворот дома Савельевых меня встретил уже знакомый мне лай собаки, но на этот раз я почти беспрепятственно добрался до крыльца. Откуда-то из глубины дома до меня доносились голоса: Надежда Кирилловна явно чему-то возмущалась, Аглая же говорила сдержанно, но было ясно, что они о чем-то спорят.
Осторожно постучав в приоткрытую ради сквозняка дверь, я вошел в переднюю.
Разговор стих. Навстречу мне из распахнутых дверей столовой вышла Надежда Кирилловна.
– Вот и вы, голубчик! А Маша как раз должна была подготовить для вас комнату! Уже все, полагаю, и готово! Чай подадут через три четверти часа, и вы как раз успеете освоиться! Маша, – хозяйка хлопнула в ладоши, призывая к себе где-то замешкавшуюся горничную, – Маша, любезная, явитесь все же к нам и проводите гостя!
Я в знак благодарности поклонился.
– А у меня еще столько забот! – продолжила тетка. – Вот еще и приказчик наш попросил рассчитать его… Это ж надо – в такое-то время! Чую, перешел он, как и все мужнино наследство, к Кобриным, вот как пить дать! И ведь не совестно ему, нет!.. И все беды прямо одна за одной! Даже горничную не докличешься!
Из столовой появилась Аглая. Улыбнувшись мне, она сказала:
– Матушка, по-моему, Маша побежала встречать разносчика, ведь сегодня он обещал нам свежую вырезку! Михаила Ивановича я и сама провожу наверх, в его комнату. А вы лучше отдохните! Вам волноваться неполезно…
Отведенные мне покои были небольшими, но довольно уютными. Мрачные гранатовые оконные гардины будто впитывали весь струившийся снаружи дневной свет, не позволяя ему проникнуть внутрь. Из-за гардин в комнату кокетливо заглядывали розовые бальзаминчики, сидевшие в горшке на подоконнике. У стены белела кровать, украшенная по углам четырьмя стальными полированными шарами и увенчанная горой пышных подушек. Тусклый медный умывальный прибор был доверху наполнен студеной водой. Тут же стоял громоздкий старый сундук, готовый поглотить все мои скромные пожитки. У кровати в киоте на стене висела икона, настолько старинная и потемневшая, что разобрать изображенный на ней лик было весьма затруднительно.
Аглая гостеприимным жестом пригласила меня войти.
– Я очень рада, что вы приехали, – сказала она. – Теперь мне будет не так тревожно. Сегодня ночью я ни секунды не спала! Мне все казалось, что сейчас я увижу нашего поверенного. Глупости какие… А сегодня и наш управляющий заявил, что покидает нас…
– К сожалению, я узнал об этом еще несколько дней назад, – ответил я, – в вашей лавке он беседовал с одним из князей Кобриных. Это же тот самый человек, что сидел рядом с нами в суде при оглашении завещания, да?
– Да, это он, Стратон Игнатьевич Огибалов, главный управляющий в делах отца, – Аглая вздохнула.
Мы спустились в переднюю и вышли в сад.
Под ветвистой яблоней стоял стол, накрытый к чаю. Над ним уже вился дымок самовара и порхали бабочки. Чуть поодаль, в глубине сада, белела маленькая беседка, окруженная большими кустами боярышника и увитая плетьми девичьего винограда. Мы проследовали к ней по хрустящим камням дорожки и вошли внутрь.
Кузина села на скамейку.
– Аглая Петровна, – пробормотал я, примостившись рядом, – прошу вас простить мне мои вчерашние слова о наследстве…
Девушка покачала головой.
– Пустое… – ответила она. – Вам нечего виниться! Все вокруг будто помешались на этом наследстве: Огибалов, Шепелевский и прочие… Все, кому доверял мой отец, – Аглая усмехнулась. – Лет десять Огибалов был его правой рукой, и теперь оказывается, что он все знал? А через неделю-другую он просто займет свое место у Кобриных. Как гладко все у них…
– Но этого нельзя так оставить! – воскликнул я. – Нужно жаловаться!
Аглая лишь недоверчиво пожала плечами.
– Самовар еще не готов, – ответила она, – а мне так не хочется сидеть на месте!
Мы вышли за ворота.
Тишь и уединение беседки сменились шумом улицы, грохотом повозок и гамом пробегающих мимо стаек уличных мальчишек. Под сенью склонившихся над улицей зеленых вязов, посаженных по обе стороны дороги, мы пошли к золотившейся невдалеке церкви.
Знакомую долговязую фигуру Данилевского я заприметил еще издали. Он махнул нам рукой с противоположной стороны улицы и прыгнул на мостовую, чуть не оказавшись под колесами несущегося по ней шарабана.
Наконец он поравнялся с нами.
– Мне удалось выяснить много занятного, – выдохнул Андрей. – Но приятного мало…
– Да не томи ты со своими реверансами, – не выдержал я.
Данилевский выразительно огляделся.
Аглая, поняв, чего тот опасается, свернула за угол и повела нас за собой каким-то узким тихим переулком.
Немного помолчав, Данилевский, наконец, начал свой рассказ:
– Я дал по гривеннику парочке мальчишек-посыльных из лавки Савельева, дабы они мои записочки снесли по адресу, да заодно мы с ними очень душевно поболтали. Я им рассказал в красках о вчерашнем ужасном происшествии на бульваре у здания Гражданской палаты, а они мне – о последних днях жизни купца Савельева. Говорят, хозяин чувствовал себя вполне сносно, из дому, правда, не выходил, но дела свои вел исправно. В день его смерти посыльные ходили от него с корреспонденцией к купцу Винокурову: у партнеров намечалась крупная сделка по продаже леса. Записки носили несколько раз…
– Именно это вы и хотели нам сообщить? – не оборачиваясь, перебила Данилевского Аглая. – Рассказать нам о том, что мой отец до последнего своего дня оставался трудолюбивым человеком?
– Нет, главное не это! – с нажимом ответил, глядя ей в затылок, Данилевский. – Посыльные рассказали мне, что они видели в день смерти Савельева у ворот его дома карету князей Кобриных. И на следующий день она тоже там появлялась несколько раз. Уверяют, что не могли ошибиться, ибо очень уж хорошо ее знают. Подозреваю, что свидетелей сего факта найдется гораздо больше, если принять во внимание, как о том судачат в городе…
Повисло напряженное молчание.
Аглая шла впереди нас, мы едва поспевали за ней, и я не мог видеть ее лица, но стан девушки, и без того стройный, казалось, еще сильнее выпрямился, а движения ее стали еще более резкими и отрывистыми.
Мы вышли из переулка на широкую улицу и остановились у кованых витых ворот, за которыми в яблочно-сиреневых зарослях утопал большой купеческий особняк, весьма похожий на дом Савельевых.
– Давайте вернемся домой, выпьем чаю и все спокойно обсудим, – сказала Аглая. – Только я зайду за Липой…
С этими словами она коснулась тяжелого кольца, висевшего в пасти привинченной к калитке медной львиной головы, и громко постучала.
Ей открыли.
Мы с Данилевским остались снаружи.
Вскоре Аглая вернулась вместе с подругой. Олимпиада Андреевна одарила нас лучезарной улыбкой, и я в ответ не смог скрыть свой смущенно-восхищенный взгляд.
Мы повернули обратно к дому Савельевых. Нам оставалось свернуть за угол, чтобы оказаться перед нужными нам воротами, однако Аглая, сделав шаг, вдруг отпрянула назад и остановила нас жестом руки. Мы вчетвером, скрытые пышным кустом сирени, остались за поворотом улицы.
К воротам савельевского дома подъехал черный экипаж, запряженный парой вороных лошадей.
Дверь кареты распахнулась.
С подножки спрыгнул человек в мундире с блестящими аксельбантами на плечах и бодрой походкой вошел в калитку.
– Князь… – обернувшись к нам, беззвучно, одними губами, прошептала Аглая.
Мы переглянулись.
– Он здесь явно инкогнито, – сквозь зубы процедил Данилевский. – Гербы, вон, фамильные на карете завешены, да и не по рангу-то ему совсем на простой конной паре выезжать…
Аглая поманила нас пальцем, и мы двинулись за ней в противоположную от ворот сторону. Пройдя с полсотни саженей, я увидел в ограде маленькую неприметную дверцу.
Кузина, сунув руку в обрамлявшую дверь листву, щелкнула невидимой для нас задвижкой, и мы один за другим проскользнули через эту тайную калитку в сад.
Аглая, потянув меня за рукав, прошептала Липе и Данилевскому:
– Подождите нас здесь!
Наши спутники остались у ограды. Я же последовал за кузиной по узкой тропинке, извивавшейся среди деревьев и выведшей нас, наконец, к тыльной стороне дома.
– В последние годы отца мучила водянка, и ему было тяжко принимать посетителей наверху, в своем рабочем кабинете, – проговорила Аглая. – Поэтому внизу он приказал устроить для себя приемную, чтобы вести переговоры там. Думаю, матушка поведет князя именно туда.
Мы прошли вдоль дома и оказались среди густых кустов сирени прямо под окнами приемного кабинета.
«Только бы Сапсан не решил обходить свои владения именно сейчас», – подумал я, поскольку мое появление в них он всегда отмечал громким заливистым лаем…
Я осторожно заглянул в окно.
Дверь распахнулась, и в кабинет, следуя за Надеждой Кирилловной, и вправду вошел нежданный посетитель. Хозяйка дома прошла в дальний угол, к столу, и, встав там, замерла в ожидании.
Князь же остановился у зеркала, висевшего на стене у самой двери. Он вынул из кармана маленькую щеточку и принялся аккуратно расчесывать свои усы. Он был вовсе не так стар, как мне ранее представлялось, – лет, наверное, тридцати пяти, – холен, солиден и, в отличие от своего младшего брата, не выглядел хлыщом и вертопрахом.
– Почтенная Надежда Кирилловна, – низким голосом проговорил князь, по-прежнему разглядывая в зеркале свои идеально подстриженные усы, – спешу вас заверить, что новость о завещании поразила меня не меньше, чем вас…
Потом он повернулся к окну.
Мы с Аглаей отпрянули, боясь оказаться замеченными.
Князь подошел к Надежде Кирилловне и продолжил:
– Я бы не стал беспокоить вас своим визитом без лишней надобности, понимая, сколь необходимо вам уединение в столь тяжелую минуту. Но, сказал я себе, ведь именно на мою поддержку для своей семьи рассчитывал покойный Петр Устинович! Посудите сами: его дело – вот то, что чрезвычайно заботило его. Кому, как ни нам с братьями продолжать его вести! Ведь и капиталов наших в общих с Петром Устиновичем прожектах более чем достаточно! Однако, задал я себе вопрос, только ли свои капиталы доверил мне покойный? Нет и нет! Его семья также непременно должна оставаться под моим покровительством…
Он приблизился к Надежде Кирилловне и поцеловал ей руку.
Вероятно, это было прилично в дворянских кругах, но Надежда Кирилловна была купеческой женой, и этот жест почтения ее явно смутил.
– Что же… вы предлагаете, любезный Евгений Константинович? – вздохнула она.
– Поддержку! В особенности финансовую. Я намерен выдать вам расписку, по которой вы сможете получить в банке двадцать тысяч рублей. Я думаю, это лишний раз докажет мою искренность. Однако… – князь на секунду запнулся, словно от смущения, – мне даже как-то неловко вас просить об этом, но я хотел бы уладить один пустяк.
– Какой же?
– Вы ведь, Надежда Кирилловна, знаете, что я не менее вашего покойного мужа привык держать свои дела в полном порядке. Но у Петра Устиновича остались на сохранении некоторые мои бумаги. Я веду речь о векселях моего отца. Вам они наверняка совершенно ни к чему, а мне они могут оказаться весьма потребны. Знаете ли вы что-нибудь о них?
Надежда Кирилловна замялась:
– Я была столь далека от дел и бумаг Петра Устиновича… Надо бы расспросить приказчика! Может, он что-либо знает…
В дверь вошла горничная, держа в руках поднос с чаем и сластями.
Мы тем временем продолжали стоять на нашем посту и слушать.
Но уже через четверть часа князь Кобрин распрощался. Его шаги послышались сперва в коридоре за кабинетом, затем на крыльце, потом на посыпанной гравием дорожке. Наконец до нас донеслось фырканье лошадей, щелканье кнута, скрип рессор и удаляющийся цокот копыт.
Когда все стихло, мы поспешили вернуться к калитке.
Только здесь мы вздохнули свободно. Аглая тихо засмеялась, прикрывая рот рукой, как хихикают маленькие девочки, прежде чем прошептать подружке на ухо какой-нибудь пустяковый секретик. Как ни странно, смеяться подобным образом захотелось и мне: слишком уж сильное напряжение мы испытали в этот час. Теперь мы оба прыскали и тряслись от смеха, будучи неспособными выговорить ни слова.
– Похоже, князь почтил своим визитом ваш дом, чтобы рассказать пару фривольных анекдотов, так? – промолвил Данилевский, переводя удивленный взгляд с меня на Аглаю.
– Нет, не совсем, – пытаясь подавить нервный смех, ответил я. – Князь хочет получить назад свои векселя…
– Векселя?
– Ага, – я снова глупо хихикнул.
– А вот это интересно! Выходит, он уверен, что бумаги остались у семьи покойного…
Мы замолчали и обернулись к Аглае.
Та пожала плечами:
– Что вы оба на меня так смотрите? Я впервые слышу об этих ваших векселях! О чем это вы ведете речь?
Я коротко рассказал кузине о том, о чем несколькими днями ранее мне поведал Данилевский: о старом князе, у которого ее отец служил управляющим, о выкупе Савельевым у кредиторов всех долговых обязательств и о спасении им княжеского семейства от неминуемого разорения. Не забыл я упомянуть и о том, что после приобретения всех векселей управляющий уже перестал быть управляющим, а стал успешным купцом, в руках которого, помимо его собственных, оказались все капиталы княжеской семьи.
– Все так запутано, – схватилась за виски Аглая. – Вы хотите сказать, что мой отец не позволил их семейству разориться, но и всеми их богатствами пользовался лишь по своему усмотрению? Это же шантаж!
– Если хочешь миллионами ворочать, зайчиком остаться не выйдет! – ответил Данилевский. – Но когда маленький капитал прикладываешь к капиталу посолиднее, да еще и сам выбираешь нужных людей для крупных сделок, неудивительно, что дела идут в гору!
– Значит, все савельевское наследство они почитают за свое, – подвела итог Аглая. – Теперь у них есть и миллионы, и возможность их тратить… И все же, выходит, выкупить у отца векселя при его жизни они так и не смогли. И где-то они до сих пор хранятся… Вот бы их отыскать! Их же, наверное, можно выгодно продать…
Разговаривая, мы вышли из сада и подошли к дому. В этот момент на крыльце появилась Надежда Кирилловна, которая полным удивления и недовольства взором принялась изучать нашу компанию.
Прятать в кустах долговязую фигуру Данилевского было уже поздно, и я с мучительным напряжением всех своих умственных способностей стал соображать, как бы объяснить присутствие незнакомого молодого человека рядом с двумя незамужними девицами без соответствовавшего приличиям представления его персоны их родителям.
– Разрешите, Надежда Кирилловна, представить вам моего товарища по гимназии, – не слишком уверенным голосом отрекомендовал я своего приятеля тетке. – Случайно встретились на прогулке! Я даже не знал, что он сейчас в Москве…
– Почему же случайно? – отодвинув меня плечом в сторону, Данилевский шагнул вперед. – Надежда Кирилловна, я очень давно хотел оказаться вам представленным и рекомендованным. Как и многие наши земляки, мой старший брат получил место благодаря покровительству вашего супруга, Петра Устиновича, что во многом предопределило его счастливую судьбу на службе.
– Вот как? – Надежда Кирилловна сменила гнев на милость.
– Да, я хотел, честно вам признаюсь, последовать примеру брата и, попросив аудиенции у Петра Устиновича, спросить его совета и, возможно, оказаться полезным на какой-нибудь службе под его началом или началом его помощников. Но, к моему глубочайшему сожалению, когда я прибыл в Москву, я узнал о постигшем нас всех несчастии. Поверьте мне, уважаемая Надежда Кирилловна, не отсутствие рекомендаций от вашего любезнейшего мужа, храни бог его душу, расстроило меня, но то, что я не смогу выразить ему всю ту благодарность от всего нашего семейства, которую хотел бы высказать лично. Ведь сколько земляков Петр Устинович вывел в купцы, скольким дал лучшую судьбу… – весь этот монолог лился из уст Данилевского так искренне, что Надежда Кирилловна даже позволила подхватить ее под руку и увлечь с крыльца к яблоне, под которой был наконец накрыт к чаю стол.
– Да-да, вы совершенно правы… м-м-м… Андрей Федорович? Совершенно правы, – вздыхала она. – Ах, скольким людям помог мой несчастный покойный муж! Я всегда ему говорила: дескать, еще немного, и вся Самара переедет в Москву, а он всегда неизменно мне отвечал: «Свои надежнее». И ведь такие дела делались, такие капиталы в ходу были!.. Спасибо вам за теплые слова! Вот скольким помог, а разве кто-нибудь ко мне пришел? Так, после похорон лишь пару карточек визитных оставили, и все… Оставайтесь, любезный Андрей Федорович, на чай! Уже и самовар готов, а горничная наша у разносчика халвы да райских яблок в сахаре накупила…
Мы с девушками пошли следом.
– И как это у него получается? – прошептала рядом со мной Липа.
– Не представляю – ответил я, – но, пожалуй, я вычеркну из списка обязательных дел посещение театра…
Липа чуть слышно рассмеялась и отвернулась к Аглае, делая вид, что смахивает с рукава ее платья букашку. Я же, из последних сил состроив приличествующую случаю серьезную физиономию, шагнул к столу.
За чаем Данилевский продолжил обхаживать Надежду Кирилловну. Пожалуй, и десятой доли его обаяния с лихвой хватило на то, чтобы заполучить у хозяйки дома дозволение свободно приходить и проведывать меня по «старой гимназической дружбе».
После трапезы Андрей, сославшись на дела, отложенные до вечерней поры, попросил разрешения покинуть нас.
Я вызвался проводить его.
Мы вышли из сада за ворота.
– Ну и брехло же вы, Андрей Федорович! – не удержался я. – В вас погибает талант актера! Или, может, авантюриста?
– Импровизация, – студент вытянул вверх указательный палец. – Учитесь!
И мы оба расхохотались.
– Ну, что же, все не так плохо, – сказал Данилевский. – По крайней мере, я теперь получил законную возможность появляться в вашем доме.
– Это сейчас так важно? – ответил я. – Помнится, раньше нам для веселых встреч было достаточно трактиров и студенческих вечеров на съемных квартирах…
Андрей кончил смеяться.
– Клянусь весами Юстиции! Если ты решил наследство кузины с теткой отдать за так их сиятельствам, – нахмурился он, – да и сам – остаться с носом, то это, конечно же, совсем не важно. Однако разве это будем правильным?
– Да, ты прав. Как мы поступим дальше?
– Попробуй узнать у Аглаи, где и как ее отец хранил деловые бумаги. Где-то же он спрятал векселя, да так, что их не нашли лучшие сыщики! А работали для старшего князя именно они, уж не сомневайся! Шансов немного, но, как показывает жизнь, все мы знаем гораздо больше, чем нам кажется. Вдруг Аглая вспомнит что-то такое, что приведет нас к тайнику… По сути, векселя – наш единственный козырь, хотя после оглашения завещания я не могу быть уверенным, что он окажется достаточно сильным. Кто знает, сколько там задолжал старый князь?
Я вернулся домой с первыми грозовыми раскатами. Липу я, к своему разочарованию, в гостях у Савельевых уже не застал, а вскоре и Надежда Кирилловна, сославшись на головную боль, покинула нас с кузиной и поднялась к себе. От нечего делать я устроился коротать вечер в большом кресле в гостиной, взявшись за газеты. Тут же Аглая читала книгу, расположившись на миниатюрной козетке и облокотившись на круглую бархатную подушечку с длинной бахромой и кистями. Мягкий боковой свет лампы, стоявшей рядом на столе, разбрасывал по стенам комнаты тени и делал профиль Аглаи похожим на лик Клеопатры с полотна Кипренского.
Тишину и уют гостиной нарушали лишь гром и всполохи молний в окнах. Они заполняли комнату пробивавшимися сквозь вечерний мрак холодными вспышками и рокочущим гулом электрических разрядов.
Через несколько минут, так и не перевернув ни одной страницы, Аглая захлопнула книгу.
– Нет, так совершенно невозможно читать! – воскликнула она. – Не могу отделаться от этого гнетущего ощущения! Будто мы сами очутились в каком-то жутком романе. Эта гроза, эти векселя, этот князь, слухи, завещание… Вам не страшно?
Я отложил газеты и с напускным спокойствием ответил:
– Если наши подозрения верны, то самое страшное уже произошло. Убийство и подлог – чего еще нам бояться? Или вы считаете, что они могут зайти дальше?..
– А вы умеете успокоить, – кузина резко села на своей козетке и отбросила книгу в сторону.
В комнате повисло напряженное молчание. Было слышно только, как дождевые капли барабанят по крыше.
– Аглая, вы можете предположить, где ваш батюшка мог спрятать ценные деловые бумаги? – наконец не вытерпел я.
– Я думаю об этом весь вечер и ничего не могу придумать, – Аглая пожала плечами.
– Нам надо осмотреть кабинет вашего отца, – продолжил я.
В ответ Аглая покачала головой:
– Когда мы с матушкой вернулись домой, там был жуткий беспорядок. Князь объяснил это необходимостью собрать и забрать какие-то важные документы…
– Но мы же знаем теперь, что тех самых важных документов они не нашли, – не сдавался я.
– Вы хотите идти туда сейчас, в такую темень, когда кто-нибудь может нас услышать? – кузина, возражая мне, все же поднялась и укуталась в висевшую на спинке козетки шаль.
За окном снова ударил раскат грома.
– Днем это сделать почти невозможно, – я все пытался заразить Аглаю своим азартом, – наши поиски не ускользнут от бдительного взгляда вашей матушки. А сейчас такая буря за окном! Она заглушит любой случайный шум…
Искра молнии на мгновение осветила лицо Аглаи, придавая ее испуганному взгляду долю античной трагичности. Девушка встала и дрожащей рукой взяла со стола лампу. Пламя за стеклом качнулось и затрепетало.
– Что же, этот день и так был ужасен… В самый раз закончить его посещением кабинета моего покойного отца, – пробормотала кузина, сделав упор на предпоследнем слове.
Мы, стараясь ступать как можно тише, вышли из гостиной, осторожно прошли по коридору, озаряемому грозовыми всполохами, и поднялись вверх по лестнице. Подойдя к двери кабинета, Аглая остановилась и обернулась ко мне:
– Это совершенно необходимо?
Не ответив кузине, я отстранил ее и толкнул дверную ручку.
Дверь предательски заскрипела.
Весь дом, как мне показалось, содрогнулся. Втянув головы в плечи, мы замерли в ожидании топота ног прислуги, сбегающейся с разных концов усадьбы. Аглая, закрыв ладонью рот, вжалась в стену.
Но на шум никто не откликнулся. Большой темный дом все так же безмолвствовал. Только за окнами шумел дождь, на пару с ветром стуча в стекла ветками цветущих в саду кустов и деревьев.
Я опять взялся рукой за дверную ручку, и в сумраке снова раздался громкий протяжный скрежет.
Аглая схватила меня за рукав и покачала головой.
Мне пришлось подчиниться.
Мы вернулись в гостиную, и Аглая упала в кресло.
– Все, достаточно! Никаких ночных обысков и осмотров, никаких расследований и догадок! Подлог, убийство, смерть адвоката, заверившего завещание… Мне и днем уже ходить страшно, а уж ночью… Нет, это невозможно! Увольте! – она стукнула кулачком по подлокотнику кресла и вдруг, закрыв лицо рукой, тихо расплакалась.
Я совершенно растерялся. Не зная, что делать и с какой стороны подступиться к этому огромному и неудобному креслу с плачущей в нем кузиной, я беспомощно озирался в поисках графина с водой. Потом я просто встал перед сестрой на колено и взял ее за руку.
Немного погодя, Аглая всхлипнула, вздохнула и чуть улыбнулась мне сквозь слезы:
– Все хорошо, Мишенька, со мной все хорошо. Идите, милый, спать…
Мне ничего не оставалось, как отправиться в свою комнату.
Раздевшись и умывшись, я вспомнил, что так и не написал письма матери, но сил у меня для того более не оставалось, и я решил отложить это дело на завтра, успев набросать лишь несколько строк в своей записной книжке. В комнате было немного зябко, да и переживания ушедшего дня еще давали о себе знать колючим холодком по коже, поэтому я забрался в кровать, уже предчувствуя вероятное приближение лихорадки.
«Самому бы сейчас не слечь ненароком, – подумал я. – Это было бы нынче совсем некстати».
Сон все не шел.
Гроза закончилась. Шум за окном стих, и только с кровли еще то тут, то там срывались крупные водяные капли и звонко шлепались в натекшие под окнами лужи.
Я встал и приоткрыл окно. Сад дохнул на меня своим влажным, терпким и сладким ароматом. Но легче мне не стало.
Вдруг в пустынном безмолвии дома мне послышался скрип.
Я обернулся к двери и прислушался.
Тишина…
Я на цыпочках подошел к двери и замер.
Снова тихо…
Я затаил дыхание.
«Неужто показалось?» – удивившись правдоподобности своей иллюзии, я вздохнул и тут снова услышал этот звук.
Это был скрип. Скрип двери в хозяйский кабинет.
Кто-то вошел в кабинет? Вор? И дом, и двор заперты, и на дворе полно прислуги. Аглая? Она сейчас слишком напугана, чтобы снова пойти туда. Тетка, Надежда Кирилловна? Но почему сейчас? Уж она-то всегда может это сделать днем. Слуги? В самом доме живут только горничная да кухарка, но едва ли им что-то может понадобиться в хозяйском кабинете…
Я сел на кровать и снова прислушался.
Было тихо. И все же мне там и сям то и дело мерещились шаги, стуки, скрипы, какой-то шелест и позвякивание.
Голова плыла. Я лег в постель и лежал, совсем не шевелясь и стараясь разом расслышать хоть что-нибудь и не слышать ничего.
Сколько это продолжалось, не знаю, так как силы, видимо, окончательно покинули меня, и я сам не заметил, как наконец уснул.
Глава V
Утром я проснулся совершенно разбитым. Спустившись к завтраку, я увидел в столовой Аглаю. Она стояла у окна, и темные круги под ее красными глазами свидетельствовали о проведенной ею бессонной ночи.
Не успели мы поприветствовать друг друга, как в столовую вошла Надежда Кирилловна. Она была одета по-дорожному, и вид у нее был самый решительный.
– Аглая, друг мой, я вчера перед сном вспомнила об одном важном деле в нашей усадьбе на Клязьме, и мне нужно на пару дней срочно уехать, – сказала она. – Ты не хочешь составить мне компанию? Кучер уже закладывает экипаж…
Кузина побелела.
– Простите, матушка, но мне что-то неможется, – прошептала она и схватилась за резную спинку стула.
– Боже мой, конечно! Такие события, такие нервы, – тетка перекрестилась сама и осенила крестным знамением дочь. – Хорошо, тогда я поеду одна. Оставляю вас с Михаилом Ивановичем под надзором нашей кухарки. Аглая, ляг сейчас же в постель! Тебе надо поберечь себя! Михаил Иванович, поухаживайте за сестрой, будьте так добры! Да, и не забудьте написать матушке обо всех наших злоключениях, – и она, распрощавшись с нами, вышла во двор, на ходу раздавая прислуге последние распоряжения.
Мы остались в столовой одни. Аглая, собирая с подоконника в ладонь опавшие лепестки герани, молча смотрела в окно на то, как во дворе лакей Тихон, одетый в длинный синий кафтан и шапку с меховой опушкой, укладывал в легкую бричку для дальних поездок теткин багаж.
Я подошел к кузине почти вплотную.
– Могут ли векселя оказаться на вашей летней даче? – прошептал я.
– Едва ли, – так же тихо ответила Аглая. – Отец никогда не хранил там ничего важного или ценного.
– Однако ваша матушка, вероятно, желает удостовериться в этом лично. В любом случае, ее отъезд ненадолго развязывает нам руки.
– Вы намерены снова идти в отцовский кабинет?
– Мы должны попытаться ухватить эту нить! Или же убедиться в том, что в кабинете и в доме вовсе нет никаких документов, и что нужно искать в другом месте. Проверим все, и баста! Другой такой случай вряд ли представится…
Аглая помолчала, а потом бросила скомканные сухие лепестки обратно в цветочный горшок:
– Мне помнится, кухарка намеревалась отправиться после завтрака за провизией, и я позабочусь, чтобы она не позабыла об этом. А горничную я и вовсе отпущу. Маша наверняка будет рада выходному дню.
– Стало быть, вы снова в деле? – улыбнулся я.
– Да. Днем я чувствую себя намного уверенней.
– Тогда разрешите мне пригласить Данилевского! Он может нам пригодиться, – я вспомнил вчерашнюю сцену с теткой в саду.
– А я тогда позову Липу, – согласилась Аглая. – Она не простит мне, если мы соберемся для такого дела без нее!
Совсем скоро теткин экипаж с грохотом выехал со двора.
Вскоре после завтрака, прошедшего в задумчивом молчаливом ожидании, кухарка засобиралась на рынок. Меж тем я вышел за ворота, подозвал первого попавшегося уличного мальчишку, дал ему несколько медяков и поручил снести одну записку в дом купцов Егоровых, а вторую – на квартиру моего приятеля-студента.
Не прошло и получаса, как в нашей гостиной появилась Липа, одетая на этот раз в изящное гранатовое платье с кружевом, обворожительная, как и всегда, а следом за нею – и Данилевский.
– Вы оба бледны, будто увидели привидение, – сказала нам вместо приветствия Олимпиада.
Мы с Аглаей только молча переглянулись.
Услышав шорох гравия на дорожке, я взглянул в окно. Через сад по направлению к калитке плыла, удаляясь, фигура кухарки.
– У нас есть пара часов, не более, – сказал я.
Теперь дом был в нашем распоряжении.
Кабинет купца Савельева соединялся внутренней дверью со спальней, так что осмотреть мы могли сразу два помещения. В комнатах было прибрано, но следы былого вторжения все же остались: все ящики бюро были пусты – вероятно, бумаги из них просто свалили в одну кучу, завернули в мешок, да так и вывезли. То же самое было проделано и с ящиками большого тяжелого стола. На его столешнице, ножке и на полу рядом еще виднелись следы чернил: судя по всему, чернильницу в спешке опрокинули и отшвырнули прочь.
– Да, это явно сделали при обыске, – подтвердила предположение Данилевского Аглая. – Отец всегда был предельно аккуратен.
Мы, стараясь не шуметь, ходили по кабинету, рассматривали, скрючившись и заглядывая во все углы, стол и бюро, вставали на цыпочки, пытаясь осмотреть шкаф, но толку из нашего исследования не выходило.
Наконец Данилевский выпрямился.
– Нет, так дело не пойдет! – заявил он. – Мы действуем не по правилам. Дамы, присядьте, пожалуйста!
Девушки послушно опустились на диванчик, стоявший у двери.
– Мы суетимся и не знаем, что и как искать, – продолжил студент. – Нам нужно определиться с нужными действиями и их последовательностью. Я поясню: мы пядь за пядью осматриваем комнаты от окон до дверей и ничего не пропускаем. В бюро, – он вытащил ящик и приложил его к боковой панели, – проверяем ящики: их длина должна совпадать с глубиной шкафа. Если это не так, то ищем внутри тайное отделение. Панели на стенах надо простучать, половицы – тоже. Главное – выявить под ними возможную пустоту, ибо звук над тайником будет не короткий, тихий и сухой, а протяжный, гулкий и громкий. Все диваны и кресла следует тщательно прощупать, ножки – попробовать открутить: внутри них тоже можно что-то спрятать, свернув в трубочку, например, бумаги, письма, векселя…
Так мы и поступили, однако результатов спустя полчаса напряженной и кропотливой работы не достигли решительно никаких.
Я поднялся, пытаясь привинтить обратно ножку маленького кресла.
– Уважаемый мсье сыщик! Знаете, что я думаю обо всем этом? – спросил я Данилевского. – Едва ли мы сможем тут что-то найти, если по этому принципу дом явно уже неплохо обыскали!
– У тебя есть другие предложения? – отозвался тот, стряхивая сор с рукавов кителя.
– Ну, для начала стоит перестать заниматься заведомо бесполезной работой!
– Я думаю, Миша прав, – сказала Липа. – Тут все вычищено и вылизано, и даже ящики в бюро не только просмотрели, но и, как мне показалось, даже протерли от пыли. А некоторые из них явно поместили не в свои ячейки, – с этими словами она поменяла два ящичка местами, и те, щелкнув под пальцами девушки, встали в гнездах гораздо ровнее, нежели стояли до того.
– Мне кажется, пора уходить, – прервала наш спор Аглая. Она поднялась с места и вышла из отцовского кабинета.
Мы не стали с ней спорить и, молча спустившись вниз, прошли за ней в беседку.
– Простите меня, но я не могла там более находиться, – вздохнула Аглая, садясь на скамейку. – Боже, какие могут там быть тайники?! Я не хочу видеть этих векселей и не понимаю, что они нам дадут! Разве это поможет доказать то, что отца убили?
В саду скрипнула калитка. Это вернулась домой кухарка, ведя за собой носильщика, навьюченного корзинками и мешками с явно солидным запасом провианта.
– Вовремя смылись, – проговорил Данилевский, проводив взглядом эту маленькую процессию.
Однако в возвращении кухарки с рынка имелись и преимущества, поскольку совсем скоро для нас в саду был накрыт стол и выставлен горячий самовар.
После обеда и чая мы еще долго сидели и болтали, и смеялись над шутками Данилевского, и над веселыми последними новостями, услышанными от Липы, пока не заметили, что вечер уже принялся раскрашивать небо в золотисто-багряные тона.
Данилевский выпил еще чашку чаю, заев ее очередным большим калачом и с благодарностями распрощался.
– Ах, я, как и всегда, совершенно забыла о времени! Мне тоже давно пора, – Олимпиада повернулась ко мне, и ее глаза лукаво блеснули. – Михаил Иванович, вы не проводите меня?
– Почту за честь, – ответил я, втайне радуясь удобному поводу улизнуть из дома.
Аглая с насмешливым укором посмотрела на нас и исчезла в глубине сада…
Дом Липы, утопавший в зелени, находился совсем недалеко от усадьбы Савельевых. К нему от дороги, по которой мы шли, вилась тропинка, ведущая вверх по склону холма.
– Михаил Иванович, давайте прогуляемся! Весь день такая духота! Мне ужасно не хватает воздуха! – сказала Липа, накидывая на плечи свой палантин. Полупрозрачный, такого же густого гранатового оттенка, как и ее платье, он развевался в первых порывах предгрозового ветра, окутывая красными языками тканевого огня то бледную шею, то запястья девушки, видневшиеся между оборками рукавов и кружевной тканью перчаток.
Я остановился, всматриваясь в багровеющее небо, на которое с одного края стремительно наползала темная клубящаяся облачная пелена.
– Тучи обойдут нас стороной, я уверена, – прищурилась моя спутница. – Хотите, я покажу вам место, где гулять в сумерках особенно удивительно?
– Только если дома вас не хватятся… – скорее из вежливости, нежели из искреннего опасения ответил я.
– Пойдемте, Миша, тут недалеко, – Липа свернула на боковую тропинку и побежала с холма вниз, в сторону от своего дома.
Я поспешил за ней. Небо стремительно темнело, но гранатовое платье девушки мелькало впереди, разрезая сгущавшиеся сумерки, и мне ничего не оставалось, как только стараться не отстать.
Наконец Липа остановилась.
– Вот мы и пришли, – сказала она, чуть запыхавшись. – Теперь можно идти спокойнее.
Я перевел дух и осмотрелся.
Мы стояли у невысокой оградки кладбища.
Мне стало немного не по себе.
Липа же была совершенно спокойна и даже, как мне показалось, весела. Она потянула на себя почерневшую от времени калитку, но та не поддалась, и я поспешил к девушке на помощь.
– Кладбище дает огромную свободу! Я это уже давно поняла. Подумайте только, никто и слова не скажет против того, что я хожу сюда одна. А ведь девице приличествует сопровождение даже при обыкновенных прогулках! Никто не спросит, отчего я тут… – с этими словами Липа неспешно обходила по узким тропинкам старые замшелые каменные плиты и потемневшие деревянные кресты.
Некоторые могилы утопали в высаженных на них цветах, другие же были совсем заброшены. Невольное любопытство подталкивало меня по очереди читать эпитафии на надгробных камнях, и мне казалось, что со всех сторон до меня доносятся предостережения и нравоучения, исполненные житейской мудрости всего человечества. Здесь были и краткие выдержки из Ветхого Завета, и бесталанные любвеобильные четверостишия, и сухие сдержанные слова о чьей-то давно прожитой жизни, уместившиеся лишь в двух строчках, вырезанных на могильном граните.
Вдали среди предгрозового вечернего сумрака светился огонек: это над входом в старую замшелую часовню горела лампада.
Липа свернула на боковую дорожку и остановилась.
– Миша, вы были когда-нибудь на могиле вашего дядюшки? – спросила она, уже второй раз называя меня любезнее, чем того требовали обстоятельства.
Я покачал головой.
Действительно, во всей этой суете с наследством я позабыл про то, что дядя был мне и просто родственником, близким, родным человеком.
Мне стало неловко.
Липа обернулась:
– Хорошо здесь!.. На кладбище все чувствуешь намного острее! Да и память проясняется…
Замедлив шаг, я остановился у нового деревянного креста и горбившегося перед ним холмика земли. Напротив него почти целиком вросла в землю низенькая каменная скамейка. Я перчаткой смахнул с нее бледные сухие прошлогодние листья и сел. Мой взгляд скользнул по кресту, на котором темнели резные буквы: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится».
Я вспомнил себя мальчишкой, вспомнил свое детство и дядю, очень изредка приезжавшего к нам в гости, вспомнил однажды подаренную им деревянную лошадь и сладости, которые он всегда нам привозил. Отрезы тканей, преподнесенные им моей матери, были столь богатыми, что потом удивляли весь город. Я вспомнил, как боялся дотрагиваться до этой материи, насколько тонкой и воздушной она казалась. Вспомнил я и огромный стол, который накрывали к дядюшкиному приезду, и большого гуся, которого выставляли на огромном рдяном блюде в окружении сморщенных печеных яблок. Дядя очень любил мою голубятню и спрашивал меня о ней, и вместе мы ходили смотреть молоденьких голубков диковинных пород, которых мне дарили на именины или на Пасху…
Сверкнула молния, и через секунду по небу покатился раскат грома.
Липа схватила меня за руку:
– Скорее отсюда, а то мы вымокнем!.. – и она побежала вперед, увлекая меня за собой.
Но дождь уже хлестал вовсю.
Мы стремглав пронеслись через лабиринт тропинок, затерянных между могил, к часовне, прямо на огонек ее лампады. Массивные каменные ступени церквушки, расписанные теперь темными водяными струями, были покрыты слоем уже отцветших лепестков и опавших листьев. В жару камни раскалялись, и попавшая на них листва просушивалась до коричнево-желтой трухи. Сейчас юбки Липы смели ее прочь, оставив за девушкой чистую дорожку.
Олимпиада подбежала к двери и дернула позеленевшую ручку.
Часовня была открыта.
Мы вошли внутрь.
– Я думаю, это подходящее укрытие, – сказала Липа, убирая со лба мокрую прядь волос, и шагнула вперед. – Боже! Посмотрите, как красиво!..
Большие кусты сирени, росшие снаружи, закрывали маленькие окна часовни, и поэтому внутри было темно. Лишь у иконы Троицы горела лампадка, а слева от нее в полутьме слабо сверкал образ Богоматери.
Мы подошли ближе.
На окладе иконы сидели десятки светлячков. Старинный киот у маленького приоткрытого окошка стал пристанищем для этих удивительных насекомых, спасавшихся от ненастья.
– Это просто волшебство! – прошептала Липа. – Какое невозможное украшение…
Снаружи вовсю шумела гроза. Струи ливня, казалось, слились в один нескончаемый поток. Последние просветы на небе исчезли за тучами, и мир погрузился в дождь.
В часовне было сухо, чуть душно, тепло и таинственно. Присесть было некуда, поэтому я снял сюртук и разложил его на полу подкладкой вниз.
– Ваши родные уже, наверное, вас хватились… – сказал я, жестом приглашая Липу присесть и отдохнуть.
– Ничуть, – отозвалась девушка. – Они наверняка уверены, что я осталась у Аглаи. Так уже было множество раз…
– Что же, укрыться тут и подождать явно лучше, чем промокнуть и схватить лихорадку. Перед свадьбой-то…
– Ах, вы уже знаете? Аглая рассказала? – кокетливо спросила Липа.
– Нет, Надежда Кирилловна как-то упомянула об этом… О вашем приданом и о том, что благородное семейство вашего избранника слишком высоко ценит свое благородство…
Липа, подобрав мокрый подол платья, села рядом со мной на сюртук, по-детски поджав под себя ноги.
– Слишком высоко! – согласилась она. – Ну, а мне все равно, что мой отец занимается торговлей скотом! Зато долгов карточных у него нет, и дом наш не заложен…
– Значит, вы против вашего союза?
– Если говорить по правде, то нет. Представляете, не против! Мой нареченный беден, но его титул откроет многие двери и мне, и моему отцу. И, знаете, новое положение даст мне чуть большую свободу, нежели теперь, может, и гораздо большую. Да уж не так и противен мне жених! Он не стар, он учтив и образован. Осталось только договориться о том, во сколько голов скота они оценивают свою фамилию и титул. Правда, это занятно? Титул, стоивший нескольких тысяч коров, оплаченной закладной и большого дубового шкафа с итальянской резьбой. Вам смешно? Мне – очень! И когда я появлюсь на свадебном балу, то среди розовых мраморных колонн залы я буду представлять себе не людей, а тысячи пасущихся и мычащих буренок, и закладные будут играть в карты за ломберными столиками… Право, это очень мило! Вы осуждаете меня?
– Даже мысли не было…
– Ах, а я себя иногда осуждаю! Вы, наверное, думаете, что я должна любить и потому быть счастливой, либо же быть несчастной и страдать оттого, что судьба связывает меня с чужим человеком против моей воли? Но открою вам секрет: все неверно! Мне было бы скучно просто любить! Страдания мне более отрадны, и эта свобода тоже, когда я могу приходить сюда по ночам, чтобы побродить по кладбищу и подумать о своем… Да, представьте, меня тут несколько раз замечали – ночью, среди могил – и ни разу не решились даже близко подойти, а я ведь умышленно прихожу сюда именно в светлом платье…
– Это просто удивительно! Я не успел заметить в вас склонности к меланхолии и мистицизму!
– Это самая оберегаемая моя тайна. Я и вправду полюбила это кладбище, а если бы это заметили дома, то эти прогулки мне бы тут же запретили. Но не запрещают. И, стало быть, не замечают, – и Липа вздрогнула.
– Вы озябли? – спросил я.
– Нет. И давайте сегодня будем говорить друг другу «ты»! Вам, Миша, совсем не идет ваше «Михаил Иванович», – шутливо прогудела Липа, произнося мое имя. – Чересчур солидно для вашего юного и бледного лица!
– «Олимпиада» тоже звучит втрое длиннее и тяжелее, чем хотелось бы, – не остался я в долгу.
– Вот видишь, – будто бы улыбнулась в полутьме девушка, – значит, сегодня – Липа…
Мелкая сладкая дрожь волной прокатилась по моему телу.
– Липа, дай мне руку, – попросил я.
Липа подняла голову. Я, боясь повернуться к ней лицом, краем глаза увидел, как она медленно и аккуратно сняла с кисти перчатку, а потом просто потянулась и своими длинными тонкими пальцами взяла меня за руку.
У меня перехватило дух и застучало в висках. Казалось, время замерло, и никому не нужно было ни оправдываться, ни в чем-то признаваться, ни говорить о чем бы то ни было. Я остатками сознания мог только молиться, чтобы из глубины дождя внезапно не возникла перед нами чья-нибудь мокрая фигура, не вторглась в наше темное, теплое, мрачное и такое красивое убежище и не нарушила нашего уединения.
Липа положила голову мне на плечо. Я почувствовал своей щекой пряди волос, выбившиеся из ее прически, я услышал ее дыхание. Пальцы ее в моей руке почти не двигались, но, казалось, они говорили гораздо красноречивее любых слов – о любви, о вечных клятвах, данных друг другу мужчиной и женщиной перед Богом и людьми… А может, о том, что сейчас наши руки сплетены, и что эта старая часовня, холод этого каменного пола, этот запах воска и ладана, этот дождь и этот миг – только наши, и они навсегда останутся нашим общим воспоминанием.
Я любовался пальцами Липы в моей руке, а потом вдруг поцеловал их. И еще. И еще… Мысли, стук сердец, дыхание, время – все остановилось и растворилось в темноте часовни…
Дождь, увы, заканчивался. Небо посветлело, и казалось, что ночь обратилась вспять.
Нужно было возвращаться.
Мы поднялись. Я нехотя надел свой сюртук, и Липа подошла и отряхнула пылинки с его рукавов и воротника. Я повернулся к ней и, едва удержавшись от того, чтобы не поцеловать ее, только бережно поправил непослушный локон, вьющийся у ее виска. Еще несколько мгновений мы стояли и смотрели друг другу в глаза, ни промолвив ни слова.
Потом мы вышли за дверь. Наших раскрасневшихся лиц коснулся свежий вечерний ветер. Липа снова взяла меня за руку, и мы, прыгая через лужи, закружили вокруг могил по пути к воротам кладбища.
– Теперь мы снова в мире людей, и нам снова придется быть осторожными, – сказала Липа.
И, помолчав, она добавила:
– Зато теперь у нас есть тайна.
Она подошла ко мне вплотную и поцеловала меня прямо в губы…
От калитки ее дома я с легким кружением в голове и на ставших будто бы ватными ногах неторопливо доплелся в сумерках до усадьбы Савельевых. Ворота были уже закрыты, но внизу под ними оставалась щель, которую обычно по ночам закладывали доской-подворотней. Щель эта была достаточно широкой для того, чтобы протиснуться в нее взрослому человеку, но после дождя под воротами разбухла такая грязь, что войти в дом «инкогнито» этим путем я не отважился.
Свернув за угол и пройдя дальше вдоль ограды, я добрался до уже знакомой мне калитки. Она бесшумно распахнулась передо мной. Я скользнул по дорожке к дому и мягко толкнул дверь черного хода, которая тоже оказалась незапертой. Я мысленно поблагодарил Аглаю за предусмотрительность и неслышно, как тень, не скрипнув на лестнице ни единой половицей, поднялся к себе.
Уже лежа в постели и, по обыкновению, с карандашом в руке листая свою записную книжку, я не мог не думать о Липе. Все события ушедшего дня просто померкли в моей памяти, вытесненные одной – главной – новостью и переполнявшими меня чувствами. Случившееся казалось мне сном. И перетекая сознанием из мнимого сна в настоящий, я видел Липу, которая обворожительно улыбалась мне, как тогда, при прощании, перед тем, как скрыться за дверцей калитки. И клянусь, что эту улыбку я буду хранить в своем сердце до самого конца жизни…
Глава VI
Савельевский дом пробыл в нашем распоряжении три дня. На руку нам был не только сам отъезд Надежды Кирилловны, но и заметная в связи с ним утрата ретивости в делах со стороны кухарки и горничной, посему Аглае не приходилось особенно утруждаться в изобретении поручений, дабы отослать прислугу из дому. Данилевский и Липа, напротив, зачастили к нам. Они являлись в гости прямо к завтраку, успев по пути через уже согретый солнцем сад своим смехом и шутками распугать прочь из сиреневых кустов всех соловьев и зорянок, неделикатно прервав их восторженные утренние концерты. Расставались же мы лишь под вечер, после ужина и душистого чая, когда по небу уже разливался закат, зной в саду уступал место прохладному ветру, несшему аромат ирисов, пионов и белой акации, и стрижи резво бросались вдогонку за шмелями, стремясь посытнее поужинать на сон грядущий.
Днем же мы внимательно – комнату за комнатой – осматривали дом. Верхние покои, кладовые, чердаки – все стены, полы, потолки и мебель здесь мы пядь за пядью осмотрели, ощупали и простучали. К концу третьего дня поисков оставалось признать, что наши усилия оказались тщетными.
Мы ничего не нашли.
К вечеру третьего же дня в усадьбу вернулась Надежда Кирилловна. Она выглядела утомленной и явно недовольной своей поездкой. Поэтому я предположил, что, если ее и занимали мужнины бумаги, в имении на Клязьме найти векселя ей тоже не удалось.
Мы с Липой подолгу беседовали обо всем этом, гуляя по узким извилистым дорожкам уже знакомого мне погоста. С приездом тетки мы снова вспомнили об осторожности, но наши сумеречные прогулки по кладбищу продолжились, поскольку именно там мы с моей возлюбленной не боялись быть увиденными вместе, и теперь я знал куда больше укромных тропинок, тайком ведущих от крыльца усадьбы Савельевых прямо до ее дома.
Однажды поздним лунным вечером я, вернувшись домой уже знакомой дорогой, проскользнул в усадьбу через заднюю дверь и бесшумно поднялся по лестнице в свою комнату, залитую белыми холодными лучами ночного светила. Наверное, уже в сотый раз я мысленно поблагодарил за мастерство тех плотников, что так добротно, почти ювелирно сработали этот тихий, безмолвный купеческий дом. Но потом вдруг меня словно громом ударило…
Утром я, наскоро умывшись и надев свой костюм, выскочил в коридор. Оглядевшись, я одернул на себе сюртук и чинным шагом неторопливо спустился по лестнице. Потом так же поднялся. Потом снова сошел вниз и взбежал вверх. И еще раз. Затем всем своим весом я налег на резной набалдашник деревянных перил и попытался покачать его.
– Мишенька, вы себя сегодня хорошо чувствуете? – раздался из передней голос Аглаи. – Мы вас уже ждем к завтраку, а вы, кажется, в третий раз никак не дойдете до столовой!
Я еще раз сбежал вниз по ступеням.
– Очень вам советую, сестрица, проделать то же самое, – ответил я. – Попробуйте! Это просто удивительно!
Аглая подобрала подол платья и поднялась наверх.
– И что же здесь такого удивительного? – обернулась она ко мне.
– А вы не понимаете? От половиц – ни единого скрипа, – я снова сделал по ступеням несколько шагов вниз и вверх.
– Ну, для этого не стоило устраивать такие забеги! Батюшка не терпел дурно сделанных и плохо прилаженных вещей, и он любил рассказывать, что, когда строили этот дом, первый нанятый им плотник в ответ на его требование сработать лестницу ладно начал уверять, что дерево всегда скрипит, и отец велел его рассчитать и выписал другого аж из самой Самары! С тех пор прошло более десяти лет, и по сей день здесь так ничего и не заскрипело, – и Аглая ласково скользнула пальцами по деревянным перилам.
Я подхватил кузину под руку и зашептал:
– Вот в этом-то все и дело! Вы помните ту грозу и нашу ночную вылазку? Помните, что нас тогда остановило?
Аглая изменилась в лице.
Мы, постоянно озираясь, прошли к кабинету.
Я взялся за дверную ручку и толкнул ее вперед.
Дверь, как и в прошлый раз, громко и протяжно заскрипела.
Аглая подняла на меня взгляд, полный недоумения:
– Но она, кажется, всегда так…
– В том-то и дело, понимаете? – перебил я кузину.
– Нет, любезный братец, не понимаю, – похоже, начала сердиться Аглая.
– Дядя не терпел дурно сделанных и плохо прилаженных вещей, но с несовершенством этой вещи он спокойно мирился…
– Вы полагаете? – девушка покосилась на дверь.
– Мы тут все бегали туда-сюда мимо нее, – сказал я, распахнув дверь и разглядывая ее деревянную поверхность. – Как, впрочем, и ищейки князя… И никому и в голову не пришло проверить!
Дверь была примечательной: большой, толстой, тяжелой, сработанной в венецианском стиле. Темное лакированное дерево блестело в лучах солнца, бьющего в окна кабинета. С внешней стороны дверные панели были лаконично оформлены в виде удлиненных ромбов, окаймленных тонкими резными планками с растительными мотивами. Внутренняя же, кабинетная, сторона была настоящим произведением искусства – верхом мастерства итальянской резьбы по дереву. Из центра дверного полотна на нас взирала выточенная с мельчайшими подробностями морда оскалившегося льва, заключенная в резной круг; вокруг нее в профиль располагались так же искусно выполненные головы баранов – их мощные рога последовательно обвивала длинная и густая лавровая ветвь. Выше и ниже звериных барельефов тянулись к краям двери резные гроздья винограда: тонкие прожилки листьев, крупные гладкие ягоды, вьющиеся хвостики молодых побегов – все это было исполнено чрезвычайно скрупулезно. Тяжелая медная ручка, казалось, с трудом пробивалась наружу сквозь все это замершее растительное изобилие.
Мы внимательно осматривали дверь с обеих сторон, постукивали костяшками пальцев по панелям, вертели ручку, нажимали на головы, глаза, носы и зубы животных, на львиные уши и бараньи рога, на виноградные кисти и листья в надежде, что где-то сработает тайный механизм…
– Ничего подозрительного, – хмыкнула Аглая.
– Проверять последовательно каждый вершок, – проговорил я себе под нос, осматривая петли. Потом я просунул пальцы под дверь и ощупал ее края изнутри и снаружи. Затем я встал на цыпочки и провел рукой по верхней грани дверного полотна.
– Похоже, там сверху есть какая-то небольшая неровность, – выдохнул я, откашливаясь и отряхивая испачканные в пыли ладони.
Аглая вынула из рукава платок и протянула его мне.
Я вытер пальцы и огляделся.
В кабинете, кроме хозяйского тяжелого стола, бюро, шкафа, кресла и небольшого диванчика стоял еще видавший виды стул, обтянутый потертым бархатом, но выглядел он не слишком-то прочно…
– Миша, вы думаете, что нужно осмотреть дверь сверху? – спросила Аглая, заметив, что я взглядом примериваюсь к стулу. – Если хотите, я могу забраться туда. Меня он, пожалуй, сдюжит.
Я подтащил стул к двери.
Сбросив домашние туфли, Аглая оперлась ладонью на мое плечо и встала на сиденье.
– Тут, наверху, явно какая-то планка… – проговорила она сверху, нажимая рукой на край двери.
Вдруг из-под ее пальцев послышался негромкий щелчок.
По лицу Аглаи я понял: она что-то нашла.
Девушка, привстав на стуле на цыпочки, заглянула куда-то будто бы внутрь двери, а затем, помедлив секунду-другую, запустила в невидимый для меня проем пальцы.
Она, сосредоточенно нахмурившись и закусив язык от азарта, начала что-то искать, потом пытаться нечто подковырнуть, зацепить, а потом – и вытянуть наружу, с возгласами досады и раздражения теряя и роняя это нечто обратно и, подув на пальцы и помахав ими в воздухе, снова принимаясь за дело с утроенным усердием.
А затем я, стоя снизу под дверью, с замиранием сердца увидел толстый конверт из плотной грубой серой бумаги. Под рукой Аглаи он медленно и неохотно полз из недр тайника наружу, то и дело застревая в нем, будто бы таинственная дверь, словно вышедшая из старой арабской сказки, не желала по своей воле отдавать хранимую ею тайну пытливым бесцеремонным чужакам, позабывшим благоговейно произнести перед ней древнее магическое заклинание.
Наконец конверт выскользнул из тайника и шлепнулся на пол.
Аглая снова щелкнула потайной заглушкой, спрыгнула со стула и схватила меня за руку.
Мы, совершенно ошеломленные, стояли над конвертом и молчали.
Вдруг на лестнице послышались шаги.
Черт возьми, как же мы могли забыть? Уже давно, должно быть, подали завтрак, и Надежда Кирилловна, не дождавшись нас за столом, видимо, отправилась на поиски! Зачем я вообще увлек сюда Аглаю в ту пору, когда в доме полно народу?!
Едва я успел носком сапога оттолкнуть нашу находку под маленький диванчик, стоявший у стены кабинета, на пороге возникла хозяйка дома.
Она с удивлением взглянула на дочь, которая стояла на полу разутая, в одних чулках, и на меня, с растерянностью державшего в руках старый потертый стул.
– Любезные мои, вас не дозовешься! – тетка уперла кулаки в бока, туго обтянутые бархатом. – Все уже давно остыло! И позвольте, барышня, узнать у вас, что вы тут проделывали с отцовой мебелью?
Мы с кузиной переглянулись.
– Тут дверь скрипит ужасно… – пробормотала Аглая. – Досаждает донельзя!.. Мы вот и захотели взглянуть, что же можно сделать…
– А мысль прислать сюда Тихона с масленкой не пришла в ваши светлые головы? А я еще удивляюсь тому, как быстро изнашивается обивка… Завтрак готов! Пойдемте уже за стол!
Вслед на Надеждой Кирилловной мы покорно вышли из кабинета.
У меня кружилась голова, горело лицо и чесались руки, когда я закрывал за собой дверь: покидать комнату, так и не распечатав таинственный конверт, который был уже у нас в руках и который теперь оставался без присмотра лежать в пыли под диваном!..
За столом я сидел как на иголках. Есть совершенно не хотелось, но я заставлял себя жевать овсянку и хлеб с вареньем, почти совсем не чувствуя их вкуса. Когда же с завтраком было покончено, выяснилось, что Надежда Кирилловна совсем не торопится отпускать нас от себя. В чайных чашках звякали серебряные ложечки, тетка поочередно спрашивала то меня, то Аглаю о каких-то совершеннейших пустяках, и я прилагал невероятные усилия, чтобы вникать в смысл ее вопросов и давать на них связные ответы.
Аглая, похоже, испытывала схожие чувства.
– Миша, меня немного знобит, – в конце концов сказала она. – Кажется, я забыла в батюшкином кабинете свою лазоревую шаль. Вы не могли бы принести ее?
Я вскочил со стула, едва не перевернув чашку.
– Да-да, конечно же, сию минуту, – пробормотал я и рванул к дверям.
– Михаил Иванович, – попыталась остановить меня тетка, – останьтесь, пожалуйста! Пусть Маша принесет! Она как раз сейчас должна там прибираться…
Но я предпочел сделать вид, что не расслышал слов Надежды Кирилловны, и, улизнув из столовой, резво взбежал вверх по лестнице.
Дверь кабинета была приотворена, и из-за нее слышался чей-то мурлыкающий голос.
Я заглянул внутрь.
Горничная, напевая себе под нос мелодию какого-то пошловатого романсика, большой пушистой метелкой смахивала пыль с бюро. По ее безмятежному виду я предположил, что конверт еще не обнаружен, и, выпрямившись, шагнул через порог.
Горничная вздрогнула и обернулась.
– Ах, Михаил Иванович, это вы? – она смущенно потупила глаза и покраснела.
– Аглая Петровна забыла где-то здесь свою шаль, и я пришел за ней… Ну, за шалью, – проговорил я, чувствуя, как краска заливает мое лицо от уха до уха.
– Что же, ищите, – ответила горничная, бросив на меня озорной взгляд.
Я, приняв озабоченный вид, прошелся взад-вперед по кабинету, заглянул в кресло и под стол. Потом, стараясь не вызвать подозрений, я деловито упер руки в пояс и встал между девушкой и диванчиком у двери.
Шали, как и следовало ожидать, нигде не было, но из-за ножки дивана самым предательским образом на вершок выглядывал пепельно-серый уголок конверта.
Что бы предпринять?..
Тут, на мое счастье, со двора послышался цокот копыт и грохот подъезжающего экипажа.
Горничная выглянула в окно и всполошилась.
– Ах, бог ты мой! Сегодня же Тихон Трофимыч уехали! Надо бежать открывать, – она стремглав бросилась к двери и исчезла, стуча на лестнице каблуками туфель.
Я опрометью бросился к дивану. Схватив пухлый и довольно увесистый конверт, я мигом заткнул его сзади за пояс, под сюртук.
– Так… – выдохнув и закрыв за собой дверь кабинета, я стал спускаться по лестнице.
Теперь мне предстояло по пути придумать оправдание своему долгому отсутствию и возвращению с пустыми руками. Однако, как оказалось, про лазоревую шаль внизу уже все забыли, ибо в нашу переднюю собственной персоной входил его сиятельство князь Евгений Константинович Кобрин.
Я почувствовал, как спина у меня похолодела.
Князь едва заметным кивком приветствовал хозяйку дома с дочерью, вышедших его встречать. Затем он, в своей, похоже, привычной манере обернувшись к висевшему на стене зеркалу и подкручивая перед ним напомаженные усы, протянул:
– Зачастил я к вам, Надежда Кирилловна, зачастил… Но не могу же я так оставить вас, ваше семейство и ваших, гм, да и наших дел…
Я шагнул вперед.
Князь отвлекся от своего отражения и обернулся ко мне.
Надежда Кирилловна поспешила представить меня его сиятельству.
Князь, едва удостоив меня взглядом, тут же снова обратился к тетушке:
– Дела, любезная Надежда Кирилловна! Нас торопят дела!..
Он развернулся и, сопровождаемый хозяйкой дома, направился к кабинету, который я покинул вот только минуту назад.
Прижавшись спиной к стене, я смотрел им вслед. Пот лился с меня градом, а руки и ноги ходили ходуном.
Аглая, оставшаяся со мной в передней, и вовсе, казалось, была готова упасть в обморок.
Наконец сверху до нас донесся скрип и щелчок двери, ведущей в кабинет.
– Боже! Миша, как же конверт? – Аглая едва дышала.
– У меня, – почти не разжимая губ, ответил я.
Кузина покраснела и дернула меня за рукав сюртука:
– И вы мне даже знака не подали? Я на месте чуть с ума не сошла от страха!
– Какого такого знака? – вырвался я. – Подмигивать вам или строить глазки, пока раскланиваюсь с его сиятельством?
– Да, вы правы… – Аглая, обуздав гнев, снова взяла себя в руки. – Как же нам теперь поступить?
– Давайте пока что я спрячу находку у себя, и мы известим о ней наших друзей, иначе они просто не простят нам проволочки. Да, и поскольку ваша матушка дома, да тут еще и целый князь вдобавок, то мы не можем назначить встречу здесь.
– Я надеюсь, он скоро уедет. Впрочем, вы правы, Миша. Нам придется что-нибудь придумать. Я, пожалуй, пошлю прислугу с запиской.
– Да-да, и лучше бы улизнуть из дома, – я заглянул в столовую и посмотрел на стрелки часов, стоявших в углу. – Договоритесь так: встретимся на площади через полтора часа. И не нужно писать ничего открыто! Уверен, наши друзья и так поймут всю важность дела.
Аглая поспешила к себе.
Затворив наверху за собой дверь, я почти что сорвал с себя сюртук и вытащил из-за пояса конверт, темный и влажный от пота. Я сел на кровать, положил его рядом с собой на покрывало и некоторое время без единой мысли в голове неотрывно глядел на него. Конверт, кровать и вся комната плыли у меня перед глазами.
Через три четверти часа снизу донеслись голоса – это Надежда Кирилловна провожала знатного гостя, который соблаговолил исчезнуть с нашего порога так же внезапно, как он на нем появился.
Глава VII
Я сошел вниз и направился в столовую.
Тетка выглядела расстроенной и уставшей. Она, сперва резко отчитав горничную за свойственную той нерасторопность, а затем сославшись на мигрень, удалилась на свою половину дома.
Я вышел в переднюю и встретился с Аглаей, спускавшейся по лестнице.
– Что вы думаете о прогулке, любезная сестрица? – с легким поклоном спросил я. – Погоды-то какие стоят!
– Охотно, любезный братец, – подыграла мне девушка. – Маша, принеси-ка мне мою шляпку, перчатки и зонтик…
Мы минули ворота усадьбы и по большой улице, засаженной старыми липами, вышли к площади.
Данилевский уже был на месте.
– Дружище, вы были совершенно правы, – после взаимного приветствия вполголоса заговорил я. – Ваши познания в детективном деле, дорогой мсье сыщик, принесли весьма недурные результаты.
– Что? Вы что-то нашли? – Данилевский переводил вспыхнувший азартом взгляд с меня на Аглаю.
Стараясь не привлекать постороннего внимания, я приложил палец к губам.
– Подождем еще Ли…, гм, Олимпиаду Андреевну, – исправился я, почувствовав, что краснею, – и тогда мы все расскажем. Найти бы еще место, где нам бы никто не помешал…
В эту минуту к нам, ослепительная, как и всегда, с зонтиком от солнца в одной руке и с несессером в тон платью – в другой, подошла Липочка.
– Здравствуйте, господа! Неужели вы нашли что-то важное? – безотлагательно перешла она к делу.
Данилевский предостерегающе поднял вверх указательный палец:
– Подождите, друзья! Не здесь!
– Ну, расскажите же, Миша! Что же вы тянете? – сгорала от любопытства Липа.
Я посмотрел на Данилевского:
– Что ты предлагаешь?
– А не поехать ли нам покататься? – ответил он. – Дамы, ведь господин Барсеньев еще не успел толком посмотреть Москву, не так ли?
Девушки улыбнулись.
– А поедем, – согласился я и уже поднял было руку, чтобы окликнуть первого попавшегося на дороге извозчика, однако Данилевский тут же остановил меня.
Он перешел на другую сторону улицы, потом пропустил пару экипажей и, наконец, остановив небольшую крытую карету, пошел о чем-то договариваться с возницей.
– Прокатимся-ка до Таганки, – сказал он, вернувшись к нам и провожая нас к повозке, – у нас будет достаточно времени для разговора. Да, и правьте полегче, милейший, – крикнул он кучеру перед тем, как запрыгнуть внутрь, – мы совершенно не торопимся, а барышни не любят тряску!
Мы сели.
Карета тронулась.
Дрожащими руками – не то от толчков экипажа на булыжниках мостовой, не то от волнения – я вынул из-под полы сюртука пакет.
– Может, обойдемся без драматических пауз? – видя мою нерешительность, проворчал Данилевский.
Я, выдохнув, сломал большую сургучную печать, скреплявшую конверт.
В руках у меня оказалась пачка листов с одинаковыми гербами на полях. Я просматривал их по очереди, а затем передавал Данилевскому. Это были векселя старого князя Кобрина – толстая пачка расписок о финансовых обязательствах на бланках Общества взаимного поземельного кредита. Тусклый свет, сочившийся через грязное, заляпанное окошко кареты, освещал потрепанные и пожелтевшие от времени бумаги. В глазах у меня зарябило от неровных строчек с описанием имущества, попадающего в залог, от числа нулей в проигранных суммах, от нетвердой подписи князя, похожей на большого мохнатого раненого паука.
Последний документ заставил меня вздрогнуть.
В руках я держал ровный плотный лист шершавой на ощупь гербовой бумаги, мелко исписанный с обеих сторон.
В самом верху листа изящным почерком были выведены слова: «ДУХОВНАЯ ГРАМОТА».
Я молча развернул свою находку и показал ее друзьям.
Все на мгновение замерли.
– Боже мой, – только и прошептала Аглая.
– Ну и дела, – присвистнул Данилевский, наклонившись к документу, который я держал в руках. – Неужто завещание? Нет, так ни черта не разобрать! Давай, читай! Только тихо!
Я устроился поближе к свету и в полутьме экипажа принялся разбирать рваные от тряски бурые чернильные кружева из букв:
– «Духовная грамота фридрихсгамского первостатейного купца и судовладельца, потомственного почетного гражданина Петра Устиновича Савельева. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь! Разделение родным своим и благословение, кому чем владеть…»
Сидевшая напротив меня Аглая всхлипнула.
Липа ласково положила ладонь на руку подруги.
Тем временем я продолжал:
– «Жене своей, Надежде Кирилловне Савельевой, завещаю половину своего состояния, принадлежащие мне московские дома, а также имение на Клязьме, а также землю, сдаваемую внаем, а также кожевенную фабрику на реке Москве со всем строением и землею, и мои торговые лавки, а также банковские бумаги Московского учетного и ссудного банка на сумму в двести тысяч рублей серебром, из которых бумаги на сто тысяч рублей должны быть сохранены и выделены дочери моей, Аглае Петровне Савельевой, в роли приданого по достижении ею возраста восемнадцати лет…»
– Клянусь весами Юстиции! Да вы, барышня, оказывается, завидная невеста, – невесело пошутил Данилевский.
– Была, – кивнула ему моя кузина.
– «Сестре же моей, Анне Устиновне Барсеньевой, отписываю поташное производство в Самаре со всем строением и землею, мыларню для пряжи и красильню при ней, а также нефтяные разработки у горы Сура-корт. Племяннику же моему, Михаилу Ивановичу Барсеньеву, отписываю три парохода, а также лесопилку в Самаре…» – прочел я и остановился, чтобы перевести дух.
Лицо мое пылало.
– Вот видите, Мишенька, – сказала Аглая, – и вас батюшка тоже не обделил милостью.
– «Родственнику моему, – продолжил я чтение, – Илье Осиповичу Савельеву, отписываю десять тысяч рублей. Приказчикам моим, Стратону Игнатьевичу Огибалову и Арефию Платоновичу Шепелевскому, за долгую и преданную службу отписываю по две тысячи рублей, а слуге Тихону Трофимовичу Иванникову – тысячу рублей. Также оставляю восемьдесят тысяч рублей далее упомянутым богоугодным заведениям и монастырям, коим завещаю поминать меня в молитве по заупокойной записке, поданной моими душеприказчиками».
Завершалось завещание красивой, аккуратно выведенной подписью: «Фридрихсгамский первостатейный купец и судовладелец, потомственный почетный гражданин Петр Устинович Савельев», которую дополняли чуть измененные слова молитвы:
«Да будетъ такъ присно и нынѣ».
Края подписи, с каждой строчкой становясь все уже, сходились клином к центру страницы, делая текст похожим на старинную летопись.
В последней строке ровно посередине листа стояла только уверенная точка.
Лошадь неторопливо тянула по ухабам мостовой мерно покачивавшийся скрипучий экипаж. Мы, глядя на проплывавшие за окнами кареты улицы и дома, в задумчивости молчали.
– Вот это намного больше похоже на правду, – нарушил я наконец тишину. – Плотная бумага, красивый четкий почерк, обстоятельная подпись с перечислением всех званий – настоящий завет главы купеческого рода своим потомкам, надежный и нерушимый, совсем непохожий на ту писульку, что нам предъявили в суде!
– Что вы теперь будете делать? – спросил Данилевский.
– Нужно непременно подать на князей в суд, – воскликнула Липочка, хлопнув в ладоши.
– Сперва нам нужно разделить документы, – ответил я. Найденный утром конверт доставил мне столько неприятных чувств, что я не был готов держать все эти бумаги у себя. – Думаю, так они будут целее.
И я протянул завещание Аглае.
Кузина с испугом отстранилась.
– Я не возьму это, – прошептала она.
– Но это же совсем ненадолго! Мы подадим это завещание вместе с жалобой в Управу благочиния. Я все сделаю в самое ближайшее время…
– Пусть оно останется у вас, – перебила меня Аглая, – дайте мне лучше вместо него несколько векселей.
Я протянул ей векселя.
– Андрей, возьми и ты парочку, – протянул я приятелю пару листов.
Данилевский с удивлением взглянул на меня, давая понять, что он все-таки тут – человек посторонний. Но я настоял, и он спрятал за пазуху несколько расписок.
Липа же прикасаться к найденным в тайнике купца Савельева документам отказалась наотрез.
Таким образом, все содержимое конверта мы разделили между собой на три части.
Теперь нам оставалось договориться о том, что делать дальше.
– Ты только не забывай, в каких чинах находится старший Кобрин. Не надо отдавать завещание вместе с жалобой! Ты просто его больше не увидишь: оно исчезнет раньше, чем кто-нибудь его успеет толком прочитать, – увещевал меня Данилевский. – Нужно сперва подавать в суд, и только потом можно предъявлять доказательства, в присутствии свидетелей, прокурора и судей…
Совет был дельным. В ближайшие дни я непременно подготовлю жалобу и подам ее в Управу благочиния. Нужно будет сделать это от своего имени, не ставя в известность Надежду Кирилловну. Я, сказать по чести, побаивался ее, да и опасался, как бы она не стала чинить мне препятствий в исполнении моего плана. Подлинное завещание не только давало нам надежду на возврат себе огромного состояния, но и сулило долгую судебную тяжбу с совершенно непредсказуемым исходом, учитывая власть, коей было наделено семейство Кобриных. А матушке я обо всем подробно и без утайки напишу, но жалобу подам до ее приезда в Москву. Я все ж таки теперь старший мужчина в роду и потому имею право принимать самые серьезные решения касаемо моего семейства. Это будет моя личная битва с князем, и шансы, ей-богу, совсем неплохи, ибо козыри в моих руках весьма серьезные…
Данилевский тем временем выглянул в окно и, увидев, что мы подкатили к набережной, стукнул пару раз кулаком в стенку кареты.
Экипаж остановился.
Вынырнув из сумрачной душной повозки, мы вдохнули свежий речной ветер, к которому примешивался пряный запах зацветшей гречихи – ее молочные цветки делали засеянное поле, лежавшее перед нами, похожим на пестрое воздушное покрывало. Оно окаймлялось пышной полосой перелеска, откуда до нас доносился звонкий голос кукушки. В воздухе раздавалось громкое жужжание пчел, деловито перелетавших с одного цветка на другой. Впереди светились купола монастырского храма с высокой колокольней. Тяжелые белоснежные облака висели вдоль всего горизонта, будто окружая поле и монастырь призрачным кремлем с валами и башнями, скатанными из огромных комьев ваты.
Приказав извозчику подождать нас на дороге, мы пересекли поле и подошли к ограде монастыря. Вблизи он выглядел неприступной старинной крепостью, неизбывно хранящей свою мрачную поминальную печаль. Только стройная колокольня с большими часами, построенная, похоже, совсем недавно, сверкала на солнце своим модным и дорогим украшением.
Мы вошли в приземистые ворота и, пройдя немного по монастырской дорожке, оказались в небольшом садике, укрывшемся здесь под сенью холодных каменных стен.
– Подождите меня здесь! Я поставлю свечку за упокой батюшкиной души, – сказала Аглая, и они с Липой покинули нас.
Мы с Данилевским уселись на скамейку под большой яблоней.
– Я вот о чем я подумал, – сказал мне мой приятель. – Ты не слишком торопись с подачей своей жалобы. Подтвердить подлинность завещания могут только свидетели, и надо бы сперва поговорить с ними и заручиться их поддержкой. И не беспокойся, я помогу тебе составить бумагу. Ее надо писать на имя генерал-губернатора, а только потом уже ей дадут ход и спустят ниже по инстанциям. Там мелочей море! Моей матери завтра дома не будет, и дядя сейчас в отъезде, так что предлагаю встретиться у меня. Сыграем в шахматы и потолкуем…
– Спасибо, дружище! – согласился я. – Мне не хочется втравливать девушек в эту историю. Они и так сейчас явно напуганы. Дальше уже – мужское дело! И как хорошо, что мне есть у кого спросить совета!
– Можешь на меня рассчитывать, – ответил Данилевский и похлопал меня по плечу. – Черт возьми, интереснейшая переделка!
И мы пожали друг другу руки.
Вскоре вернулись дамы, и мы, отвесив у монастырских ворот по поясному поклону, пошли по тропинке через поле обратно к карете – цепочкой, след в след, молча, каждый со своими мыслями наедине: Данилевский, Липа, Аглая и, наконец, я.
На середине пути я все же решил догнать кузину.
– Нельзя ли сегодня не сообщать обо всем Надежде Кирилловне? – поравнявшись с сестрой, шепнул я. – Сперва я напишу матушке, ладно? Пусть она приедет, и тогда мы все вместе устроим общий семейный совет…
Аглая, не поворачиваясь ко мне, только кивнула.
Так я выиграл несколько дней ее молчания.
Глава VIII
На следующий день я, как и обещал, сразу же после завтрака явился к дому Данилевского. Тот, поджидая меня, сидел на подоконнике распахнутого окна второго этажа и курил папиросу. Увидев, как я подхожу к палисаднику, он бросил вниз окурок, махнул мне рукой и исчез внутри.
Через минуту уже знакомая мне входная дверь отворилась.
– Хвост не привел? – заговорщически спросил меня студент.
– Очень смешно! – буркнул я и поежился.
Мы поднялись наверх.
Квартира, состоявшая из нескольких меблированных комнат, была удобна, хотя казенная обстановка и делала ее похожей на некое присутственное заведение. Солнце через оконные стекла заливало светом большой письменный стол и тяжелые пунцовые кресла, играло лучиками в хрустальных подвесках массивной люстры и радужными зайчиками рассыпалось по старательно начищенному паркету и темным мрачным пейзажам в золоченых рамах, украшавшим стены. Шкафы с рядами буро-песочных книжных корешков стояли вдоль стен подобно стражникам, приставленным к нерадивому ученику. На этажерке в живописном беспорядке тоже лежали книги и толстые журналы. На изумрудном сукне стола были сложены стопкой какие-то папки. Здесь же пестрела своими клетками шахматная доска, на которой выстроились перед сражением вырезанные из дерева воинственные бойцы двух враждующих армий.
Налив себе из высокой глиняной бутылки по бокалу сельтерской воды, мы расположились за столом. Я сел в кресло, Данилевский же встал рядом со мной, опершись рукой на его резную спинку.
– Завещание у тебя? – спросил он.
Я поставил бокал на стол, вынул из кармана документ и, сдвинув в сторону шахматную доску, положил его перед собой.
– Да, любопытнейшая вещь, – сделав глоток, проговорил Данилевский, рассматривая завещание, – почти произведение искусства, клянусь весами Юстиции! Почерк у твоего дяди был примечательный. Быть может, и каллиграфическая комиссия тоже даст заключение в вашу пользу…
– Ты говоришь о том, чтобы в суде сличить почерк в духовной грамоте и в других савельевских документах? – воскликнул я. – Слушай, тогда ведь все это дело у нас в кармане! Это же, без сомнения, дядина рука!
– Ну-ну, не торопись, дружище! – Данилевский поднял вверх указательный палец. – Ты должен понимать, что умелому адвокату почерк не помеха.
– Почему же? – удивился я.
Студент усмехнулся:
– Да потому, что человек при письме может торопиться, может писать, будучи больным, и все это скажется на твердости руки и, стало быть, на почерке, а потому и манипулировать заключением экспертной комиссии при должном навыке можно вполне непринужденно.
– Ты будто заранее готовишь меня к поражению…
– Отнюдь, я просто рассматриваю разные пути защиты и нападения, только и всего! Впрочем, давай сперва внимательно изучим саму карту боевых действий, – и Данилевский, отставив свой бокал, перевернул лист другой стороной.
– Итак, поверенный Рыбаков из нашей игры выбывает, – он, просмотрев документ, ткнул пальцем в подпись Игнатия Фроловича, а потом потянулся, снял с доски черную пешку и поставил ее на зеленое сукно. – Остались трое свидетелей, и их показания будут рассматривать в первую очередь.
Помимо росчерка поверенного, завещание скрепляли подписи купца второй гильдии Грузнова, управляющего Шепелевского и мещанина Хаймовича.
Данилевский потер руки:
– Душа моя Барсеньев, будь любезен, напомни мне: чьи подписи стояли в завещании, оглашенном в зале суда? Помнится, там была какая-то немецкая фамилия, так?
– Шиммер. Это доктор семьи Савельевых. В настоящем завещании его нет. Зато есть некий купец Грузнов.
Данилевский снял с доски еще две пешки – черную и белую. Они отправились вслед за поверженным «поверенным».
Андрей постучал ногтем по лакированной юбке белой пешки.
– Найти бы нам этого Грузнова, – сказал он. – Выходит, он не подписал поддельный документ и знает о существовании настоящего… Придется навести справки. Так, а что остальные свидетели?
– Арефий Платонович Шепелевский и Семен Осипович Хаймович – эти подписали обе бумаги, – ответил я. – Аглая из них троих знает лишь Шепелевского, и то с не самой хорошей стороны: он был неплохим работником у Савельева, но, увы, горький пьяница. А вот ни о каком Хаймовиче ни сестра, ни тетушка не слыхивали…
– Зато, мой друг, его знает все местное студенчество, – улыбнулся Данилевский, снимая с доски еще две черные пешки. – Симеон Осипович Хаймович – владелец здешнего ломбарда. К слову, он живет тут, совсем неподалеку. Поэтому опрос наших свидетелей предлагаю начать именно с него!
Он секунду-другую любовался на составленную им композицию, потом подушечкой пальца почесал макушку одной из черных пешек и пошел одеваться.
Я в задумчивости свернул завещание и убрал его в карман сюртука.
Взгляд мой упал на доску: в плотно сомкнутом строю черных пешек, до того прикрывавших собой тяжелые фигуры, теперь зияла обширная брешь, открывая черному ферзю все дороги для атаки.
Данилевский, надевая китель, перехватил мой взор, устремленный на шахматное поле. Он улыбнулся, беззаботно подхватил ферзя и поставил его на черную клетку в центре доски.
– А интересная выходит партия, – сказал он. – Попробуем-ка мы продолжить ее кавалерийским наскоком!
Он перегнулся через стол, двумя руками снял с доски обоих белых коней и поставил их на атакующие позиции перед ферзем. Затем он залихватски свистнул и направился к двери.
Я последовал за ним.
Мы вышли из дома, прошли по улице несколько кварталов и свернули в узкий переулок. Здесь перед нами рядком стояли, тесня друг друга, невысокие темные деревянные домики. У ограды одного из них, чуть поодаль от нас, некий молодой человек, одетый в длинный черный сюртук ниже колен и большую шляпу, закрывал на висячий замок кованую калитку.
Слегка ткнув меня локтем в бок, Данилевский поспешил к незнакомцу.
– Любезнейший, как бы нам увидеть владельца ломбарда, мещанина Хаймовича? – спросил он как можно учтивее.
Молодой человек обернулся и подозрительно оглядел нас:
– А зачем он вам, милостивые господа?
– У нас к нему есть дело!
– Дело? Хорошо, господа. Хаймович – это я, – со старательно изображаемой солидностью представился наш собеседник. – У вас ко мне есть дело?
– Нет, простите, нам нужен Симеон Осипович Хаймович, – настаивал Данилевский. – У нас именно к нему дело.
– Опасаюсь, что вам таки придется иметь дело со мной. Месяц назад моего почтенного родителя не стало, – юноша воздел руки к небу. – Холера… И теперь его лавкой владею я, его сын и наследник. Если вы с чем-то пришли к нему, то можете смело обращаться ко мне.
Он вынул большую связку ключей, отворил калитку и провел нас в лавку.
Мы зашли внутрь и огляделись.
На полках вдоль стен лавки аккуратными ровными рядами лежала разная рухлядь: потертые сапоги, шляпы, зонтики, видавшие виды гитары, письменные приборы и прочая всячина. На вешалках висели пальто, сюртуки, брюки и платья с прикрепленными к ним бечевкой картонными номерками, а на крюке под потолком, тускло поблескивая золочеными прутьями, красовалась клетка с молчаливой облезлой канарейкой. В углу за прилавком темнел приземистый стальной несгораемый шкаф, в который владелец ломбарда, вероятно, прятал менее крупные и более ценные вещи.
Хаймович-младший надел нарукавники и достал из-под конторки толстую засаленную бухгалтерскую книгу.
– Итак, господа, вы хотели бы выкупить из заклада свою вещь? Или же вы принесли мне что-то на оценку?
Данилевский замялся и, не зная, что ответить, повернулся ко мне.
– Гм, ну… – протянул я в ответ, хлопая себя по карманам и делая вид, что с озабоченностью ищу что-то под полой сюртука.
Пауза угрожающе затягивалась.
Молодой Хаймович с подозрением посмотрел на меня, а затем на Данилевского:
– Господа, прошу простить, но мне дорого мое время, и если вы…
«Черт возьми, вот так оказия…» – подумал я, и вдруг меня осенило.
Я вынул из кармана жилета свою гордость – дорогой брегет, подаренный мне матушкой на именины, и положил его на прилавок.
– Вот! – вздохнул я. – Мне нужно оценить вот эту вещицу. Симеон Осипович под хороший залог всегда давал справедливую цену.
Хозяин ломбарда снова окинул меня взглядом, потом достал из выдвинутого ящика большую потертую лупу, взял с прилавка мои часы и внимательно осмотрел их. Затем он открыл крышку и принялся изучать выгравированную на ее тыльной стороне дарственную надпись.
Потом он снова поглядел на меня.
– В карты он проигрался! Просто в дым! – кратко объяснился за меня Данилевский.
Хаймович-младший недоверчиво кашлянул.
– Удивляюсь, и как вы все-таки справляетесь с отцовским делом!.. Это же, наверное, довольно непростое занятие, – закинул удочку Данилевский. – Я имел честь знавать вашего батюшку. Какой это был человек! Какие связи, какая сноровка!..
– Сперва-то да, таки сложно, но я вполне быстро освоился, – молодой человек продолжил изучение моего брегета. – Ой, меня всегда больше интересовало отцово дело, нежели вся эта учеба, за которую мой папа так ратовал. А я так даже рад, что до занятий в университете дело не дошло.
– Что, не сдали вступительные экзамены? – усмехнулся студент.
– Почему не сдал? – с некоторой обидой ответил наш собеседник. – Просто не успел.
– Что не успели?
– Пройти их не успел, экзамены эти. Протекция, которую сулили для меня отцу, после его смерти куда-то испарилась, а я даже не знал, к кому с этим потом обращаться, ибо отец был в силу своего занятия довольно скрытен. Но я и не тужу об том. Ай, эта моя учеба привлекала только моего родителя…
– Как я вас понимаю, – поддакнул Данилевский.
– Вот как? Вас тоже взяли в шоры? – воскликнул хозяин.
– Да… – пригорюнился мой приятель.
– Ну, вот! – развел руками Хаймович. – Вот дала бы отцу моя учеба в университете возможность жить именно здесь, в Москве, а не в Гомеле или в Житомире, и что с того? Благосостояния – фьють… Ай, какое благосостояние может быть у простой честной семьи с шестью детьми!
Мы в ответ усмехнулись и пожали плечами.
Хозяин лавки деловито щелкнул крышкой часов:
– Вещица ваша хороша, поэтому я охотно предлагаю вам за нее двадцать рублей!
Я не поверил своим ушам:
– Сколько, простите?
– Двадцать целковых. Поверьте, это очень хорошая цена!
– Что?! – я задохнулся от изумления. – Да эти часы были куплены за цену раз в десять выше!
– Что же я могу поделать, если в них немало изъянов: царапинки на крышке и стекле, потертости, да и надпись сильно снижает их цену. Поверьте, вам за них никто другой больше пятнадцати рублей не даст…
– Они в отличном состоянии, – перебил я заимодавца, потянувшись за часами. Мне стало не на шутку обидно, ибо свой брегет я очень берег.
– Ну, хорошо! – Хаймович перехватил часы из одной руки в другую и прижал к себе. – Только ради вас я готов уступить и дать вам за них двадцать пять! Пусть это и выйдет мне в убыток. Двадцать пять рублей! Такая цена вас устроит?
– Нет, не устроит! – я был вне себя от возмущения.
– Извините нас, – с натянутой улыбкой встрял в переговоры Данилевский, – мне надо сказать этому господину пару слов. Мы к вам непременно еще зайдем.
Он выхватил из рук Хаймовича мой брегет и за рукав увлек меня к выходу.
– Карточный долг, милейший, – убеждал он меня на ходу, – это дело святое, и совершенно неважно, за какую сумму эти часы всучили вашей матушке…
Хозяин лавки на прощание лишь развел руками, показывая всем своим видом, что для него мое возмущение не представляется чем-нибудь удивительным, и что он готов принять нас в любое удобное для нас время.
Мы вышли из калитки и свернули за угол.
– Нет, ну каков подлец, – я стоял на обочине дороги и весь просто кипел от гнева. – Цена этим часам раз в десять выше той, что он мне предлагал!
– Тебя это так удивляет, – Данилевский со смехом возвратил мне брегет, – будто ты никогда не был в ломбарде!
– Никогда, – признался я.
– Вот оно что… – с удивлением протянул мой приятель. – А в роли проигравшегося с потрохами купчика ты смотрелся весьма достоверно. Только вот людям, пришедшим сюда, обычно уже все равно, сколько стоило их добро изначально.
– Не называй меня купчиком, – буркнул я. – Возможность выручить лишь жалкую копейку за дорогие и ценные вещи не делает это место богоугодным. Тоже мне, благотворители нашлись! Нажива на попавших в нужду – низкое занятие.
– Да, богоугодным не делает, но довольно привлекательным – вполне. Для самого хозяина, конечно. Насчет нищеты своего отца сынок тоже изрядно приврал. Поговаривали, что Хаймович – самый зажиточный мещанин в этом квартале.
Мы выбрались из переулка на широкую людную улицу. На углу стояло несколько пролеток. Мы поспешили к ним.
– С одним из наших свидетелей мы все выяснили, а сейчас, – Данилевский указал на извозчиков, дымящих папиросами у своих экипажей в ожидании седоков, – было бы неплохо нам прокатиться до кожевенной фабрики твоего дяди. Если и искать купца Грузнова, то, скорей всего, там. Эй, возничий! На Шлюзовую набережную, – приказал студент услужливо распахнувшему перед ним дверь кучеру и запрыгнул в пролетку.
Глава IX
Кожевенный завод купца Савельева располагался на крутом, поросшем травой берегу узкого канала, по которому вереницей ползли груженые широкие баржи. С воды тянулся сладковатый гнилостный запах, от которого мое нутро едва не выворачивалось наизнанку. Мы выпрыгнули из повозки и, задержав дыхание, торопливо зашагали по дощатому настилу, уложенному вдоль береговой насыпи, по направлению к заводским воротам, за которыми высились кирпичные дымовые трубы и длинное красно-белое здание цеха, окруженное потемневшими от влаги и сажи деревянными ангарами. С пригорка за цехом ровными рядами многочисленных окон на нас смотрели бурые двухэтажные рабочие казармы.
– Здесь в начальстве, говорят, много ваших, самарских, – переведя дух и откашлявшись, сказал мне Данилевский, когда мы покинули набережную. – Савельев даже содержал в этих местах доходный дом для своих мастеров. Наш купец средней руки, как мне кажется, тоже должен жить где-то здесь. Попробуем справиться о нем у местных завсегдатаев, – предложил он, указав рукой на небольшой замызганный трактир, спрятавшийся среди складов и пакгаузов.
В трактире царил полумрак. Половой у стойки протирал салфеткой не первой свежести тяжелые стаканы. У него за спиной поблескивало мутное зеркало. Было тихо, слышался лишь скрип ткани о стекло, ленивое жужжание мух под потолком да позвякивание посуды на кухне.
– Любезнейший, – обратился к половому Данилевский, – у меня дело к купцу Грузнову, и мне сказали, что его можно тут встретить.
– Приветствую вас, господа! Увы-с, Иван Петрович вот уж как две недели не захаживал к нам, – половой пожал плечами. – Может быть, он, как обычно, снова уехал в Ессентуки… Но вы можете справиться о нем на фабрике.
– Хорошо. Благодарю, милейший. Дайте-ка нам пару пива, – сделал заказ Данилевский.
Половой кивнул и засуетился над подносом и стаканами.
Мы уселись за столик. Слуга поставил перед нами большое блюдо с баранками и две кружки. Пиво оказалось весьма неплохим, но столь холодным, что его приходилось пить маленькими глотками.
– Будет досадно, если он и взаправду уехал, – проговорил, на секунду отвлекшись от трапезы, Данилевский. – Но ничего, сейчас передохнем и…
Договорить он не успел. За его спиной громыхнула дверь, и на пороге появился краснолицый мужчина лет пятидесяти в помятом котелке и испачканном известкой темном летнем пальто, на рукавах и полах которого в нескольких местах висело репье. Нетвердой походкой гость подошел к стойке и бросил на нее несколько монет, потом он сделал еще шаг-другой и рухнул за ближайший столик.
Половой скорчил недовольную мину, но, не сказав ни слова, смахнул монеты в выдвинутый ящик и исчез. Через минуту он снова появился с подносом в руке. На подносе красовался небольшой водочный штоф на пару с тарелкой с солеными огурцами, выложенными на темных дубовых листьях, с тонкими веточками засоленного укропа и зубчиками маринованного чеснока.
Посетитель тут же наполнил трясущейся рукой рюмку и опорожнил ее, однако закусывать не стал, а налил вторую и отправил ее содержимое себе в глотку вслед за первой. Лицо полового, глядевшего на эту сцену, скривилось еще сильнее. Когда стопка наполнилась в третий раз, слуга приблизился и поклонился гостю:
– Господин Шепелевский! Простите-с, но в нашем заведении не принято заказывать одни только напитки! Быть может, вы изволите-с пожелать горячее?
– К ч-черту горячее! Неси з-заливное, – отмахнувшись от полового, буркнул посетитель.
Мы переглянулись.
Данилевский подхватил свою кружку.
– Пиво здесь преотвратное! Наверное, водка получше будет? – он, не спрашивая разрешения, подсел за стол к незнакомцу. – Вы позволите угостить вас?
– С ч-чего бы это? – осоловело уставился на него Шепелевский. – В-водка тут так же гнусна, как и п-пиво! Впрочем…
– Да-да, вы совершенно правы, – кивнул студент. – Знаете, мой приятель приехал сегодня в город из провинции, но даже там можно найти напитки гораздо достойнее!
– Гм… Что… Что вам нужно? – насторожился Шепелевский.
– Мы просто хотим с вами выпить, разве это кажется вам предосудительным? – и Данилевский кивком головы пригласил меня присоединиться к назревающему застолью.
– Ладно, в-валяйте, – согласился приказчик.
Я подсел к ним и в доказательство нашего радушия вынул бумажник, с нетерпением оглядываясь в поисках полового. Тот, появившись наконец с заливным, бросился нас обслуживать.
Мы выпили и принялись закусывать.
– Но если вы, ребятки, хотите п-перекинуться в картишки, – тыча в нашу сторону вилкой и ухмыляясь, проговорил Шепелевский, – то за этим вам не ко мне! Я н-не игрок! Да и денег у меня нет… Так, хорошо, если за ш-штоф заплатить хватит, – он обернулся к половому и повысил голос, – а остальное – в кредит!..
Тот в углу поморщился и принялся за протирку своих стаканов с утроенным усердием.
– О, не извольте беспокоиться, – ответил я, – карты нас не интересуют. Я хотел бы поговорить с вами о купце Савельеве. Вы ведь знали его, не так ли?
Шепелевский перестал жевать.
– Знать-то знал… Но с чего это вы решили, что я з-захочу с вами об этом разговаривать? – он хихикнул и вытер губы рукавом. – Я вот одного в т-толк не возьму: кто вы такие? Для шпиков – слишком уж тщедушные, а для п-прочих… Праздное любопытство – дело, друзья, очень н-небезопасное!
– Я купцу Савельеву прихожусь племянником, – не стал дольше тянуть я.
Шепелевский поднял на меня взгляд. Рука его снова потянулась к штофу.
– Племянничек, значит? Не завидую я тебе, п-племянничек! Зря ты сюда сунулся, ох зря! Уже больше месяца, как я не при делах. Как раз с того дня, как мой благодетель, Петр Устинович, скончался, Ц-царствие ему Небесное, – он перекрестился. – Мне, господа, расхотелось кому-либо служить. Да-с! Бывает и такое, – Шепелевский, опрокинув очередную рюмку, икнул и перекрестил рот. – Вы, молодые люди, так обычно с-спешите на службу, так резво бежите продать свою свободу… Но ваша свобода – д-дешевый товар, ибо вы готовы отдать ее за сущие копейки. Совесть – во-о-от что у вас охотно купят, а б-больше ничего…
Шепелевский помутневшими глазами рассеянно оглядел трактир и, упершись взглядом в уже опустевший штоф, попытался выбраться из-за стола.
– Позвольте нам проводить вас, – ринулся к нему Данилевский.
Приказчик, оттолкнув поданную моим приятелем руку, со третьей попытки с трудом поднялся и поплелся к двери.
Расценив отсутствие ответа как согласие, мы расплатились и поспешили за ним.
Когда мы спустились с крыльца, Шепелевский, уже с трудом стоявший на ногах, вдруг начал заваливаться набок. Данилевский едва успел ухватить его за шиворот.
– Куда вас доставить, милейший? – спросил он.
Шепелевский в ответ неопределенно помахал рукой, и мы под локти повели его вдоль улицы.
В ее конце стоял небольшой грязный домишко. Именно к нему и направился опекаемый нами приказчик.
Мы вошли внутрь и поднялись по крутой темной лестнице на второй этаж. Здесь пьяница долго рылся в карманах, пока из одного из них, наконец, не выпала связка ключей. После нескольких безуспешных попыток хозяина отворить свою дверь нам пришлось прийти ему на помощь, и дело, наконец, все же увенчалось успехом.
Занимаемая Шепелевским комната была маленькой и неопрятной: старая потертая обстановка, пыльные занавески, испачканная одежда, сваленная комом на стульях и на кушетке. Окурки, обрывки промасленной бумаги, смятые фунтики, ореховая и яичная скорлупа – все это валялось на полу и на столе, покрытом грязной скатертью. Хозяина, который теперь стоял, прислонившись к дверному косяку лбом, чистота его жилища, видимо, мало беспокоила. Мы подхватили его под руки и усадили у стола на замызганный сафьянный диван.
Шепелевский обвел нас тусклым взглядом и заплетающимся языком проговорил:
– Эй, п-парень… Там, в ш-шкафу, – он махнул рукой куда-то в сторону, – н-настойка… Н-неси…
Я подошел к шкафу и достал бутылку. Там же оказались и стаканы, столь запыленные и засаленные, что я начал озираться по сторонам в поисках салфетки.
– Так ч-что же ты х-хотел у меня узнать, хозяйский племянничек? – развалившись на своем диванчике, ухмыльнулся Шепелевский.
Я поставил бутылку на стол. Красно-коричневый оттенок настойки и взвесь на дне не внушали мне доверия.
– Вы ведь служили управляющим у Петра Устиновича? – начал я.
– Ну, был… П-прослужил лет сто у него… – выдохнул приказчик. – Савельев полагался на меня… Да, полагался! Все сделки со мной! Со мной, слышите?.. Я же все учую, все подвохи увижу… П-правой рукой его был… – он поднес к своему лицу правую ладонь, потом вдруг плюнул в нее, вытер ее об себя и потянулся за бутылкой.
Данилевский схватил посудину за горлышко и придвинул ее к себе.
Шепелевский поднял голову и удивленно посмотрел на студента.
– А правду говорят, будто вашего хозяина отравили? – вдруг спросил Данилевский.
Приказчик вздрогнул. Его пьяные глаза загорелись недобрым огнем. Он стукнул кулаком по столу, смахнув нетвердой рукой со скатерти ореховую скорлупу:
– Савельева, что ль? Да к-кто ж их разберет? Вон у князя спроси, у его сиятельства, у Кобрина! П-понял, да? Не по Сеньке ш-шапка такие вопросы задавать…
Я вытер стаканы собственным носовым платком и поставил их на стол. С видимым неудовольствием Данилевский разлил из бутылки сомнительную жидкость.
Мы сели и молча чокнулись.
Шепелевский, мгновенно опорожнив свой стакан, хлопнул им об стол.
– Вы, ребятки, с-совсем не те вопросы задаете… Вот спросили бы вы меня, что вам д-делать, а я бы вас уму-разуму н-научил… А наука простая, любезные, простая, да: не связываться с Кобриными… – и он замотал головой, будто стараясь стряхнуть с себя хмель. – И со мной… н-не связываться!
– Вы подписали завещание Савельева? – отставив нетронутый стакан, спросил я.
Шепелевский нехотя кивнул:
– Под… Подписал… Все его завещания подписывал, все… – приказчик снова плеснул в свой стакан настойки и снова залпом опустошил его, – и в последний раз тоже…
Он снова мотнул головой туда-сюда, кажется, в поисках закуски, но, не обнаружив вокруг ничего подходящего, поднес к носу рукав и замер, будто был готов упасть на стол и уснуть. Довольно долго он не шевелился, а потом моргнул, встрепенулся и буркнул:
– Закурить… есть?
Данилевский достал из кармана жестяной портсигар.
К потолку комнаты тонкой едкой струйкой потянулся дым.
– Огибалов, с-сволочь, приехал… Мол, при смерти х… хозяин, а я еще от Пасхи тогда не отошел, так гулял… – Шепелевский с трудом копался в своей замутненной спиртным памяти. – Отвез м-меня, сказал, что надо, дескать, подписать… Я не читал, сразу подписал… А потом… эти с-сволочи, князья, старший и м-младший, конверт мне всучили, то-о-олстый такой, – приказчик сипло зашептал, – вот, мол, подношение вам в благодарность за услугу… А если что, то при свидетелях берешь! Это при Огибалове-то, п-паскуде этой! А что подписал, того я и не читал! Нет, не ч-читал…
– Вы подписали документ, который оставляет семью Савельева ни с чем, – сказал Данилевский.
Приказчик грохнул кулаком по столу:
– Ты, щ-щенок, думаешь, что я того не знаю?.. Газетные щелкоперы всю п-плешь уже проели, ан нет: и вы, благодетели, т-туда же! А как же? Что, я против Кобриных пойду? Да накось выкусите, – он по очереди показал нам грязный кукиш. – Петра Устиновича не воскресишь, а из-за м-миллионов его я ш-шутить с огнем не намерен…
Мы с Данилевским переглянулись.
– Зато, Арефий Платонович, можно попробовать отстоять справедливость в суде! Снять, так сказать, грех с души… – вкрадчиво начал Данилевский.
У приказчика на лбу вздулись вены. Он кивнул головой, потом приложил палец к губам, затем нетвердой рукой поманил моего приятеля, будто намеревался шепнуть ему на ухо какой-то секрет, а потом вдруг сжал кулак и с размахом ткнул им Данилевского в лицо.
Студент ахнул и вскочил на ноги, зажимая ладонью разбитый нос.
– Грех?! – взревел Шепелевский, перевалившись через стол. – Да кто ты такой, чтобы меня попрекать?! Грех! Да я! Да без меня!.. – он с налитыми кровью глазами попытался еще раз достать кулаком Данилевского, но тот сумел увернуться.
Я бросился на приказчика и, схватив его за плечи, прижал всем своим весом к столу. Тот, безуспешно пытаясь высвободиться, копошился подо мной, будто огромный неповоротливый краб.
– С-сволочи, – прошипел он снизу. – Все вы сволочи!.. Что, думаете, только я лже… лжесвидетельствовал?.. У нас все так! Везде так! Моя мзда ничем от чужой не отличается! Каждый свою взятку берет, каждый…
– Ты это в суде расскажешь, как ты собственного покровителя предавал и продавал, – я сгреб Шепелевского за шиворот и заставил его сесть на пол.
– Пора ретироваться, – кивнул в сторону двери Данилевский.
Мы вышли из комнаты, и, пока спускались по лестнице, в спину нам летела хриплая пьяная ругань:
– И Савельев ваш был… гад! Ирод, д-душу отвести не давал!.. После всякого праздника в речку в одном исподнем м-макал… А теперь – ш-шабаш! Кончилось все… Кончилось, слышите?..
На улице Данилевский вынул платок и, запрокинув голову, прижал его к окровавленному носу.
– Вот же скотина! – он поморщился от боли. – А удар-то был неплох, клянусь весами…
– Как-то непохоже, – с усмешкой перебил его я, – чтобы он горел желанием дать показания в нашу пользу.
– Ты неправ, – ответил Данилевский, ощупывая свой уже изрядно опухший нос. – Шепелевский – интереснейший субъект! Подумай: если его вызовут в суд, то достаточно будет пары минут, чтобы он рассказал там все то, что поведал нам. А если его подержат в камере пару дней без капли спиртного, то показания его, поди, будут еще подробнее и правдивее, верно? Нет, это не тот тип людей! Он не станет запираться и юлить, выгораживая кого-то другого. Скотина…
Мы прошли немного и сели на грубо струганную лавочку, вкопанную в землю в тени ветвистого вяза.
– Вернусь к Савельевым и тотчас подготовлю жалобу, – решил я.
– Ты же хотел дождаться приезда матери, разве нет? – ответил Данилевский.
– Нет, это я Аглае так сказал, для отвода глаз. Я хочу сам выступить против князя! Не за юбки же дамские мне прятаться!
– Погоди! Я бы еще, с твоего согласия, со своим дядюшкой посоветовался. Он у меня тоже в таких делах кое-что смыслит. Но он будет дома через три дня. А я бы пока в своей альма-матер хвосты по римскому праву подчистил…
Я пожал плечами:
– Хорошо. Как же еще сдавать римское право, если не с разбитым носом!..
Вечером я и вправду намеревался написать обстоятельное письмо матери. Однако к нам в гости пришла Липа, и я отбросил прочь любые дела.
Если бы кто-нибудь спросил меня, о чем же в тот вечер говорили за столом в доме Савельевых, я не вспомнил бы ни слова. Горчичное платье Липы, серебряная брошка в виде стрекозы на ее груди, изящный локон, упавший на тонкое девичье плечо, – вот все, что в тот момент занимало меня.
Время в ставшей теперь тесной и душной столовой, казалось, ползло медленно и бесполезно, словно готовясь окончательно остановиться. Я едва дождался минуты, когда застолье подошло у концу: какое-то странное ноющее чувство торопило меня, съедая и сжигая изнутри.
Поскольку уже темнело, я предложил Липе сопроводить ее до дома. Она наградила меня своим неподражаемым смущенно-озорным взглядом и улыбнулась. Мы выпорхнули на свободу в прохладные объятья сада, почти неслышно проскользнули по дорожке и поспешили исчезнуть за тяжелыми воротами усадьбы.
Сумерки сгущались, притупляя цвета, но будто бы высвобождая все те запахи, на которые мы обычно не обращаем внимание в полуденный зной. Яблочные сады за высокими заборами и жасминовые кусты в палисадниках источали благоухание, которое вечерний ветер разносил по округе, смешивая его с ароматами домашней стряпни, трактирных горячих закусок и дыма печей где-то топившихся бань. В остывавшем воздухе слышались обрывки голосов, звон посуды, лай собак, трели вечерних соловьев и стрекот сверчков. Мы шли по тихому пустому переулку, но все вокруг дышало жизнью. Догорая вечерней зарей, уходил в прошлое сегодняшний день с его тревогами и заботами, с убогим ломбардом Хаймовича, полным всякой рухляди, с мутной тошнотворной настойкой Шепелевского, со зловонием набережной у кожевенного завода. Пусть же этот вечер будет мне наградой!..
Мы с Липой говорили и говорили – обо всем на свете, о сотне ничего не значивших пустяков. Пару раз, правда, мне показалось, будто девушка хотела меня о чем-то спросить, но она внезапно останавливалась на полуслове. Как жаль, что сегодня тепло и ясно, и приходится просто идти по пыльной дороге, неумолимо приближаясь к конечной цели нашей прогулки, где нам неизбежно придется расстаться! Дорого бы я дал за то, чтобы небо заволокло тучами, как и в тот волшебный вечер…
– Я нынче утром заходила к Аглае, но не застала вас. Пришлось быстро выдумывать предлог, дабы уйти и вернуться позже, – сказала Липа и, чуть помолчав, добавила, – мне кажется, Надежда Кирилловна что-то подозревает.
Ее лоб пересекла тонкая морщинка, но даже удрученность была ей к лицу. Я едва не рассмеялся, но сумел сдержаться: ведь тогда она разозлится или, тем паче, обидится и будет для меня еще милее и желаннее…
– Это неважно, – ответил я. – Сегодня мы с Данилевским обошли свидетелей, подписавших завещание, и сумели кое-что выяснить. Ничего ошеломляющего, но персонажи очень любопытные. Один, владелец ломбарда, умер сразу после смерти дядюшки. Странное совпадение, вы не находите? Мы смогли поговорить только с его сыном, но, тем не менее, многое проясняется. Другой свидетель, бывший приказчик, тоже явно что-то знает! Если за дело возьмутся хорошие адвокаты, то получится очень занимательный судебный процесс. Непременно завтра составлю и подам жалобу, – я был полон решимости, – и, думаю, уже к празднику Покрова все будет кончено. Наши доказательства неоспоримы! Полагаю, во избежание шумихи мне стоит перебраться обратно в гостиницу Прилепского…
– Как у вас все гладко, Миша, – вздохнула Липа, – вы так грезите своим успешным будущим…
– Мои планы не останавливаются на получении наследства, – мой рассказ вдруг вселил в меня уверенность и придал смелости. – Пароходство – это ведь не просто дело, доход и благосостояние!
Липа замедлила шаг.
Я остановился и, взяв ее за руку, мягко повернул к себе.
– А что же еще? – девушка подняла на меня глаза.
– Это возможность… – я решился пойти ва-банк. – Олимпиада Андреевна, отсрочьте, разорвите помолвку! Ведь вы же не будете с ним счастливы! Не ради же насмешки вы позвали меня в ту часовню!
Липа продолжала смотреть на меня. Она придвинулась ближе, и ее пальцы в ажурной перчатке дотронулись до моей щеки. Так обычно гладят расшалившегося ребенка, стараясь успокоить его…
– Вы почти правы, Михаил Иванович, не просто так…
– Тогда к нашим общим тайнам давайте прибавим еще одну. Я… Я люблю вас!
Пальцы Липы коснулись моих губ.
– Миша, прошу вас, остановитесь! – ответила девушка. – Даже если я захочу отказаться от помолвки, отец никогда не даст мне этого сделать. Хотя и очень жаль: я всегда была уверена, что сама смогу лучше выбрать свою судьбу и, кажется, не ошиблась…
– Ну, тогда попросите повременить с объявлением о свадьбе! Как только я докажу в суде свое право на наследство, мне будет с чем прийти на разговор к вашему отцу!
– Тогда вам, Михаил Иванович, стоит поторопиться! После суда нам предстоит не менее трудное испытание… – в глазах Липы засияли радость и надежда.
Мне вдруг представилось, как ей и до того грезились уют зимних вечеров, шумные встречи с гостями, веселые песни под цыганскую гитару на палубе парохода, чайные застолья в саду, ажурные зонтики, красивые платья и шляпки, и все то прочее, что окружает счастливую супругу в благополучном семействе.
Я всею душой готов был разделить все эти чаяния.
Губы Липы были так близки, что я ощутил ее нежное дыхание и с трудом удержался от того, чтобы не поцеловать ее прямо там, посреди пыльной мостовой, на глазах у припозднившихся прохожих, привлекая их неуместное праздное внимание…
Мы продолжили наш путь. Переулки сменяли друг друга, будто умышленно запутывая нас и предельно удлиняя нашу дорогу. Я явственно чувствовал, как в моей руке пылает обтянутая тонкой перчаткой рука Липы.
Мы были счастливы.
В этот миг Вселенная вращалась только вокруг нас…
Когда Липа упорхнула за ворота своего дома, я еще долго стоял у витой ограды и смотрел девушке вслед.
Мне не хотелось уходить.
Я вглядывался в темные окна дома, жадно вдыхая стынущий свежий летний воздух. Где-то за сдвинутыми портьерами блуждали отблески пламени, но тут же исчезали. Только в саду в надвигавшейся на усадьбу темноте будто светились на кустах маленькие янтарные цветы.
В одном из окон второго этажа вдруг вспыхнула лампа.
Я вздрогнул. Теперь я почему-то был уверен, что знаю, где находится комната Липы. Мне показалось, что в проеме окна на мгновение мелькнул девичий силуэт с распущенными локонами.
Окно распахнулось.
Неужели она тоже всматривается в темноту, любуется этим садом и этими цветами? Как много я сказал бы ей, если бы она оказалась сейчас рядом со мной!..
Почему я должен отказываться от нее? К чему эта несуразная помолвка? Что она даст ей? Все это совершено неправильно! Если подложность завещания будет доказана, моего пароходства будет вполне достаточно, чтобы я смог составить Олимпиаде Андреевне достойную партию. Но разве это самое главное? Возможно, это важно для ее семейства, для фамилии. А для самой Липы? Разве так нужен ей этот жених, если именно меня она выбрала для того вечера в часовне, для наших прогулок? Нет, не может быть! Я совершенно уверен: это был ее призыв, ее стон, ее мольба…
Итак, нужно действовать без промедления! Нет у меня тех дней, о которых просил Данилевский, нет! Жалобу в Управу благочиния надо подавать завтра же, чтобы дело было рассмотрено безотлагательно, пока еще никто не забыл о смерти поверенного, о смерти владельца ломбарда, да и о смерти самого купца Савельева. Сейчас же я вернусь и напишу сначала письмо матери, а затем и ту самую бумагу, которая поможет мне сокрушить Кобриных! Я смогу добиться справедливости, и мне не будет отказа ни в одном купеческом доме Москвы!
Уходя, я заметил у придорожной канавы желтые купавки. Они тоже, подобно кустам в саду, светились в сумерках призрачным светом. Я сорвал их, переплел стебли и листья между собой и, не задумываясь о том, как наутро это будет расценено в доме, вставил свой букет в тяжелое кольцо, которое держала в своей оскаленной пасти привинченная к калитке медная львиная морда.
Глава X
Прошло два дня, как я подал прошение в Управу благочиния. Сухощавый и сгорбленный секретарь в черном поношенном мундире спрятал тогда бумагу в свою потертую кожаную папку и пробубнил мне, что жалоба обычно рассматривается по меньшей мере месяц. В ответ на это я лишь усмехнулся: столь важное заявление наверняка рассмотрят безотлагательно.
Что ж, дело было сделано, и все же с тех пор я не находил себе места. Пусть Данилевский и предупреждал, что ему будет в эти дни не до меня, я решил навестить его. Мне не терпелось все ему рассказать. Придется признаться, что я, так и не дождавшись совета более сведущего человека, подал жалобу, но, в конце-то концов, это все же мое семейное дело!..
Очередной летний прохладный вечер оживил Замоскворечье. По пути мне приходилось то и дело расходиться с громкоголосыми разносчиками, спешившими продать остаток своего товара, с малоприметными чинами в серых мундирах, закончившими свою службу и запиравшими свои конторы на ключ, обгонять шумные веселые компании студентов и чинно прогуливавшиеся вдоль бульваров парочки, укрывшиеся под кружевными зонтиками.
Мимо меня по мостовой прогрохотал большой черный рыдван, заглушив на мгновение голоса зазывал и распугав в разные стороны уличных собак: похоже, с таким огромным скрежещущим чудищем никому из местных псов сталкиваться не приходилось, а продолжать знакомство никому из четвероногих оборванцев не захотелось.
Я уже почти выбрался из всей этой толпы, чтобы свернуть в нужный мне переулок, но вдруг услышал властный низкий голос:
– Господин Барсеньев, добрый вечер! А вас-то я как раз и ищу!
Я повернулся и похолодел. Около панели стоял тот самый рыдван, пару минут назад привлекший мое внимание. Из-за приоткрытой дверцы экипажа на меня смотрел сам князь Евгений Константинович Кобрин.
Он жестом пригласил меня внутрь, и я, помешкав секунду-другую, сел в карету. Кроме князя, в ней сидел еще один человек лет тридцати на вид, с напомаженными и зачесанными назад волосами, одетый в костюм-тройку и с большими очками в роговой оправе на носу. Он перебирал какие-то исписанные листы и даже не поднял головы при моем появлении, нисколько не заинтересовавшись моей персоной.
– Мне, Михаил Иванович, очень бы хотелось обсудить с вами одно дельце, – сказал князь. – Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет наш разговор?
Я открыто взглянул в его самодовольное лицо и, стараясь говорить четко и спокойно, ответил:
– Да. Я так понимаю, разговор пойдет о жалобе и подложном завещании?
Князь чуть поморщился, но тут же по его лицу снова растеклась любезная улыбка:
– Нет, господин Барсеньев. Мы с вами поговорим о справедливости. И о компромиссах. Нам с вами вообще есть о чем поговорить. И потому позвольте мне пригласить вас в одно примечательное заведеньице тут неподалеку. Там мы сможем спокойно все обсудить.
Мне была не по душе эта затея, но отказаться я счел неприличным. Поэтому в ответ я лишь кивнул.
Мы проехали в молчании около четверти часа и остановились у какой-то ресторации – на вид весьма солидной, но, пожалуй, недостойной посещения столь знатной персоной, как мой спутник. Впрочем, кажется, его это обстоятельство нисколько не смущало. Места эти были мне незнакомы, но вокруг было довольно много народа, и я, покидая карету, вздохнул с некоторым облегчением.
В сумеречном зале нас встретил участливый половой, облаченный в косоворотку и белоснежные шаровары, и проводил нас за столик, предупредительно отгороженный от остального помещения ширмой. Повинуясь взгляду князя, он с пониманием поклонился и исчез.
Где-то за стенкой звенели вилки и бокалы, пиликала скрипка, кто-то смеялся. Но все звуки вязли в тишине, повисшей над нашим столом. Мы с князем с минуту сидели и смотрели друг на друга. Третий же наш компаньон все больше глядел в свою папку, которую он теперь разложил на скатерти.
Князь, покрутив ус, снисходительно улыбнулся.
– Видите ли, молодой человек, – обратился он ко мне, – есть вещи, которые мне положено знать по долгу службы. Поэтому с вашей жалобой я вчера ознакомился самолично. Позволю себе заметить, что у вас незаурядная фантазия! Удивительные измышления! Я даже разозлился поначалу… Вы, юноша, кажется, сами не поняли, на кого вы написали столь отвратительную кляузу…
– У меня есть документы, которые подтвердят правоту моих слов, – перебил я князя, стараясь говорить как можно тверже.
– Документы? – мой собеседник чуть повысил голос. – А само завещание, оглашенное прилюдно в зале суда, вам уже не документ? Подумайте, вы затеете бурю в стакане воды, но лучше никому не станет. Так я подумал тогда, прочитав вашу бумагу, так же я думаю и теперь. Однако, – тон князя смягчился, – поразмыслив некоторое время, я решил, что в чем-то вы правы. Купец Савельев столь большое значение придавал своим деловым связям, что семья невольно оказалась отодвинутой на второй план. И с моей стороны было бы несправедливым не учесть эту нелепую оплошность. Я не сторонник судов и разбирательств: на все это уходит немало денег, страдает репутация всех участников, все это сильно сказывается на делах и на здоровье. В наш век уже пора научиться договариваться. Вы со мной согласны?
Я кивнул, так и не понимая, к чему он клонит.
Князь продолжил:
– Поэтому я решил встретиться со всеми родственниками и раз и навсегда решить наши недоразумения. Конечно, я из принципа не стану нарушать волю завещателя. Я щепетилен в таких вопросах. К тому же я, как и ранее, продолжаю считать завещание вашего дядюшки подлинным. Оно, без всяких сомнений, и есть подлинное! Никто из хорошо знавших его людей не сможет отрицать, что деловая хватка у него была на высоте, а деловые интересы значили намного больше, чем все остальное. Однако я все же предлагаю всем родственникам и вероятным наследникам вашего дяди встретиться и решить, какое возмещение сможет удовлетворить осиротевших членов его семейства. Это будет справедливо, не правда ли? – и он, улыбнувшись, развел руками.
Я снова неуверенно кивнул.
Где-то за стенкой задребезжала гитара, и надтреснутый голос затянул цыганский романс.
– В случае, если мы не придем к какому-либо соглашению, – заключил князь, – то вашей жалобе будет дан дальнейший ход, так что вы ничего не теряете, разве что немного времени. Но в случае, если мы договоримся, то от этого выиграют все.
Я был очень удивлен.
Неужели вместо долгих судебных мытарств можно так легко все устроить? Конечно, князь не предложит больших отступных, но уж торговаться-то мы умеем! Неужели он испугался? Хотя ради сохранения репутации пойти на переговоры – довольно здравая мысль… Гм, надо, пожалуй, согласиться, а потом повторно написать матушке и подробно обсудить все с Аглаей. Теперь я ни на секунду не сомневался в том, что правильно поступил, подав жалобу. Что ж, ваше сиятельство, вы оказались довольно сговорчивы, и это неплохо!
– Я на всякий случай распорядился подготовить необходимые документы, – сказал князь. – Мэтр Алекс, мой поверенный, – он кивнул на своего спутника, – сейчас вам их покажет. С жалобами, Михаил Иванович, надо всегда обращаться аккуратно. Так что, любезный мой оппонент, предлагаю вам прочитать вот эту бумагу.
Поверенный князя протянул мне исписанный лист. В нем содержалось составленное от моего имени заявление: рассмотрение жалобы приостановить по причине того, что участники спора решили вести переговоры, дабы договориться полюбовно. В случае, если примирения не произойдет, жалоба будет подана вторично, и лишь тогда ее рассмотрит суд.
Я поднес документ к пламени свечи, стоявшей в низеньком подсвечнике на середине стола, и прочитал его два раза от начала до конца, старательно выискивая возможные подвохи. Все было изложено предельно логично, последовательно и лаконично.
Я взял у мэтра Алекса перо и подписал бумагу.
– Хорошо! Вы приняли разумное решение, – сказал князь. – Вот только… Давайте, Михаил Иванович, уладим еще одну тонкость. Вы заявляете, что ваше обвинение якобы основано на неких фактах. Я согласен идти с вами на переговоры. Но было бы нелепо вести переговоры, не зная, на чем основаны обвинения противной стороны. Вы не находите?
Я замялся. Князь явно хотел, чтобы я раскрыл ему свои карты. С другой стороны, его требование выглядело вполне уместным.
Помешкав секунду-другую, я все-таки решился и полез во внутренний карман сюртука. На скатерть веером легли несколько векселей. Сверху с видом карточного игрока, сорвавшего банк, я положил втрое сложенный лист завещания и развернул его. Гербовая бумага с изящными строчками из витиеватых букв, зашелестев у меня под пальцами, легла на стол приговором для князя и его семейства.
– Должен сказать вам, что это довольно опрометчиво с вашей стороны – носить такие бумаги при себе, – промолвил мой собеседник. – И все же сегодня это оказалось весьма кстати. Это значит, что мы не будем тратить наше время на еще одну, лишнюю, встречу. Извините, но я до крайности дорожу своим временем.
Князь коснулся пальцами угла завещания и придвинул его к себе:
– Гм, любопытно… Позвольте спросить, где вы это нашли?
– Не думаю, ваша сиятельство, что вам нужно это знать, – нарочито холодно ответил я.
– А я думал, что мое предложение сделает вас чуть любезнее… – и князь с безучастным видом отодвинул от себя бумаги.
Я воспользовался этим и быстро спрятал документы в карман.
Князь усмехнулся и повернулся к своему спутнику:
– Мэтр Алекс, вам необходимо составить дополнительное соглашение о том, что по завершении нашего спора все документы и обязательства, подписанные моим отцом, перейдут ко мне.
Поверенный молча кивнул.
– Ну, что ж, – сказал мне князь. – Я буду рад получить обратно эти давно утерянные векселя. Вы же, равно как и другие ваши родственники, получите отступные. Я прошу вас составить подробный список всех, кто имеет претензии к тексту завещания в том виде, в каком оно прозвучало на сороковой день после смерти вашего дядюшки.
Принесли вино. Темно-малиновый напиток блестел сквозь мутное стекло в подслеповатом свете свечи. Мэтр, вскочив со стула, перехватил у полового поднос с бутылкой и тремя высокими хрустальными бокалами.
– О, мэтр Алекс прекрасно знает, как надо подавать вино! В Москве это делают в совершенно дурном вкусе. В Древнем Риме, любезный Михаил Иванович, бытовал прекрасный обычай: в чашу, заполненную на две трети великолепным вином, добавляли чистейшую родниковую воду. Вино от этого становилось на вкус гораздо лучше. Я проверил этот старинный рецепт и теперь не признаю иного способа обращения с этим восхитительным солнечным напитком. Это прекрасно! Приглашаю вас лично убедиться в этом!
На небольшом столике у ширмы мэтр разлил вино, добавил в него воду из стоявшего рядом графина и подал нам на подносе три наполненных бокала.
Князь поднял свой бокал:
– Что же, предлагаю выпить за успех нашего предприятия! И чтобы среди нас не осталось обиженных и недовольных!
Я сделал глоток.
Разбавленное вино горчило, и сам его вкус, видимо, от воды как-то терялся. Но с римлянами в деле обращения с вином я поспорить не мог, поскольку никогда не был его любителем и ценителем: в моем доме его подавали крайне редко, разве что в виде кагора на Пасху да хереса при простуде.
Князь же, как ни странно, от вина повеселел:
– Знаете, Михаил Иванович, сколько споров у меня было с вашим дядюшкой по поводу вложения наших денег? Но у него для меня всегда был один ответ: «Дело превыше всего»! И ведь какими делами управлял! Я, конечно, очень хорошо понимаю положение Аглаи Петровны. И вас я тоже понимаю, и потому, уверен, мы сможем все уладить! Что ж, допивайте ваше вино, и мы поднимем еще по бокалу, после чего я, увы, вас покину: у адъютанта господина обер-полицмейстера даже по вечерам очень много забот.
Я с трудом допил свой бокал, и мэтр снова налил нам разбавленного вина. Почему-то меня уже немного мутило от этой смеси, но отказываться я счел неуместным.
Князь снова произнес тост:
– За прекращение всех наших невольных, нечаянных распрей!
Мы выпили.
Князь распрощался с нами и неторопливой вальяжной походкой удалился.
Мэтр позвал полового и расплатился. Потом он стал собирать свои бумаги, беспрерывно бормоча то ли мне, то ли просто себе под нос о том, какую прорву документов ему предстоит подготовить для переговоров с моими родственниками, но у меня уже голова кружилась от вина и его бормотанья, и душно здесь стало неимоверно. Мне очень захотелось поскорей покинуть это место.
– Вы же сейчас к дому Савельева отправитесь? – спросил меня поверенный.
Увидев, что я в ответ лишь молча кивнул, он продолжил:
– Хорошо. Мне в ту же сторону, и я с удовольствием составлю вам компанию, если вы, конечно, не против. Я вам даже покажу короткую дорогу – она сократит наш путь на треть…
Мы покинули ресторацию и прошли вместе несколько кварталов. Вечерний воздух улицы охладил меня. Но в животе у меня вдруг начала разливаться неприятная ноющая боль.
«Приду домой и напишу матери, что дело почти улажено…» – решил я.
Ноги мои неожиданно начали подгибаться, а язык стал ватным, словно прилипнув к шершавому небу.
«Надо будет обсудить с Аглаей предложение князя…»
А желудок тем временем расшалился не на шутку: внезапный острый спазм согнул меня почти пополам.
Я почувствовал, как на лбу у меня крупными каплями выступил холодный пот.
«Надо бы мне избавиться от моего назойливого спутника…» – шевельнулась в моей затуманенной голове мысль.
Невдалеке показалась вывеска какой-то забегаловки. Дрожащими пальцами я нащупал в кармане гривенник.
«Придется мне воспользоваться уборной в этом притоне…»
– Что с вами? Вам нехорошо? – сквозь гул в голове услышал я голос мэтра Алекса.
– Все… Все в порядке… Мне надо только… ненадолго заглянуть… вон туда… – мое тело пронзил еще один приступ сильной боли, и вывеска расплылась перед глазами.
– Милейший, что с вами? Позвольте расстегнуть вам ворот! Вам непременно станет легче дышать, – поверенный уже стягивал с меня мой сюртук.
Я теперь ничего толком не видел, лишь несуразные багровые тени мелькали перед моим потускневшим взором. Я попытался что-то сказать, но язык меня не послушался. Ноги подкосились, и я рухнул на мостовую. До меня сквозь звон в ушах донесся какой-то топот, встревоженные оклики прохожих и голос моего спутника, который просил позвать врача. Зубы мои стучали, будто при ознобе, и, поджав к груди колени и обхватив себя руками, чтобы согреться и хоть немного утихомирить боль, я вдруг почувствовал, что внутренний карман моего сюртука уже пуст. Я хотел было вскрикнуть, но мысли мои окончательно спутались, кроваво-красные тени прохожих растворились в бесконечном закате, а гул улицы отдалился и затих.