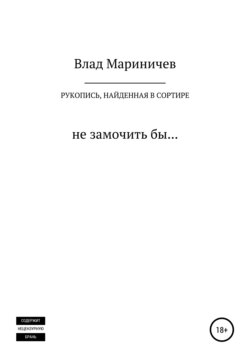Читать книгу Рукопись, найденная в сортире - Влад Мариничев - Страница 1
ОглавлениеПорядочному человеку не пристало
распространяться о своих болезнях.
И.С. Тургенев
1
В прошлую субботу я пересекал Тверской бульвар, направляясь из Макдоналдса, где отсиживался до назначенного времени, в ресторацию «Турандот». Сам по себе такой переход смотрелся бы убедительней любого вебинара о необходимых шагах к головокружительному взлету по социальной лестнице, но не в моем случае. Голову мою и впрямь малость подкруживало, – последствия инсульта, перенесенного полтора года назад, – поэтому шаги я откладывал экономно и скрупулёзно. Нормальное такое шествие. Можно сказать, я еще пребывал не в худшей своей форме, когда в такси, резко притормозившем вплотную к зебре, опустилось водительское стекло: «Гребанный зомби, живей шевели ластами!»
На той стороне бульвара тоже имелся вход в метро, и мне отчаянно захотелось ретироваться по месту жительства и терпимой самооценки, в Люблино. Не то чтоб меня там очень любили, не нужно цепляться к топонимам, но добрая половина тамошнего мужского населения пребывала в схожей кондиции. Подошли они к ней иными путями, нежели мой собственный, или нет, – не так важно. По крайней мере выглядели они так же неважно, и как минимум треть из них мне удавалось обходить на поворотах. Закладывать виражи вопреки законам тяготения.
К тому же я сам подрабатывал в такси и к пешеходам относился с превентивным милосердием: «их время, время умных и кротких, еще не пришло», – полагая достаточным то обстоятельство, что в любой момент могу и пассажира подвезти прямиком к зданию Страшного Суда: – «Нам сюда». – «Да нет же!» – «А вот же. От судьбы не уйдешь». Я про приступ, он настигает вдруг.
И потом – зомби. Никогда об этом не думал, но, наверное, да, похож. Так что ж такого несносного в расхлябанной неспешности их походки, когда всё под контролем? С ними-то как раз нетрудно поддерживать безопасную дистанцию. С человеками трудно. При современных средствах коммуникации и доставки боезаряда, человек опасен на любой дистанции.
В конце концов, от зомби можно отгородиться стальной дверью с глазком и беспечно поглядывать на их возню с замочной фурнитурой, – в отличии от тех же ментов или судебных приставов. А если в приподнятом настроении, так и посоветовать поскрестись в соседнюю, мол, там помногочисленней да и потучней будет. Они же вроде нейтронной бомбы, зомби эти. Материальные ценности их не интересуют (точно не я). Предсказуемые и уязвимые бессребреники. По большому счету им и черепушки-то дырявить не за что. Да и совестно, если честно. Уж хотя бы тем из них, кто и так подавлен своей назойливой прихотью – ломиться за куском хлеба в присутственные места. Ах, ну да, я ж как раз оттуда и туда. И где уж во мне подавленность, когда выстрел в голову полуторагодичной давности оказался несмертельным, – спасибо скорой помощи. А вот вынос мозга таксистом-психоаналитиком – вполне.
С таким настроением я и вступил под своды «Турандот».
2
И прямо с порога истребовал стакан водки.
Хрен там:
– На сколько человек заказан столик?
Паша, Паша… Добрый друг моей юности. А может, и недобрый, – туго нынче с ней, с памятью. Пусть сам чего припомнит, а я уж решу. Пятьдесят лет чуваку, и примерно столько же мы не виделись. Однако же я знал, что на мерседесах он никогда не раскатывал. Он отжигал на девятке. Ну как отжигал – выдаивал с неё жар, как с лампадки. Возможно, что сменил не одну. Но «Турандот» весьма капризна в выборе посетителей. Добиться аудиенции с ней, а тем более званного обеда, невообразимо, даже если у тебя за спиной табун загнанных девяток.
«На троих? На семерых?»
Правда, за Пашей водилась куча мелких бизнесов. На мелких людишках вроде меня. Я ведь не сказал «несчастливых», нет? Вроде меня счастливы одним тем, что живы. Хотя бы внешне.
Невероятный нюх на бабки, предприимчивость, хватка… – всё, всё, всё, я прерываю этот незамысловатый ряд. Он присущ многим. Паша же тщательно подчистил его от примесей предрассудков и ханжества. «Главное, чтобы дело было богоугодным», – делился он незыблемым правилом овладения дензнаками. Зарок, открывавший ему дополнительные лазейки и возможности.
Единственно, Паше никогда не хватало размаха. Привлеченных инвестиций, если процитировать из него же. Потому только он и не укоренился в чем-то одном, шапочно преуспев во многом, кроме разве что сбыта наркотиков и сутенерства. Хотя, кто мне о них расскажет? Тем более по телефону. Хотя… Вспомнил! Вспомнил, как он лишал меня девственности.
То есть мы помногу и на легком дыхании убивали время сообща, но с какого-то момента точек соприкосновенья в наших отношениях чуть поубавилось. Затем «чуть» снизошло до критического минимума. Паша все чаще заводил разговоры о телках, и я умолкал. А если и вставлял чего, выходило совсем не к месту. И всё оттого, что о телках я ничего не знал, в то время как об их креатурах, женщинах, знал массу пугающих подробностей.
Между шестым и седьмым классом я пролистал многостраничный талмуд «Акушерство и гинекология». В гостиной моей тетушки, провизорши, у которой я провел последний месяц лета, он, как утес-великан, выламывался из щебня художественной писанины, почти полностью совпадавшей с той, что скучала у меня дома. О да, это был мой размерчик. Книга, как она должна выглядеть, и никак иначе. Всё прочее – лажа, законспектированная наспех. Очевидную – в таком критерии – двойку по литературе к закату четверти мне все же милостиво исправляли на тройку. И лишь потому, что я пропадал в школьной библиотеке, где подрабатывала на полставки моя учительница по русскому. Но что я там читал? Я залипал на Большой Советской Энциклопедии. О, эти темно синие святыни – их не отпускали на вынос. Да и зачем? Столкнувшись с неизвестным, я тут же, минуя столик с карточками, обменивал один том на другой, содержащий начальную букву новой тайны.
Но знаете что, она бы мне только мешала, моя БСЭ, когда целый месяц, тихий претихий август у меня перехватывало дыхание над иллюстрациями змеиных бабских внутренностей. Да, я мог лишь догадываться о скрытых смыслах подписей к картинкам – но даже этого делать не стал. А кое-что, чего греха таить, попросту заляпал, и сейчас это во многом закрытая книга.
И видимо Паша дорожил нашими отношениями, если решил подтянуть меня до общих мест биографии. Диагностировав полную мою беспомощность к проставлению заурядной с его колокольни галочки, взялся самолично произвести во мне актуальный апгрейд.
В общем, как-то вечером Паша втолкнул на порог моей хаты, с отсутствующей матушкой, барышню. Нам было по семнадцать, а барышне… Рыба, так ее звали. Никаких альтернативных имен к ней не предлагалось.
Когда я ее увидел, вся боль, вся несправедливость этого мира приблизились ко мне вплотную и поочередно наотмашь справились о моем душевном здоровье. То есть я, такой специфически начитанный, уже наперед жалел женщин, под завязку набитых хворями, включая детей. Да и побаивался, признаться. А тут воочию убедился, что жалость моя не была преждевременной. Она, как и страх, была недостаточной, вот что: «бедная девочка, кто ж тебя так?» Казалось, эту Рыбу долго били головой об лед, а в промежутках заставляли есть за троих, прежде чем сочли зерцалом, способным противостоять лицом к лицу экзистенциальному ужасу, рано или поздно настигающему всех нас. А может и готовили ему в зазнобы.
Ладно, смахнем с чела семнадцатилетия французские страшилки, зелен еще, и будем считать, мне просто не хватило житейского опыта скрыть волнение под её разбитным пучеглазием.
Рыба меж тем, скинув обувку, по-свойски оттеснила меня с прохода и заскрипела паркетом в направлении уборной. Послышался плеск воды.
Мы остались одни в прихожей, и Паша, заметив мое замешательство, виновато покачал головой: – Это не я.
Я знал, что это не он. Он ее унаследовал от нашего общего приятеля Барбея. А тот в свою очередь от какого-то возрастного азербайджанца, который одолжил ее у земляка, немедленно простившего ему долг. Это всё, что я слышал о ней, ни разу намеренно не поинтересовавшись. И наверняка было что-то еще. Что-нибудь такое… Или эдакое. Или… Но хватит преумножать скорби. Школьные годы были. Кому чудесные, кому не очень. По крайней мере на тот момент Паша высвободил её из отношений. Сам он уже вовсю мутил с другой, и у девушки свободной воли выдался досужий вечерок. А тут я, весельчак, каких поискать, ага. С бухлом в разгар сухого закона. Добавлять ли к моим достоинствам невинность? Почему бы и нет – экзотика.
Мы посидели на кухне, попили вина. Пила она, кстати, тоже за троих. Поболтали о пустяках. Вернее, болтали они. Сказывалась разница между книжным образованием, хотя бы и профильным, и лечебной практикой. Добрые знакомые оттягивались вином и словоохотливостью, а я наблюдал: «Может, вам, ребята, опять сойтись? А я подожду, подожду, жизнь только начинается».
Но нет. Паша удалился в гостиную, терзать телик. Туда же я отнес ему постельное белье.
Вот и настал мой час взросления.
Одиннадцатый, двенадцатый… Все это время она лежала нагишом под одеялом, а я сидел на стуле в изголовье софы, в семейных трусах, исподволь влюбляясь в темноту своей комнаты: «Надо бы завести аквариум. Говорят, успокаивает».
Рыба… Каким станет мой первый шаг в ее сторону? Должен ли я ее поцеловать, и нет ли иных сигналов к сближению? И если нет, неужели, прямо в губы? Нельзя ли использовать краешек пододеяльника? Робко оттянуть его и промокнуть им… У меня, вон, над верхней губой пот высыпал. И почему первый шаг должен быть обязательно моим?
Наконец, она рывком вынырнула из укрытия, сдернула с меня трусливую обертку и повалила навзничь.
Первый час взросления, второй… Она кончала и кончала, а я все думал о её незавидном прозвище. Зачем ее так назвали? За что? Может, вначале все же было Рыбонька, а уж потом… Ох…
Она взяла таймаут, попросилась в туалет. Я двинулся следом. Паша рассказывал, что когда ей хорошо, она ссыт вприсядку.
– Так и собираешься стоять? – сонно спросила она с унитаза, привалившись к стене. – Не хочешь прикрыть дверь с той стороны, нет? – Нет, ей решительно не хорошо.
Я вернулся к спальному месту.
Вскоре мы воссоединились и продолжили.
Я стал представлять под собой первых красоток института. Но красота их тотчас меркла, а издаваемые ими звуки вгоняли в оторопь. Что со мной не так?
А с ней? Я и не заметил, как руки и ноги ее безжизненно сползли с меня и распластались на простыне. Она походила на морскую звезду. Замученную морскую звезду.
– Мне больно.
– Что?
– Ты мне там все натер. Давай спать. Не могу больше.
– Хорошо. – И я выключил полночи проработавший вхолостую компрессор.
Утром я пожарил яичницу. Мы практически молча позавтракали, и они ушли. Они ушли, а я остался. И прежде всего – девственником.
Так добрый или недобрый – друг? А черт его знает. Столько лет прошло. Столько воды утекло. Столько…
– Так сколько?
– Что?
– Сколько вас будет, гостей?
– А по фамилии можно? Я не знаю количества приглашенных.
– Да, пожалуйста. – И я называю фамилию.
На девятнадцать! Стол на девятнадцать персон! Неужели, замутил в этот раз по-настоящему крупное дело? Старпер-стартапер. По крайней мере, я угадал с нечетностью. Но это было несложно.
3
Гардеробная располагалась в подвале. Просторное подземелье, облицованное светлым мрамором, походило на вестибюль престижной похоронной конторы: «Эй, есть кто живой?»
Тусклое освещение, пораженное в правах на вольнодумство, сдержанная музыка из ниоткуда, как будто стенами приведенная в исполнение. Вот это вот всё, а еще – дежурный по несчастью клерк, как кладбищенский тополь, простирал свои ветви сквозь прутья ограды в готовности принять часть моей ноши на себя и облегчить тяжесть плеч. Когда-то он был улыбчив, выходил к посетителям, брал их за руки и увлекал к месту постройки гробов. Но едва подкопив печального опыта, зарекся покидать клетку, во имя собственной безопасности: – «Да ты в курсе, что это за человек был!? Кремень! Таким, как ты, выкручивал яйца и не складывал их в одну корзину! А ты мне, говнюк, ночной горшок в стразах подсовываешь!?» – «Па-па… Па-па…» – «Да, он был мне отцом. И каким отцом!» – «Па-па-рах к-к-к к па-па-раху». – «То-то же».
Именно так: «походила на похоронную контору». И давайте сразу оговоримся не подвергать мою оптику коррекции оптимизмом, а то, чего доброго, гардеробная примется обыгрывать усыпальницу королей: «Здесь принцессу разбудили, чмокнув в лобик, поздравили с несовершеннолетием и потащили под венец. Больно уж хороша, чтоб отделаться одним поцелуем». Что, без сомнения, куда вероятней, да и пленительней. Но для меня нынешнего – из другой сказки.
Стаскиваю с себя лохмотья. «Мертвые сраму не имут». Из под них вновь распускаются лохмотья, еще диковинней прежних. Вечное цветение. Можно стаскивать до бесконечности и сдавать, сдавать, сдавать… Смастерить на груди монисто из номерков. Чешуйчатый слюнявчик к грядущей трапезе а ля орденоносный Леонид Ильич…
«Остановись, – останавливаю я себя. – В твоих нарядах нет вкуса: так, унылый секонд-хенд. Так прояви его хотя бы в чувстве меры». Прекращаю разоблачение и проявляю, – не вкус, но вот какое воспоминание:
Конец восьмидесятых. Мы с Пашей прогуливаемся по Арбату. Дорогу нам преграждает негр. Не страшно: не Гарлем, мы в большинстве, да и негр – и физически истощен, и с томным отчаянием в бельмах. У него для нас что-то есть. Авоська или что он там зажал в кулаке. Нет, это майка сеточкой. Выпростал, растянув за плечики, озвучил цену. Но Паша наотрез отказывается от сделки, распознав в ней вялый ресурс к перепродаже. И мы идем дальше.
Майка и вправду выглядела не айс. Бедолага, судя по всему, успел в ней и повыпендриваться, и поваляться в канаве, а затем, не переодеваясь, загреметь в рабство. А теперь вот не сдавался, годы подневольного труда закалили его характер. Увязался за нами, настаивал, чуть не в нос пихал, приплясывая на мостовой Арбата. Тогда Паша бросил ему, что в жизни не прикоснется к «обноскам черножопого». Бросил косточку поперек горла. И тот отпрянул, разом прекратив свои безобразные танцы.
А ведь нам с Пашей обниматься сегодня. И пригласили меня, уверен, не из расчета или ностальгии. Ностальгии… Неужели-таки, для танцев с бубенцами? Компания собиралась серьезная, ребята за полстолетия разучились веселиться, вот Паша и послал за матерым эксцентриком. Что ж, приятель, неудобно подводить тебя в столь знаменательный день, но ты опоздал.
Это да, – давным-давно, как только я дорвался сам отмерять себе меру в крепких напитках, во мне и впрямь обнаружились недюжинные задатки к фиглярству весьма пограничного толку. Мгновенный и ошеломительный успех на публике купил меня тогда с потрохами, тем более, что мои поэтические опыты никого не цепляли. Чувственно лизнул, и я уперся развивать свой стихийный дар где и как придется, по поводу и без, ввиду зрителей, а чаще – в отсутствие оных. А потом всё чаще и чаще… Определенно, в своем призвании я достиг гармонии самодостаточности. Эти одиночные танцы в полумраке занавешенных окон…
Так вот, танцы закончились:
Выпучив глаза, левой рукой страстно лапаю свое тело справа. Нет, это не любовь к себе в гармонии самодостаточности. Там, справа, должна быть другая рука, а ее там нет. И огласить факт пропажи не могу, – хуй во рту оскорбляет родную речь и выдает на гора блеянье тура. Да и некому. Нет моего наперсника, Шуры, которому я по-дружбе способствую в отделке его студии на побережье Ливадии. Нет, против дружбы я ничего не имею. В её райдере двухразовое купание, трехразовое питание – всё за счет принимающей стороны. А ещё – восемь баклажек самогона Шуриных забот. Но где он сам? Где этот, сука, антрепренер, сманивший меня, домашнего клоуна, на курортный чёс? Он завещал мне свою жену, Ленку, на случай его внезапной кончины, – лакает он побольше моего. Теперь в приданном у неё к перегонному кубу добавится хата с видом на море. Жизнь, что называется, налаживается. И она не против, Ленка, он с ней это обсудил. Он не обсудил это с внезапной кончиной. Или договорился с ней у меня за спиной.
Наконец-то Шура возвращается со строительного рынка, – да!да!да! – и не находит ничего лучше, как изобразить тонкого ценителя моих стебаний. Уголки его губ впиваются в мочки ушей, – о да, мы на одной волне: «мозги включи».
Он неспешно наполняет две стопки. Одну осушает залпом, видимо, за мое здоровье или талант и наполняет вновь. Другая дожидается, когда я покину сцену. И только после второго шота до него доходит, что шутка затянулась, даже для меня.
В службе спасения ему, судя по всему, заявляют, что мой номер пятьдесят, – больно уж он надрывается в трубку, завершая свой ор эффектным ультиматумом: «Если я сейчас потеряю друга, вам всем там пиздец!» – пауза… – и неэффективным. До чертиков простой выбор.
Из глубин отчаяния я взываю к нему сбавить тон, опасаясь, что вот теперь они точно не приедут. Я бы так и поступил, из принципа. Но возможности мои ограничены законами жанра: в душе моей бушует подлинная трагедия, а на устах – жалкая козлиная песнь. Шура же вновь наращивает обороты, суля абоненту кары библейские, и я беру ситуацию в уцелевшую руку. Мысль о посмертном мщении как-то не вставляет мне прилечь на раскладушку и наслаждаться процессом затвердевания в жупел возмездия.
Я подбираюсь к козлам, застилаю их листом сметы и пытаюсь неопытной рукой нацарапать имена из прошлой жизни. «Хотя бы дочка…» Калякаю, как дошкольник, и не могу воссоздать должный порядок букв – всё вперемешку. Винегрет новояза. Обэриуты пришли бы в восторг. Но, – о, чудо! – я дружу с корифеем скрабла, и до него вновь доходит. Шура совершает какие-то звонки в Москву, спокойные и рассудительные. Ах, какое счастье, когда мобильная связь – всего лишь оперативное подспорье нужным. Вскоре появляются ангелы с тележкой, и последнее, что я слышу, уже в карете неотложки: «Пульс сто восемьдесят». Вау. Испытываю гордость (мне что-то вводят) и отрубаюсь, – ни сном, ни духом, что в приемном отделении Шуре за мое койко-место ещё предстоит торговля с применением рубля: брать, не брать. Там не только пульс, там выхлоп зашкаливал. Ну так что ж, с меня взятки гладки: посмотрел – плати.
Ладно, ностальгию можно оставить под вопросом, но не из расчета пригласили – точно.
Тут мне в связи с другим чествованием, намечающимся аж осенью, намекнули, что на юбилей принято дарить деньги. Загодя намекнули, чтоб уже начинал откладывать. Интересно, кем принято? Что за мещанский обычай? Это как раз утаили. Ну так вот, говорю как есть, без утайки: в моих карманах на предмет денег пусто, хотя одет я, как капуста. Пусто от слова отнюдь. Почему так? А вот так. Кому интересно, может дать мне немного денег и всё узнать из первых уст.
А пока никому не интересно, в карманах моих стишки. Старые, зато и нетленные, как неразменный рубль. Кому я их только не дарил. Кому ни подарю, с тем больше не общаюсь. Сила поэзии. Можно дарить и дарить, не прибегая к написанию новых.
Нет-нет, сколько в меня ни намекай, как из меня ни выцыганивай – всё втуне. Череде грядущих юбилеев никак не усугубить уже состоявшегося разорения. Я основательно подготовился. Еще во времена, когда и чувствовал острее, и весьма живенько шевелил ластами. Так что, дорогие мои юбиляры, на деньги не рассчитывайте, берите виршами.
Приняв вещи и протянув номерок, гардеробщик в безукоризненно отутюженной тройке, предупредительно вскидывает брови. Типа, не желаете ли изволить еще чего?
Еще чего! Конечно, желаю:
– Как брат брату, одолжи мне свой костюм до вечера?
Но брови его уже парят в апогее сервильности, и нет такого способа – поднять их еще выше. Тут бы и Гоголь обломался с его Вием.
Поднимаюсь выше я. Оставшись без костюма, взбираюсь по ступеням к рецепции, где меня ждет очаровательная особа. Обещала ждать.
Что тут скажешь, брат не признал брата. А жаль. Отказал полу покойнику в полу последней просьбе. Я вот, когда развелся…
Я вот, когда развелся, заново влюбился, причем, в бывшую жену. Влюбился зрело и трезво. Без сантиментов. Не то что за пятнадцать лет до того. Однако же на этот раз – безответно. Поэтому ежевечерне наливался водярой и шарился по ночным улицам, уворачиваясь от тех из них, где лиц больше, чем фонарей. Особенно парочек.
Глупо?
Глупо, глупо. А что не глупо? А что не глупо, то подло.
Подлое социальное животное человек, домысливающее инстинктивно, что и раны затягиваются раньше, и грива расчесывается игривей, если фон погряз в куда большем неблагополучии. Так я и вышел на первый московский хоспис: – «Ну хоть у вас-то здесь нет надежды?» – «Вообще никакой». Подвергать скепсису не стал, просто принял на веру. Веру.
Собеседование прошел быстро:
– Какие проблемы?
– В смысле?
– В прямом и переносном. У меня вот тут, – Миллионщикова постучала пальцем по пухлому журналу, – две сотни волонтеров, и у каждого скелет в шкафу по части смысла жизни. Так что?
– Ну, есть небольшие затруднения. Но по сравнению с вашими подопечными – ерунда какая-то.
И меня приняли. Ну как приняли, вписали в журнал и всё, вход свободный. Почувствовал неладное шевеление фибр или извилин – прямиком к нам. К ним.
Стал туда наведываться хотя бы два раза в неделю. Протирал дезинфектором мебель, плафоны, драил полы. Совершал вылазки с метлой или скребком на прилегающую территорию. Да так преуспел в очистке, – прежде всего – себя, – что замахнулся на лежачих постояльцев. Их тоже следовало каждое утро приводить в порядок. «Ох ты, ну и приснилось же тебе!» Словив ровно обратный эффект, вернулся к предметам неодушевленным, возобновив закачку сердца древнекитайским похуизмом.
Как раз собирался поволонтерить, когда меня задержал звонок:
– Владимир, свободны сегодня вечером?
– Всегда.
– Наш фонд устраивает благотворительное мероприятие. Можете поучаствовать?
– Только предупреждаю, много не дам. – «Вообще ничего не дам».
– Нет-нет, нужен гардеробщик. Справитесь? Будут уважаемые люди, они привыкли к обслуживанию на самом высоком уровне.
– Еще бы, не привыкнуть к такой мелочи.
Ладно, все мужчины в той или иной степени гардеробщики, если не исповедуют однополую любовь или не блюдут до щепетильности равенство полов. Что, по-моему, одно и то же. Только ведь это камерный опыт, не поставленный на поток.
Не проблема, мне выделят помощника.
– Если можно, по-моложе. Для пущей расторопности.
Все происходило в павильоне телеканала «Дождь», когда тот вещал со «Стрелки».
Обслуживание самого высокого уровня началось с того, что к парадному сдал открытый фургон, и парни в спецовках, чертыхаясь, втащили на второй этаж несколько массивных четырехметровых жердей на чугунных опорах. Сгрузили их в закутке, где раздевались сотрудники студии, и расположили параллельно друг другу, выдержав интервал. Отделили приемную одежды буфетными столиками из кафетерия и отвалили.
Некоторое время мы с напарником обживались в ладно организованном пространстве, прихлебывали дармовой кофе и не обращали внимания, что крюки, впившиеся в жерди, непронумерованны и без номерков. Из другой оперы. А как заметили, полундра, в спешке принялись вырезать из бумаги подобие квадратиков и подписывать их маркером. – «Эй, не забывай снимать копии», – осадил я прыть разошедшегося в скорописи подавана. Уложились впритык.
Повалил бомонд, проявив досадную пунктуальность. В другом случае, может, и похвальную, но в данном, – наверняка разбавленный записными тусовщиками, халявщиками, знакомыми знакомых и прочим сбродом, не упускающим возможности потереться локотками о селебрити и тугие кошельки, – в данном случае нет.
Завертелся маленький цирк. То есть не Вернадского и не на Цветном, а тот, вонючий, Дурова, с бесноватыми мелкими тварями вроде хомячков в колесе.
Второпях обменивая шмотки богатеев и их прихлебателей на фантики, мы лихо херили какую-либо упорядоченность. Хаотично набрасывали одежду на крюки, вставляли дубликат номерка в зазор между основанием крючка и рейкой и вновь кидались к барьеру. В итоге полчаса, – навряд ли больше, – вылились по ощущениям в два и надсадили нас до собственных теней.
Наконец, схлынуло, отбились. Отбились и вновь уселись пить кофе за импровизированной стойкой нашей гардеробной.
Прослушали вдохновенную лекцию о необходимости нарастить число людей, ожидающих смертного часа в комфортабельных условиях. Здравая идея, между прочим, очень нуждающаяся в распространении за пределы хосписа и «Стрелки». Вот чтоб её каждому гражданину заказным письмом лично в бошку и с уведомлением, что дошло. С другой стороны, как бы до гражданской войны не дошло.
Начался аукцион. Воздух павильона студии, не рассчитанной на засилье теплокровных, быстро прогорал под углекислой болтовней светского междусобойчика, прерываемого выкриками состоятельных индюков, повышающих ставки скорее из тщеславия, нежели из-за ценности лота. Ну что за безделица вроде сорокаминутного мастер-класса по бадминтону от личного тренера Медведева? Того самого, даже в бытность тогда главой отечества неубедительного, как воланчик.
Кондиционеры не справлялись. В самый разгар торгов кто-то обратил внимание присутствующих, что в помещении душно. Например, изобразил легкий обморок, – нам не было видно из-за плотно сомкнутых жоп. Открыли окно, потянуло сквозняком. Подышали и сочли, что вышло недостаточно свежо. Открыли еще одно, сквозняк усилился. Нагрянул в гардеробную, надул щеки и дал старт нашим маленьким парусникам к большой регате.
Блядь, любая бумажка к черту катись, но эта… Эти.
Мой напарник сорвался со стула хватать беглецов – куда там. Да и толку.
Я вышел на улицу, перекурить это дело. Отчего-то на ум пришла «Баня» Зощенко: «Ежели каждая сволочь веревок настрижет, польт не напасешься».
Бросил сигарету и отправился в сторону Полянки. Достаточно просветленный, чтоб не париться о таких пустяках.
А через месяц повстречал Иру и на долгое время позабыл о царстве приговоренных.
И вот я здесь, их полномочный представитель и заступник. Заступник от слова лопата: «Послушайте, вы, все, живущие ныне…» Забыл, как там дальше. И хорошо, что забыл. С некоторых пор полюбил открытые финалы. Подставляешь нужное в зависимости от ситуации: «сидите ровно» или «не забрасывайте мастурбации», – и пошли они лесом, мемориалы.
И вот я здесь. Впрягся за тех, кого здесь нет. Крутые у меня интересанты. Одним своим видом способные удручить любой расколбас. И никогда наоборот. Мне бы надменно задрать подбородок. Ан нет, его поскрести бритвой, не потревожив шейных позвонков… Бреюсь раз в неделю или реже, исключительно ради пассажиров. Точнее – пассажирок. Бреюсь для осветления имиджа исходящей от меня угрозы.
Меня вот к концу смены прилично скрючивает на деревянной седушке VW Polo. Затекает правая нога, и я перекладываю вес на левую, приобретая взамен весьма нелепый вид. Кажется, будто рулю я, прилегши на бок и разглядывая город в водильское окошко, а что там в лобовом, меня ничуть не занимает. Это отчасти правда. Правда и то, что многие дамочки ввечеру, приветливо вторгаясь в мою зону комфорта: «Ах, вы не представляете, какое везение – после стольких стремных поездок заполучить водителя славянина!» – вскорости начинают лихорадочно барабанить маникюром по обивке двери. Не представляю. Не так я представляю себе везение. Напротив, вслед за Стивеном Хокингом, чью манеру посадки я поневоле копирую, мне открылся новый вид испарения. Я пока затрудняюсь с его определением, но ведь что-то же улетучивается из этих дамочек, что они отбрасывают маску благодушия и ударяются в нервяк? Вот, что я вижу в зеркало заднего вида: «Господи всемогущий, пусть этот мужлан немедленно прекратит свою стремную оптимизацию под нужды физиологии и держит спину ровно. Ну и что, что славянин. Мне один такой славянин жизнь испортил. А этот и угробить горазд».
И начинается:
– У вас в машине есть радио? – (Умирать, так с музыкой?)
– Тарифом «эконом» не предусмотрено.
– А что предусмотрено тарифом «эконом», позвольте спросить?
– Можем послушать навигатор.
Так отчего же ни на грамм задора в моем пионерском походе к небытию, когда ни нагнуться, ни присесть без молодцеватого треска, будто хворост для костра заламываешь? Глупый вопрос, да?
О да, да, и еще раз – да, – мне по силам до поры до времени схоронить любой скелет в шкафу. Но этот-то во мне, будь он неладен! А я не шкаф и не музей: «А ну-ка, тсс, дамочка! Этот парень со мной!»
Лучше послушаем навигатор, куда он заведет:
Положим, знакомлюсь я с женщиной. Мы идем к ней, потому что сам я живу… Да неважно, как. И по дороге, я:
– Надо зайти в аптеку.
– Не надо.
– Нет, надо.
– Не надо… – И после короткой заминки: – Презервативы у меня есть. – Она сообщает это почти скороговоркой, приглушив голос до смущенного шепота.
– Да не презервативы, беруши.
– Беруши?! – Само собой, удивление: может, ослышалась?
– Ага, они самые.
– Для тебя? – Опять она, но теперь уже с нотками настороженности в голосе. Потому что в повседневных терках, может, и не обязательно, но уж когда ебешь женщину, изволь к ней прислушиваться. Этому меня еще мама научила. Мама моих детей, да и моя, если честно, тоже. Моя вторая мама, топкой тягучей ночью согласия родившая меня наново, как Диониса.
– Нет, для тебя. Ты не должна этого слышать.
– Что, что я не должна слышать? – Тут уж испуг, без вариантов. И мы никуда не идем.
Ну и ладно, у меня от женщин отбою нет. А что есть? Есть у меня в голове крупный отдел, работающий исключительно на воображение. Можно сказать, на оборонку от действительности. А при нем – элитное подразделение, отвечающее непосредственно за баб. Спецназ. Сплошь альфа-самцы. Одна беда – ветераны. Со дня первого набора никакой ротации. Им бы побухать, погрезить о былом, да искупаться в фонтане спермы.
Кстати, где моя провожатая? Мой навигатор по «Турандот».
Вот она! И вправду, ждет не дождется. Вытоптала каблучками едва заметную ложбинку в мраморе. А я заметил, заметил.
Не опутать ли её сетями изощренного флирта? «Право, красавица, ну что за холопский аватар – хостес? Всего лишь второй уровень после прохождения гардеробщика. И уж если жизнь – игра, а хоть бы и внутри компьютерной симуляции, не вознестись ли нам сразу на семнадцатый? Уровень владычицы морской. Обещаю экипировать вас убийственным артефактом – стариком. И каким стариком! С любой рыбой совладает. В порошок сотрет».
Или воздействовать еще тоньше, через изящные искусства? К примеру, с подчеркнуто наигранным неудовольствием попенять ей, что у статуи Посейдона, освящающего мудями входную группу их ресторана, хер недостаточно велик, теряется на их фоне: «А как ни верти, дорогуша, любую входную группу предпочтительней освящать хером. И чем он крупней, тем предпочтительней. Ну ты сама знаешь». И на контрапункте рассказать об одном примечательном скульптурном ансамбле, поразившем меня не так давно в поселке на Новой Риге: «Аполлон на педикюре». Моложавый олимпиец с отрешенным взором бесстыдно распахнул колени, опустив ноги в таз, гладкие, как после эпиляции. А вкруг него хлопочут речные нимфы или дриады, – черт их разберет, не подписано. Кто с кувшином, кто с полотенцем, кто с тактильным вниманием, – все при деле, все при нем. Кажется, он уже что-то сочиняет под их влиянием. Записать вот только не на чем, и рассовать, как фанты, некуда. Все мыслимые одежды он куда-то сдал, а гениталии завесил номерком. Фиговым листочком, податливым дуновенью сквозняка.
Нет-нет, не то. Да и не так. Ведь о чем я тогда подумал ввиду этого вальяжного покровителя муз и граций? Много о чем подумал. Он без срока годности, подумал я, он эту провокацию от скуки долгожительства затеял. Просто трахаться его уже коробит. Всё и всех перепробовал, дальше только день сурка. И еще подумал, что примерь он на себя одежки смертных, отрешенность с его ресниц как ветром сдует, и стишки пойдут на порядок мощнее. А уж я не откажу ему во временной регистрации и отвешу килограмма три шмоток, чтоб не замели за непотребство. Пускай оседлает любую лавку на моем районе и расслабится. Пускай потешит самолюбие незарастающей тропой, самой народной из протоптанных. А как пресытится паломничеством синяков, калек, буйных и прочих эндемиков, и возжелает исключительно муз и граций, – сбиться с ними в спа-ансамбль, – будут ему и музы, и грации, годами не чесанные, сами нуждающиеся в глубокой косметологической переработке. Одна такая не преминула атаковать меня шпилькой, когда я поскупился осыпать ее чеканной монетой. Как тут заскучаешь? Я потому только и не позволяю себе мечтать на скамейках под кронами или в ротондах – всё хожу и хожу, не покладая ног, как мудак, если не таксую или не валяюсь в койке, – а вовсе не потому, что доктор прописал. И все же, и все же: трахаться мне ничуть не надоело. Напротив… Но видите ли, господин Аполлон, сколько я ни затевал предпринимательской деятельности в отношении слабого пола, столько раз сдавал нулевую отчетность. Это как у вас с Дафною (бревно баба, сочувствую). Мне просто слишком везло на женщин с инициативой. Не часто, зато – каких! Сами об меня спотыкались и забирали в оборот. И вдруг никого больше, как отрезало. А ведь с иными искусительницами так сладко быть ведомым. И я не верю, будто все они сублимировали в завоевательниц-беспредельщиц, наподобие той, с заколкой. А верю я, что быть может… ну хоть сегодня… За спрос-то денег не берут:
– Куда дальше?
– Прошу за мной.
Я же говорил.
По округлому периметру общей залы меня проводят вдоль анфилады позолоченных наличников. За развешанными в их проемах портьерами укрываются приватные кабинеты. «Эй, начальник!»
Народу в зале – не меньше, чем в Макдональдсе, однако же… Что не так? Да так. Нет, а все же? Да все не так. Не Макдоналдс. Гул общения мягче, ленивое позвякивание приборов, в посадках тел светская непринужденность… – мгновенье остановилось и скоротечность жизни под вопросом, вот что. А еще – люди. И люди – красивые. Красивые, и всё тут, – то ли в антураже, то ли сами по себе – какая разница?
Красивые люди, да. Быстрый взгляд, брошенный в их трапезу почти украдкой, наполняет меня чувством неловкости, а то и стыда. Красивые люди окружают себя красивыми вещами. А затем, чтоб вещички не спиздили, заборами, тоже красивыми. И я двигаюсь строго по кромке интересов красивых людей, строго вдоль забора. А неловко мне оттого, что я внутри периметра. Собак, само собой, не спустят, и без того выпирает, как крепко я обручил с ними жизнь, но все же.
Все же красивые люди – само воплощение последовательности. Они и едят из красивой посуды, и наложено им туда нечто в высшей степени красивое. Ибо ты – то, что ты ешь.
Гиппократ, сморозивший эту чушь, выставил себя тем еще циником. Почище нашего Чехова. Ага. И в Анатомическом театре аншлаг. Дают «Проклятье Гиппократа». Последнюю часть дилогии «Жизнь от естественных причин». В первой части, «Метаморфозы», безымянный герой набивал брюхо деликатесами и долго игнорировал тревожные знаменья, подаваемые ему хором внутреннего многоголосья. Игнорировал, лицедействуя в упорстве и натужности, так долго, что когда стремительно исчезал в суфлерской будке или присаживался над оркестровой ямой… Само собой, что на подмостках, ввиду эстетического конфликта с публикой, прижилась вторая:
– «Поклянись, что не навредишь!» – взывал к интерну с операционного стола длиннобородый старец. Но тот, окутанный врачебной тайной, лишь демонически ухмылялся, оттачивая скальпель о накрахмаленный рукав халата. Вошла анестезиолог, необутая девочка лет пяти в ситцевом платьице (назовем её Настенька) и стиснула в ладошках сухие пальцы старика: – «Потерпи, дедушка. Будет больно, а ты потерпи. Потому что люди в зале. Красивые люди. Неудобно на людях, понимаешь?» – «А ты кто такая?! Ты, вообще, что ешь?!» – Гиппократ аж привскочил на мгновение, лягнув жесткий настил с обеих лопаток. – «А я, дедушка, ничего не ем. Я нюхаю. И видишь, какая большая вымахала! И еще вымахаю! А как до неба дорасту, спрошу у бога новые сандалии». Девочка шепелявила, еще не полностью возместив утрату молочных коренными, и «большая» вышло у ней «босая». – «Это у которого?» – «А до которого первого дорасту, у того и спрошу». – «Новые сандалии – это хорошо, очень даже хорошо. Но это потом, потом. А пока, дочка, спроси этого, с ножичком, чего ему надобно?» – «А я сама тебе расскажу, хочешь?» – Гиппократ, до того мелко осциллировавший подбородком, внезапно зашелся им в горячем согласии. Да так широко, с такой дворницкой удалью, что прихватил косматым веником бороды лицо девочки. Она зажмурилась и потерла правый глаз кулачком, её щека увлажнилась: – «Забывать тебя стали, старый хрыч, – произнесла она надтреснутым голосом пожилой и озлобленной женщины. – Крепко и насовсем. А мы тебя заново откроем».
Короче, не хочу быть обличителем общественных яств, однако, если ты то, что ты ешь, сколько ж человеческого должно заключаться в фартовом зомби? «Menschliches, Allzumenschliches!» – как восклицал один свихнувшийся фриц. Да в нем даже слишком – человеческого! Слишком! Но это в фартовом. А я не таков. Ничего, окромя заусенцев, толком и не распробовал.
И все же сегодня я подниму за здоровье друга, и не раз, и постараюсь совладать в себе с пожаром амбиций. И да, таксист был прав: я все еще умею шевелить ластами.
Мельком проскальзываю в откинутую провожатой портьеру и оказываюсь в комнате, завешанной гобеленами оттенка потертого тусклого мха. Такими же и наощупь, – я обтер о них вспотевшую ладонь. Воздержался её сырость бросать полотенцам рукопожатий, как сказал бы Маяковский.
Паша, Паша… Патриот Руси в её кондовом изводе, адепт «Домостроя» и завзятый охотник до Сабанеева остановил свой выбор на интерьерах болота. В фарфоровых кувшинках – украшенная свежими лепестками закуска. Чуть в стороне, на ломберном столике, сгрудились бутылки. Бутылки, вот уж обязательный атрибут охоты, как я её запомнил, побывав на ней разок с Пашей и давно упокоившимся Барбеем.
Удивительной, кстати, личностью отметился Барбей на этом свете. Начать с того, что Барбей никакая не кликуха, а так было отмечено в метрике и перекочевало на плоскость гранита. Заполучил однажды в собутыльники престарелого работника спецслужб, страшащегося пенсии с шестью нулями. Открыл тому бессрочный кредит в паленой водке и вскоре обзавелся веером загранпаспортов от Иванова до Сидорова с махровой семитской физиономией на титульном развороте. И под каждым документом прожил некоторую часть своей краткой, яркой и глубоко законспирированной биографии. И под каждым огреб люлей. В основном – за контрабанду и мелкое мошенничество. Ну и за прочие девиации вроде езды в нетрезвом виде: паспорта он использовал и вместо прав тоже.
Итак, у нас было с собой два ящика «Жигулевского», две бутылки «Пшеничной» и неузаконенный обрез. Чего у нас не было, так это лицензии. Как и охотничьего билета, – кто мог поручиться хоть за одного из нас? Тут как с тремя мушкетерами – один за всех, и как раз – по две рекомендации на нос. Поэтому на Барбеевской «четверке» мы отъехали от Москвы километров за сто пятьдесят, прежде чем свернули с шоссе и долго буксовали промеж снежных брустверов, откинутых трактором.
Вышли на воздух, пошукали, хищно прищурившись, зверя, – никого. Исторгли, кто во что горазд, звуки, так или иначе подражавшие фауне, хотя и нездешней. Увы, ни в одном обитателе леса не пробудилось желания попозировать нам на природе, пощеголять хипповыми рогами или топовым полушубком. Всё затаилось и перестало дышать.
Ладно, медведи спали, скворцы улетели, а остальные-то где? Где разнообразие видов? Три придурка с один-на-всех обрезом в окружении крупнокалиберных стволов, постреливающих на морозе, – вот и весь венец эволюционного кошмара? Негусто, негусто. Хоть бы какой заблудший соплеменник потревожил сказочную отмороженность чащи. Мы бы охотно приняли его за лося. И сразу бы повзрослели, уже в юности сокрушаясь ошибкам юности.
Стали опустошать бутылки и соревноваться на них в меткости, экспоненциально затухающей по мере выпитого. Но поскольку пользовали шрапнель, положили всех.
Чуть не вручную развернули «четверку», увязшую в снегах, и отчалили.
Проехали верст тридцать, как вдруг Паша кричит: «Тормози!» – «Что такое!?» – не понял Барбей, но на тормоз надавил. Нас немного занесло. – «Там птица!» – «Где ты в темноте разглядел птицу!?» – «Да точно тебе говорю, сидит на проводе!» Мы осторожно, не хлопая дверьми, покинули авто, опасаясь, как бы трофей не захлопал крыльями. Хм, в натуре, птичка на проводе.
Паша с нежностью сапера преломил двустволку. Снарядил её, спрямил, приглушив ладонью щелчок, прицелился и выстрелил.
Когда дым рассеялся, мы вгляделись в сумрак. Птицы больше не существовало, как и провода. В глубине леса погас маячивший там поселок. Всё, конец фильма – мы без слов поняли друг друга. Сейчас пойдут титры. И если мы не поторопимся, аккурат с нашими фамилиями: Пашиной, моей и какого-нибудь Петрова.
Так и провели два часа в полном молчании: я – на заднем сиденье, в полудреме; Барбей – напряженно вглядываясь в неосвещенную зимнюю дорогу; а Паша… – Паша застыл в кроткой радости блаженного.
Сейчас же он встречал меня в тридцать два лоснящихся зуба. «Где он их достал? Чертов Вронский». А когда представлял свою молодую супругу (вторую по счету): – «Это Аня…» Когда представлял Аню, с прихотливым нажимом рвущуюся из темно-лилового платья, я подумал, что зубов могло быть и побольше.
– Познакомься, Анюточка, это мой самый старинный друг, Володя, о котором я тебе рассказывал.
– Аня, вы заметили, Паша не сказал «самый дорогой». Всегда неплохо разбирался в антиквариате, а со мной просчитался, вкладываясь в меня по-молодости. Многие годы не набили цену, и лот теперь ничего не стоит. – Паша добродушно хмыкнул. Анюточка бровью не повела. Отменная самодисциплина.
А кого, интересно, она ожидала встретить? Илью Резника в волнующей шевелюре, низвергающейся в карманы пальто? Пальто такой кипенной белизны, будто спизжено у снеговика, устроившего уличный стриптиз на бодипозитиве.
А ну-ка тсс, дамочка. И волосы, и польта – всё в гардеробе. Но стишки-то при мне. На все случаи жизни.
Я вытянул Пашу в сторонку. Как бы для передачи подарка:
– Слушай, если заметишь во мне некоторые странности, ну там мычанье, протяженные слюни или сопли, кривой осклаб… Видел маску, олицетворяющую театр? Одна половинка грустит, другая над ней потешается.
– Ты прикалываешься?
– Так вот, с учетом количества гостей, двадцать минут вам на фотки со мной и короткие видео для сториз. Потом вызывай скорую.
– Новый элемент в программе?
– Вроде того.
Пока все рассаживались, я еще раз, теперь уже с вниманием прошелся по лицам. Лица, лица, лица… «Что не так? Некрасивые, что ли?» А вот что. Эти ребята, мои ровесники, многих из которых я знавал когда-то, включая именинника, они выглядели лет на десять моложе меня.
«На десять!? И только!? Да я…» – залепетал я про себя. «Да мне!..» – воспротивилось во мне. «Да внешность ничего не значит! Ровным счетом ничего! Что внешность?! Внешность это так, пшик! Зато в глубине души я всё еще…»
«В глубине души? Серьезно? Зачем же так глубоко копать?» – вновь осаживаю себя и понуро тянусь ложкой к салату. «Ты ведь подстраховался, чтоб не вышло конфуза, правда? Ты сегодня в памперсе. И вчера был в памперсе. А позавчера так вообще, побрезговав кабинкой сортира, менял его в комнате для пеленания. Сущее дитя».
5
Уролог отошел к раковине, деловито стянул с руки латексную перчатку и отправил её в ведро. Включил воду:
– Я не нашел простату увеличенной, но на всякий случай дам направление на онкомаркеры.
– Тогда что это, по-вашему?
– Есть такой синдром, постинсультный страх.
– Так я и до инсульта не отличался отвагой.
– Тут другое.
Он вытер руки бумажным полотенцем, подсел к компьютеру и принялся набивать текст. Тот же палец, что франтовато помахивал тростью у меня в прямой кишке, теперь неуклюже склевывал буковки с клавиатуры. Проба пера. Все с этого начинают.
Время шло, и в какой-то момент показалось, что доктор увлекся, попросту забыв про меня. Неужели, в моей заднице можно наковырять столько впечатлений? Надо попробовать, а то всё музы, музы.
Закончив, он вытянул из стопки бланк рецепта и выписал мне таблетки:
– Два раза в день после еды. Чаще не стоит.
– Чаще и не выйдет.
Дома я загуглил название, прифигел от ценника и полез ниже. Подумаешь, дорого. Истинный замысел писателя не в первой реакции на произведение, а в последующих. Иными словами – в побочных эффектах.
Что же замыслил мой матерый уролог и начинающий автор? Он предлагал сыграть по-крупному: острая диарея. Его можно понять: с точки зрения филологии «наделать в штаны» или «обосраться» от страха – более устоявшиеся языковые формы. Обоссаться позволительно со смеху, а мы с ним в продолжение приема были настроены весьма серьезно и пришли к консенсусу, что мной помыкает страх. С другой стороны, литература занятие опасное. Он знает, чем закончил Пушкин, – все знают, – и не бросается вонючими перчатками в лица посетителей. Он умывает руки. Раком я стал добровольно, оскорбительную эпиграмму в мой адрес, что так долго сочинялась за компом, он не показал. Он корректно отослал меня пригвоздиться к позорному столбу самостоятельно и куда подальше, – вроде как в кабинете и без того хватает неприятных запахов.
У меня в салоне авто и безо всякого дерьма побочки их тоже было предостаточно:
– Не поеду! Не поеду!
– Да почему ж ты не поедешь, Сонечка?
– Плохо пахнет в машине.
– Нельзя так говорить.
– Все равно плохо пахнет! Не поеду!
– Да чем же пахнет!?
– Папой!
Таблетки я похерил и нашел выход в подгузниках. Им всё божья роса, как утверждал производитель. Тем более, что они подарили вторую жизнь коллекции штанов, из которых я выпал не по любви, добавив мне два размера в бедрах. Даже третью, с учетом места их покупки.
– «Мариничев, знаешь, почему тебе не пишется? – Ира отложила мои поползновения с живота на простынь и одернула ночнушку. – Я почитала твои наброски ни о чем…» – «Давай, не сейчас, а?» – «Нет, ничего ты не знаешь и не понимаешь. Ты не понимаешь, что у писателя должна быть ТЕМА! А у тебя её нет. И это страшно с учетом возраста. Если уж не можешь найти работу, надевай штаны и садись, думай над своей темой. Пару месяцев я тебя еще покормлю, а дальше сам». – «А любовь – тема?» – «Да, любовь – тема и очень глубокая». – «Кажется, я свою нашел», – я возобновил экспансию. – «Володь, вот серьезно, если сейчас не уберешь руки, ты ее потеряешь».
Она знала, о чем говорит. И я знал, что она знала. Десять лет мы с ней то сходились, то расходились. Всё наше барахло смешивалось, затем делилось на глаз и вновь вступало в бинарные соединения. И однажды, где-то на исходе первой пятилетки, я обнаружил в своей писанине кое-то любопытное. Пожелтелые, отпечатанные на машинке странички, вложенные в файлик. Ну-ка ну-ка: точно не мое. Гербарий её бедной юности в театральном училище Орла. Выпал, как черт из табакерки, и увлек меня с первой до последней строчки так, что я перечитал его дважды. Рассказ поразительной простоты и силы, без дураков. И уж, конечно, про любовь. Первая любовь и чем она закончилась. Только вот почитаемому ею Тургеневу не нашлось в нем место. Ему сделалось дурно еще в парадном орловского абортария. Я прошел значительно дальше, прямиком к гинекологическому креслу, но и мне под конец будто выпустили кишки наружу.
Ладно, кишки наружу это так, первая реакция. Куда чувствительней последующая. Оказывается, всё это время я спал с человеком незаурядного литературного дарования. Ну спал и спал. Женщина с воображением – как раз в зачет качеству секса. Скверно, что когда бодрствовал, строил из себя непризнанного гения. Подолгу бездельничал, наполняя стакан с первым лучом солнца, устраивал скандалы. В общем, нащупывал подходы к шедевру по заезженным лекалам и сильно обмишурился с выбором роли и её трактовкой. Что и говорить, прескверное ощущение.
Это тогда, а теперь вон, в отсутствии темы, дописался до памперсов: «За мной, читатель! Я покажу тебе настоящую любовь! А, нет, стой пока, где стоишь, мне нужно отлить». Об ощущениях промолчу.
В литературный я поступал по классу поэзии. Согласен, звучит не совсем как фортепьяно. Совсем не звучит. А на слух воспринимается так и вовсе спорно. Настолько спорно, что нам по средам выделяли аж две пары для выяснения отношений. Четыре часа буйства высоких регистров именовались «семинар мастера». Мастер наличествовал, присматривая за нами и осуществляя судейство. Да, в основном – молчаливое, но в молчании его заключалось на порядок больше порядка, чем в окриках повиновения, когда-то сопутствовавших нашему щенячеству. Послушает, как мы надираем глотки, точно соседи, не поделившие предбанник, зачерпнет из глаз, как из колодцев, и понесет на коромысле бровей в самое пекло полемики. С одного ведра плеснет скуки смертной, с другого – тоски зеленой: «was ist das». В общем, обдаст нас самым необходимым, – всем тем, чего нам так не хватало, воинственно отстаивающим эпитет «гений» от затасканности и обходящимся сдержанными эвфемизмами к нему: «жалкое эпигонство», «детский сад» или «полное говно». На то он и мастер. Человек, на ногах перенесший «высокую болезнь». Знающий, что старое доброе водолечение от шизы исподволь расставит всё по своим местам: и жалкое эпигонство, и детский сад, и полное говно.