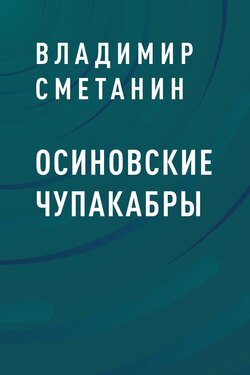Читать книгу Осиновские чупакабры - Владимир Алексеевич Сметанин - Страница 1
ОглавлениеПролог
Уж немало времени прошло с того забавного случая, а вспоминается он доныне. Тогда на отечественную эстраду только-только ворвались прогрессивные и цивилизованные бег по сцене во время исполнения вокальных номеров, прыжки в стороны и прямо перед собой, ходьба на руках и прочее подвижничество. Застоявшиеся наши исполнители прямо воспряли! И вполне же понятно: одно дело, когда на губах – песня гражданственного звучания; тут надо стоять по стойке смирно, но когда она ого-го!.. То есть, чего же столбенеть, словно статуя? И вот понеслась! В унисон начали укорачиваться одежды, до самой невозможности, появились зачатки пиар-скандалов. Но как-то в тот же отрезок времени из-за кулис вышел известный и без того певец и, не сделав ни одного прыжка в качестве приветствия, просто сказал: «Жил-был я…» – и далее по тексту своей песни, которую исполнил на все сто. Не сделав в процессе пения ни единой пробежки по сцене. Аплодисментов, тем не менее – гром!
Да, всякое бывает. А совсем недавно довелось увидеть на голубом экране, как перед зрительным залом явились четыре исполнительницы, квартет, другими словами и – совершенно одетые! Натурально: с головы и почти до пят! И что уж совсем из ряда вон – не стали резвиться на подмостках, а немедленно принялись за дело: вполне хорошо, даже отлично спели «Как ты могла, подруга моя?..», и так далее. Сдается, у них не было даже подпевки и подтанцовки. Хотя инструментальное сопровождение присутствовало. Зрители старшего поколения, думается, прослезились. От избытка чувств.
Тут стоит вернуться несколько назад и начать, как это принято, с каменного века. Первобытный человек, отправляясь на мамонта или на врага, воодушевлял и взбадривал себя воинственными криками и коллективными плясками, потрясая дубиной. Естественно, если поход завершался удачей, действо повторялось с еще большим размахом и внесением вокальных ноток. И пошло-поехало. Дальше-больше. Некоторые исследователи народных традиций убеждены, что нынешние наши пляски, особенно вприсядку – не что иное, как перенятый некогда у ратников прием ухода из-под удара. Допустим, супостат замахивается мечом, а наш-то раз! – и вприсядку! Тот машет и машет мечом – и все над головой, все мимо. Наш выкидывает коленца, а сам пятится вприсядку и все уходит, все уходит. Да сабелькой-то – снизу! И – ага.
То есть, особой заслуги современных артистов в плясках нет. Это просто забытое старое, в свое время очень полезное занятие. Даже жизненно необходимое. Как и ладная песня. Сейчас – другое дело. Некоторые из них весьма затруднительно исполнять вприсядку, протяжные – особенно. Например, «Гуд бай, май лав, гуд бай!..». Да и «Шумел камыш…» – тоже. И все-таки движение по сцене в некоторых случаях полезно, при том, что не стоит игнорировать и отдельные другие традиции. Например, после душа, перед выходом на публику, не забыть одеться. И стараться запомнить слова старинных шлягеров, может быть – даже записать. Ведь может сложиться так, что их уж не догонишь. А тут… Вдруг сверкнет давно утерянный песенный бриллиант! И очень просто: всплывают же время от времени различные древние артефакты.
Глава 1
Выборы – всегда ответственное и суматошное дело. Выборы губернатора – не исключение. Сторонники действующего до последнего времени губернатора Полозова не допускали мысли, что кто-то может занять его кресло. Это выглядело бы так же противоестественно, как восход солнца с западной стороны или запивание горячей баранины на пикнике студеной родниковой водой. У начальника его предвыборного штаба Колоедова поэтому голова шла кругом. Ну не мог же он, в самом деле, запретить выдвигаться другим кандидатам, хотя Полозов слегка хмурился при известии об очередном претенденте на главное кресло области, и негодующе глядел на приближенных. Да что там негодующе – прямо сказать, волком. Дескать, почему же этот подле… конкурент ходит по земле, как ни в чём не бывало, совершив такой святотатственный поступок? Ну, конечно, не обязательно у него должны быть переломаны ноги, можно и что-то помягче… но, на худой конец, и это бы сгодилось. Впрочем, такие мысли губернатора Колоедову, скорее всего, просто мнились от переутомления – мало ли, что человек смотрит волком? Ты зайди в любой трамвай в час пик – там только так и смотрят. Хотя, надо сказать, в трамвай он давно уже не заглядывал – того гляди, лет двадцать. И там могло кое-что перемениться. И вместо окрика «Ну куда же вы прете? Наступили мне на ногу, чисто носорог!», нынешняя стесненная в трамвае дама при наступлении ей на ногу, возможно, восклицает: «О, как вы неловки! Не могли бы вы, если это возможно, убрать свои копы… свои каблуки с моих ног? Я была бы вам очень признательна!».
Сегодня Колоедов пригласил к себе в штаб министра культуры области Волоокова. Собственно говоря, министра он вызвал – начальник штаба действующего губернатора может себе это позволить – но чтобы все выглядело благопристойно, облек это в форму уважительного приглашения. Волоокова часто называли Волоковым а то и просто Волковым, на слух затрудняясь правильно расчесть его фамилию, на что он смертельно обижался. Но Колоедов давно изучил ее по многочисленным протоколам, решениям, постановлениям и презентациям, так что и на этот раз называл Волоокова как и следует, Волооковым. Несмотря на это, вид у приглашенного был пасмурный и озабоченный.
– Так вот, Николай Евгеньевич, – после взаимных приветствий перешел к делу начальник губернаторского штаба, – выборы приближаются, и чем дальше, тем быстрее. Прямо надо сказать, галопом. И следует нам ускоряться. Мы, между прочим, рассчитываем в предвыборных делах и на тебя, – признался Колоедов, оставляя приглашенному возможность думать, что «мы» – это в том числе и губернатор. И делать из этого выводы. Прозвучало это значительно и строго, но не возымело действия.
– Видишь, какое дело, Антон Николаевич, – отвечал Волооков, – у меня на днях ожидается федеральная ревизия, и заедут не меньше, чем на месяц – давно не навещали. Я уж и не упомню, когда. И мне ни под каким видом уклоняться нельзя – ни в армию пойти, ни заболеть, понимаешь. А так – я бы непременно…
– Ну как знаешь, – разочарованно произнес начальник штаба, – но вот что я попрошу тебя обязательно сделать. Есть у тебя в министерстве такой Локтев, видимо, молодой, да прыткий. И он додумался агитировать за нашего конкурента, за Лапшина то есть. А это основной конкурент, ты знаешь. Так вот, окороти своего Локтева, чтоб и слуху и духу его здесь не наблюдалось до выборов. На это-то я могу рассчитывать?
– Несомненно. Это я сделаю.
– Ну и добро. Все-таки при случае не забывай замолвить пару слов за нашего… Он все же для нас немало сделал.
«Для тебя, может быть», – мысленно поправил Колоедова министр культуры. Упоминая о грядущей московской проверке, он не кривил душой. Известно о готовящейся неприятности стало ему окольными путями и теперь срочно приходилось заделывать многочисленные, ох, многочисленные огрехи в использовании финансовых средств. А это непросто. Как объяснить, например, расходование нескольких миллионов рублей на массовые культурные мероприятия, которые проводились номинально, условно, или и вовсе не проводились? А строительство четырех домов культуры в глубинке, не которые потрачено раза в полтора больше, чем они того стоили, и это бросилось бы в глаза даже не слишком искушенному бухгалтеру? А приедут волки дебета-кредита, в чем Волооков не сомневался. Было от чего впасть в депрессию, хотя в такой момент это, он понимал, совершенно непозволительно. Следовало действовать. А тут еще эти выборы… Он вызвал своего заместителя Лихолетова и дал ему строгие инструкции, о чем секретарша могла догадаться по металлическому тембру голоса патрона, доносившемуся из-за двери, хотя о чем речь, не разобрала.
***
Сергей Локтев с детства пристрастился к рыбалке и, поскольку эта золотая пора и отрочество протекали у него в сельской местности, где имелись различные водоемы, увлечение это не стоило ему особых хлопот и затрат. Хотя сибирское лето достаточно коротко, а на селе хватает и других, менее увлекательных, но обязательных занятий – огород с его нескончаемой прополкой и поливом грядок, сенокос, посадка, прополка и выкапывание картошки и много чего еще. Полмесяца драгоценного летнего времени крала у него учебная практика – трудовая повинность на пришкольном участке, покраска и побелка заборов, уборка мусора. Ко всему, не каждый летний день выдается погожим – иногда дождь может зарядить на неделю. Но это обстоятельство, хотя и доставляло определенные неудобства, не останавливало Сергея в его стремлении порыбачить. К тому же в дождь, когда он моросил размеренно и спокойно, клев бывал особенно хорош. И тогда чаще попадалась крупная рыба. Хотя пудовых сомов и щук, о которых рассказывали старики, уже не водилось, но килограмма на два-три – такие попадались не так уж редко.
– Серый! – кричал утром под окном приятель Жэка, – ты проснулся?
– Проснулся, проснулся, – раздавалось в ответ, и Сергей выбирался с лопатой и банкой червей, наоборот, из-за сарая. Ничто другое не могло бы друзей заставить проснуться в такую рань, когда еще и коров-то на пастбище не выгоняли. Они спешили на реку, вздрагивая от утренней сырости. Попервости выбирали места, открытые для солнца, а когда начинало пригревать как следует, забирались в заросли, где под нависшими над водой кустами резвились особенно упитанные ельцы. Над тихими заводями можно сидеть подолгу, глядя на поплавки, которые в любой момент могли скрыться под водой – ельцы, а тем более окуни, хватали наживку решительно и безоглядно. Случались дни, чаще в середине лета, когда на реке клева почти совсем не отмечалось; тогда друзья подавались на озера, ловить карасей. Озер среди болотистой равнины левого берега имелось в достатке, и даже очень много, учитывая полчища мошкары, гнездящейся тут. В пору половодья большинство из них сливалось в одно большое, питаемое вздувшейся рекой и доедаемыми солнцем лесными сугробами. Если лето выдавалось жаркое, лишняя вода скоро уходила и озерки снова становились автономными, успев как следует глотнуть свежей, хотя и не слишком чистой воды. Имел место во время половодья и рыбообмен между озерами и рекой, но если караси в реке еще как-то попадались впоследствии, то окуни, зашедшие ненароком в озера, зимой не выживали подо льдом. Изредка попадались щуки, но вся основная рыба, обретавшаяся здесь – это, ясное дело, караси. Клев их отличался непостоянством и возмутительным лукавством, но ввиду множества озер, запросто удавалось найти такое, где караси наджно брали на простейшего земляного червяка, в то время, как в соседних водоемах совершенно игнорировали любое угощение. Более покладистыми считались серебряные караси, золотые же ценили себя слишком высоко и клевали особенно неверно и нечасто. Наиболее впечатляли рыболовов особи, обитавшие в одном из небольших лесных водоемов, наполненном водой настолько чистой, что вполне отчетливо просматривались на далёком дне опавшие с деревьев листья. Сказать, насколько глубоко озеро в каком-нибудь конкретном месте, не представлялось возможным, но когда мерили длинной хворостиной, глубина оказывалась вдвое большей, чем казалось. И в этой глубине неторопливо плыли малыми стайками золотые караси – не караси, а целые сковородки, то исчезая, то снова возникая среди коряг. Ни на какую наживку они никогда не брали, применить бредень ввиду закоряженности не имелось никакой возможности, глушить же их никто не решился: это все-таки оставалось одной из настоящих местных достопримечательностей.
Надо сказать, Жэка рыболов оказался неусидчивый, и долго дежурить на одном месте у него не хватало терпения, поэтому он ставил сразу несколько удочек на порядочном расстоянии одна от другой и в продолжение всей рыбалки сновал по берегу, проверяя, не клюет ли где и цела ли наживка. Обычно он задерживался у той удочки, где как раз не клевало, в то время, как клевало где-то на другом конце. И если клев выдавался вялым, на крючке он находил лишь обрывки червяка. Случалось, при забросе особо длинной лески под порывом ветра она запутывалась в нависших кустах – тогда Жэка громко ругался и дергал снасть до тех пор, пока она не обрывалась. На то, чтобы пригнуть куст и выпутать леску, выдержки у него недоставало. Но никакие происки природы не могли отвратить его от рыбалки, точно так же, как и его товарища по этой канители. Последний, напротив, казался вполне уравновешенным; пожалуй, даже слишком, за что иногда в сердцах приятель называл Локтева тормозом. Что было, в общем-то, несправедливо. Но вот то, что Локтев оказался человеком впечатлительным – это да. После особенно удачной или, наоборот, неудачной рыбалки или иного серьезного предприятия на него наваливались сны – по теме, а иногда и просто не имеющие никакого отношения к событиям дня. Впрочем, это никому, в том числе и Евгению, не доставляло никаких неудобств. Впоследствии, когда они учились уже в городе, и после учебы порыбачить, как прежде, им удавалось нечасто, но приятелями они так и остались и иногда перезванивались.
Вот и сейчас, когда зазвонил телефон и Сергей поднял трубку, послышался голос Евгения Солодкова.
– Здоров, Серега! – приветствовал друга Солодков – вполголоса, чтобы не уронить ненароком престиж Локтева перед сослуживцами, буде они окажутся рядом. Для них-то он все-таки Сергей Сергеич. – Я с одной идеей: надо бы, понимаешь, устроить выставку молодых художников, причем деревенских, моих картин в том числе. Ты посодействуешь? А мы организуем газетную статью о внимательном отношении к зреющим талантам в минкульте, то есть талантам не в минкульте, как ты понимаешь. И особенно – твоем отношении. Как тебе это кажется? Нас трое, а работ можем представить этак десятка четыре-пять. А?
– Я посмотрю планы. Ты знаешь, это дело не моментальное. Ты в выставочный зал не обращался?
– Как же, непременно. Но там такое занудство: у них, видишь ли, эти планы сверстаны аж чуть не на пять лет вперед. Интересно, где они берут столько художников? Чередуют одних и тех же?
– Видишь ли, план-то с них требуют. Наша контора в том числе. Они и рады стараться. Но я посмотрю, куда можно вас воткнуть. Вам на подготовку сколько времени нужно?
– Мы – хоть завтра.
– Ну и ладно. Созвонимся.
– Как в целом жизнь?
– Сносно, хотя летом город действует на меня плохо. Зима – другое дело: на «природу» не очень-то побежишь. Так что зимой все кажется нормально.
– Да. Но летом хочется тут все бросить. Гори оно синим пламенем.
– У меня то же самое. Однако же я собираюсь в отпуск. У меня еще неделя его осталась в запасе. Хотя получается он опять-таки чисто городской: ввязался я в выборы. Но об этом потом. Ага. Давай. Я позвоню.
Положив мобильник в карман, он начал рыться в бумагах на столе, силясь отыскать план работы выставочного зала, хотя его вполне могло и не оказаться – разве только в привязке к каким-нибудь приказам, решениям или постановлениям. Но ничего такого не обнаружилось. Надо, стало быть, звонить в выставочный зал союза художников, узнать, как и чего. Он уже собрался это сделать, высветив нужный номер, но предприятие остановил голос секретарши по внутреннему телефону. Локтева вызывал заместитель министра.
Глава 2
– Присаживайся, – не пригласил, а скорее, приказал Лихолетов, как и полагалось ему в обращении с подчиненными, хотя отношение его к Локтеву выглядело больше дружеским. Что вполне объяснимо: именно Лихолетов присмотрел перспективного культработника в одном из городских отделов культуры и немедленно перевел его в областное министерство. Понравился ему молодой специалист тем, что организовал по месту прописки, то есть в Никольске, аж два музыкальных коллектива, успев поработать после окончания института культуры лишь два года. Это, конечно, не штука: мало ли организуется и разваливается всяких ансамблей, но тут один из них – духовой оркестр. Редкостное дело по нынешним временам. Оказывается, духовые инструменты приобрели еще лет тридцать назад, в то счастливое время, когда средства выделялись на все понравившееся, без составления бесконечных бизнес-планов и достаточным считалось, если они осваивались. Тогда следовали новые вливания, и если иногда журили за перерасход средств, то за неосвоение били гораздо хлеще. И поделом! Нынешним предпринимателям такое и не снилось.
Завитые улитками альты и когда-то новейшие модные гэдээровские помповые корнеты пылились на складе; что помешало сразу пристроить их к делу – этого никто объяснить не умел. Локтев случайно прознал о медных трубах, и решил вывести в свет все это богатство. Правда, недоставало нескольких инструментов, бас оказался изрядно помят, а кроме того, куда-то подевались все мундштуки. Мундштуки выточили по заказу, приобретение дорогостоящих недостающих труб и восстановление баса отложили до лучших времен, тем более, что последний, несмотря на помятость, вполне прилично выдавал требуемые звуки. Главная трудность состояла в том, как найти музыкантов и выбить в штате единицу дирижера. Музыкантов пришлось учить с нуля, а дирижером стал на четверть ставки аккомпаниатор Дома культуры. И дело двинулось неплохо. Поэтому-то и пошел молодой специалист на повышение. Им заменили старого, очень грамотного, но три раза в течение полугода попавшегося на глаза министру крепко выпившим после проводимых на выезде культмассовых мероприятий. Локтев, само собой, чувствовал признательность Лихолетову за такое назначение, но и Лихолетов благоволил к нему очень и очень, как будто это облагодетельствовали его самого.
– Вот я и говорю, – продолжал Лихолетов, – надо тебе, Сергей, съездить на пару недель в глубинку, пособирать фольклор. Ты когда в последний раз выезжал за пределы полиса?
– Три дня назад. Сейчас делаю квартальный отчет, начал делать. – Я не знаю, – нерешительно почесал он в затылке, – какой сейчас можно найти фольклор? Последний собрали энтузиасты, наверное, уже лет сто назад.
– Сергей, тут ты мне напоминаешь хлопнутого газетчика. Редактор спрашивает: «Где у тебя новости?» А тот ему: «Новости все закончились, и больше нету». Понимаешь – жизнь не стоит на месте, за ней шагает и фольклор, прирастая новыми вещами. Ты разве не знал? Так что собирайся: отчет подождет, а после дополнишь его еще этой командировкой. Запамятовал: ты из какого района родом? Из Берестовского? Ну, видимо, там с фольклором действительно неважно, а то бы ты не говорил… Стало быть, поедешь в Никольск – там фольклора, если поискать, то богато.
– А если все-таки не очень получится?
– Выговор – не то шутя, не то всерьез отрезал Лихолетов. – Уж ты расстарайся. Привлеки местных культработников. И должен сказать: ты при всех обстоятельствах обязан на время исчезнуть. Из музея народного творчества чароитовую русалку сперли? Сперли. А на носу московская проверка. «Что ты будешь ему отвечать»?
– Так Евграф Васильевич, прозевали-то музейщики, при чем же здесь я?
– А ты курируешь народные промыслы. Как же не отвечать? Но авось обойдется, пока ты будешь трудиться на ниве фольклора, мы будем здесь отдуваться. И еще: тебе известно же, какое внимание сейчас культуре, так что суточные ты получишь, но насчет гостиницы не обольщайся – придется встать у кого-нибудь на постой, где подешевле. У нас все-таки не Лазурный берег, народ жалостливый и туристами не избалован. Вопросы есть?
Локтев снова почесал в затылке:
– Когда ехать?
– Лучше – раньше. Давай прямо завтра. А что до старого фольклора… Ты знаешь эту песню? Лихолетов набрал воздуху и вполголоса завел: «Звонит звонок насче-е-от поверки. Ланцов задумал у-убежа-ать…». А дальше не помню. Ты ее знаешь? Хотя бы мелодию? Слух у тебя должен иметься. Ты ведь, кажется, на фортепьянах играешь, на трубе, на балалайке?
– На гитаре, – машинально поправил Локтев. – Но нет, такой мелодии не припоминаю.
– Ну вот. И ведь песня, без сомнения, каторжанская, наших краев то есть. Или недалеко от наших краев. А ты говоришь, «энтузиасты». Да тут поле непаханое! Так что собирайся, не откладывая.
Разумеется, о настоящей причине столь срочной командировки Лихолетов Сергею ничего не сказал.
– Как? – на выходе спросила секретарша.
– «Я буду долго гнать велосипед. В глухих лесах его остановлю», – нарочито фальшиво спел ей на ухо специалист отдела народных промыслов.
Некоторые планы, похоже, разваливались, но что-то подсказывало ему, что не совсем, а может, и совсем даже не разваливались. Но, конечно, прежде всего – задание Лихолетова. Все-таки человек заботится о нем, а заодно – и о фольклоре. Сразу два зайца. Недаром же он замминистра! О том, что имеется еще и третий заяц, он даже не подумал. Как можно!
Следовало позвонить Жэке и объяснить ситуацию: дело с организацией выставки откладывалось. Весть эта была воспринята другом с философским спокойствием.
– Я, как только управлюсь тут с некоторыми делами, приеду к тебе в гости, на пленэр. Давно не выбирался на природу, – пообещал Евгений.
– Буду ждать – отвечал Локтев. – Можешь захватить свою половину.
– Это навряд. Она погрязла в театре. Никакие караси ей пока не нужны.
– Ну, собирайся сам.
Назавтра, вооруженный качественным звукозаписывающим аппаратом, он ехал в стотысячный город Никольск, хотя подозревал, что никакого фольклора там не обнаружится, и рыскать придется по деревням, благо, почти всю свою жизнь провел именно в этом районе. В Берестовском прожил он лишь полтора года, отбыв затем, не в силах отстать от родителей, в Никольск. Знакомых здесь у него здесь обреталось много, жаль, что на постой придется устраиваться в деревне – наездами из райцентра много старины не наберешь. «Ланцов задумал убежать»! Интересно, удалось ему это, или нет? Если бы удалось, песню, пожалуй, не стали бы складывать. Не фестиваль ведь: каторга! Жаль Ланцова.
***
Дед Игнат ждал на каникулы внучку и ввиду ее грядущего приезда приводил хозяйство в порядок, насколько ему позволяли спина, которую временами заклинивало, и фантазия. Уборка интерьера заключалась в подметании всех углов и протирании затем всего линолеумного покрытия шваброй, к которой привык еще с армейских лет. Но поскольку жил он один, мусорить было особенно некому, борьбу приходилось вести только с пылью, которая бралась невесть откуда. Старый тщательно промыл посуду, которой использовалось весьма немного, и проинспектировал все шкафчики – не затаилась ли где забытая грязная плошка? Наконец, протер и подоконники, что каждый день делала когда-то его супруга, которой уж нет. Не сказать, что он совсем позабыт-позаброшен: не одна только внучка, которая сейчас окончила первый курс института, имела заботу о деде Игнате. Нет, не она одна – попеременке, а то и вместе, наезжали дочь с зятем, которые жили в райцентре. Всего – то пятьдесят с небольшим километров. Зять приезжал, чтобы наколоть дров и распить с тестем бутылочку водки на деревенском просторе. Несмотря на свои 75, хозяин мог составить компанию, хотя уже не принимал слишком много горячительного. Дочь в свои приезды занималась отцовским хозяйством основательно и работала по дому не покладая рук, когда же он говорил: «Ну, хватит, отдохни хоть» – она отвечала: «Да завтра ведь уже на работу. Там и отдохну». Она и жила бы тут же, в деревне, да работы ни ей, ни мужу в Осиновке не нашлось. Хотя село очень большое. Они звали постоянно деда Игната к себе в город, но тот и слышать об этом не хотел. Никак. Подозревая, что дорогой для них сейчас, при постоянном проживании вместе в небольшой городской квартире он может стать для молодых, пожалуй, обузой. Да и вообще, что это за жизнь – в городе? Это кошмар какой-то. Наказание, да и только. Инфраструктура его жилища позволяла жить без особого физического напряжения: ему установили электробойлер, хотя сохранилась и старинная печь, для которой закупались дрова; насос качал воду из неглубокой скважины прямо на кухню. Не имелось только мусоропровода и ватерклозета, но такой недостаток ребята собирались вскорости устранить и давно бы уж сделали это, да предполагали, что Игнат Петрович вот-вот все-таки согласится на переезд в город – для чего же тогда все старания?
Дочка договорилась с соседкой, чтобы та присматривала за ним и хотя бы два раза в неделю варила ему суп или борщ, хотя он и сам считался мастером по части кухни. Но если заниматься ею изо дня в день – порядком надоедает. Он давно уже привык обходиться компанией с самим собой, пристрастился к чтению русской классики и зарубежных детективов, читая то и другое по очереди. Особенно много времени отдавал этому зимними вечерами, предпочитая книги телевизору. При этом Игнат Петрович не стал сычом, а слыл вполне себе общительным, оптимистически ориентированным и насмешливым даже стариком. Некоторую серость его обычных будней минувшим летом к тому же скрасила история с метеоритом, благодаря которой общения с разным народом у него стало, пожалуй, даже слишком много.
Внучка позвонила утром, сообщая, что выезжает, а к вечеру – солнце стояло еще высоко – привычно отворила калитку, вызвав необыкновенный восторг старого пса, охраняющего еще более старого хозяина. Последний по лаю безошибочно определил, что это прибыла долгожданная гостья. Пока она умывалась и переодевалась с дороги, без умолку высыпая свои новости и одновременно расспрашивая о местных, дед сноровисто накрывал на стол. Тут явились квашеная капуста и соленые грибы, суп из деревенской курицы, которую надо варить два часа, но и продукт получается отменный; источали пар жареные свиные ребрышки с толченой картошкой. Подоспел компот из сухофруктов. Все это хлебосол, усадив за стол внучку, пододвигал ей и потчевал, потчевал.
– Ой, да что ты, деда, – я же столько не съем. Я уже разучилась столько есть! – смеялась внучка, вооружаясь ложкой.
– А вот мы организуем тебе аппетит, – сказал дед и достал бутылку водки и две стопки. – Или, может, ты будешь шампанское?
– Ну, ты, деда, на широкую ногу живешь! Нет, я тоже выпью водки, но только немного.
– Ну и лады, – совсем развеселился старый. – Гости-то у меня совсем редки… Правда, наповадились в последнее время метеоритчики. Но об этом потом, – и он наполнил стопки. – Как же ты со своим багажом? Позвонила бы, я бы встретил.
– Вадим помог.
– А-а, это который Батунин? Ну, давай, за встречу. Давно ты у меня не гостила! – и дед Игнат осушил стаканчик.
– Зато, деда, я теперь аж на две недели. Потом к родителям заеду дней, может, на десять – я у них сейчас два дня побыла – и обратно, на учебу.
– Ну, хорошо, ну хорошо! Славно! – и хозяин снова наполнил стопки.
– Посмотрел бы кто, как мы сидим и пьем вдвоем, – засмеялась гостья.
– Ну, «какое мне дело до вас до всех, а вам до меня!». Мы дома. Да ты ешь, ешь, похудела-то, надо же! Ты что же, утром, наверное, не успеваешь поесть?
– Нет, успеваю. Но утром есть неохота. А чай мы пьем, – покривила душой внучка, чтобы не расстраивать деда. Утром действительно они всей комнатой в общежитии от завтрака отказались. В целях сохранения фигуры. Правда, потом, часам к 11, зверски хотелось есть. Но что же тут поделаешь!
– Да, а что это за метеоритчики, и чего им от тебя надо? – спросила она затем с некоторой тревогой.
И дед рассказал, что случилось с ним в пору первых грибов, до поедания и сбора которых он был большой охотник. Внучка слушала и то и дело принималась смеяться, хотя положение, в общем-то, рисовалось серьезное и неизвестно еще, чем все могло закончиться. Не такая она, если разобраться, легкомысленная, но уж больно ее позабавила эта история.
Глава 3
Ему надоела беспросветная нищета и постоянные поиски приработка. Да и какой особенный в их деревне приработок? Зимой – только заниматься извозом, нанимаясь к городским купцам да своим местным зажиточным мужикам, которым больше повезло в жизни – пахали отцы, деды и прадеды и помалу наворотили богатства. Ну, конечно, не помещики, а все-таки живут справно. А на извозе много не заработаешь: платят заказчики не больно-то щедро, особенно свои, местные мужики. У него, у Андрея, не заладилось: отец рано умер, надорвавшись на строительстве мельницы Ильи Копылова, когда перетаскивали жернов. Задаток, который перед тем выдал Копылов нанятым мужикам, пришлось возвратить, продав одну из трех овец, имевшихся в хозяйстве. С того и пошло: не минуло и месяца, как потерялась вторая овца – решили, что ее зарезали волки, хотя мать грешила на соседей: хозяина-то не стало, почему бы не попользоваться? Добиваться правды никто не станет. А соседи, давно известно, нечистые на руку, хотя до чего ласковые! Потом занемогла корова, наевшись какой-то дурной травы, обезножела и уж чем только не пользовала ее мать, целый месяц лежала ни жива ни мертва, но все-таки оклемалась, хотя все говорили – ой, не выживет! Тогда пришла бы их семейству полная погибель. Андрей занялся вместе с матерью работой отца: пахали и сеяли свое небольшое поле, вместе с тремя сестрами жали, пока четвертая, самая младшая, сидела в тенечке под случайным чахлым кустом и ревела. Потом отвозка с поля снопов, молотьба. А еще сенокос, сена нужно запасти на всю зиму корове и теленку, да есть еще и овца – пастьба же начнется не раньше апреля. Работы до самой осени хватало. А там надо приспевала пора браться за дрова. Зима, известно, в Сибири долгая и почти всегда злая, топить приходится едва не целый день, дров уходит немерено. Но вот на зимний извоз мать Андрея не пускала: мал еще – 14 лет, ушлые купцы да и свои богатеи в два счета обведут при расчете вокруг пальца, хорошо, если в долгу не останешься. Ведь найдут какую-то недостачу, ох найдут! Конечно, надежнее ехать ватагой, держаться кучно, сообща, но не всегда так получается. Да и мало ли кто попадется среди тех же извозчиков!
Время шло. И к 20 годам, когда мать уже по здоровью не могла шибко заниматься хозяйством, а сестры подрастали и приспела забота ладить помалу им приданное, он таки подался в извоз, потому что нужда пуще прежнего начала брать за горло. Цены-то в городе росли, это только на деревенский продукт они не поднимались, кроме разве пушнины. Да и то не очень. К тому же он не охотник – отцу заниматься охотой было некогда, и сына он этому делу не учил. Даже и ружья-то в доме не водилось. «Охотничий хлеб – неверный» – говаривал, бывало, отец, когда наследник заводил речь о ружье. Да и стоило оно – ого-го! Сватажился он с двумя молодыми тоже парнями из своей деревни и артелью этой небольшой начали возить в город хлеб и дрова, когда старые извозчики на время остановились – один заболел, у другого пошла какая-то судебная тяжба, третий без них не захотел возить и просто решил отдохнуть. Молодые мало-помалу набирались ума-разума в новом деле и года через два начали принимать заказы и у городских купцов, отправляясь другой раз в очень дальние концы, повидали немало новых мест и народу. Прибыток небольшой, долгие зимние дороги не стоили бы того, да другого все равно ничего не виделось, и лошади в зиму должны себя оправдывать. К весне третьей зимы один из артели чересчур продрог в пору последних, но страшных морозов, которые держались три дня – как раз все время, когда обоз с товарами был в дороге. Занемогший так и не поправился – лежал дома и почти не вставал: болела поясница и не держали ноги. Вдвоем они какое-то время навещали товарища, приносили то рыбы, то сахару – смотря что приходилось везти в последний раз. Понемногу, но они научились заставлять купцов делиться с ними кое-каким товаром, без согласия на то последних. Делали это аккуратно, не придерешься. Да и не пудами брали – понемногу и как бы взаймы. Со временем к болящему заходить стали реже, а потом и вовсе перестали, тем более, что напарник Андрея женился, а у него самого одна из сестер выходила замуж. Денег требовалось больше, мелочёвка, взимаемая из перевозимого товара, тут мало могла помочь. А ведь водились у некоторых деньги, ох, и ещё какие!
– Слушай, Андрюх, – сказал как-то за штофом водки после очередной поездки напарник, – надо бы взять нам денег, – и пристально посмотрел на товарища. Хмеля – ни в одном глазу, только веки покраснели.
– Надо бы, – согласился Андрей, да где их взять-то? Негде. И так без дела не сидим, а толку?
– Вот то-то и оно. А кто-то с жиру бесится, по москвам, по заграницам разъезжает. А?
– Разъезжает, кто спорит. Тогда что?
Они опорожнили еще по стакану и налегли на закуску – соленые огурцы с соленым же свиным салом и ядреным чесноком.
– Ну вы же… Ну и вы! – сказала заглянувшая сестра, принеся из дому вареной картошки. – Горькую пьете, горьким закусываете!
– Э нет, Настена, отозвался гость, – закусываем-то, верно, горько, но пьем сладко! – и он засмеялся, но как-то невесело.
– И что ты кумекаешь насчет рублишек? – вернулся к прерванному разговору Андрей.
Напарник отхлебнул из стакана и наклонился к нему.
– Надо тряхнуть толстосума, на дороге, после торга, – сказал он, понизив голос. – Потрясти надо, понял? Потрясти! Иначе из нужды не выбьемся. А у меня жена, ты ведь тоже жениться собираешься?
Андрей наклонил голову и тоже приложился к стакану. Перед глазами возникло точеное лицо Алены с бездонными серыми глазами и маленькой родинкой у левого уха. И свадьба, точно, должна была скоро состояться. На свадьбу-то у него есть, но что дальше? Куда он приведет ее? Надо строить дом, надо то, надо се. Много чего надо будет прикупить, а на какие шиши? А если того не хватает, другого, рано или поздно начнут они корить друг друга. Или нет? Об этом даже и думать не хотелось.
– Вроде мы не пьяные, да? – спросил он, задумчиво глядя на товарища. – Не дурака валяем?
– Не пьяные, не пьяные, – торопливо замахал рукой тот. – Ты думаешь, это я сейчас только придумал и болтанул, с бухты-барахты? Я уж который день все голову ломаю, что да как. Но кроме этого, ничего-то не придумывается. А получилось что: Копылов-купец в губернии расторговался, возчиков спровадил домой, а сам загулял. Так половым и всякой обслуге пачками деньги кидал.
«Копылов гуляет!» – говорит. Думаешь, он возчикам шибко щедро платит? Как бы не так. Паразит! Его тряхнуть – даже не грех это будет. Так решай. А я все равно не отступлюсь. – И он допил остатки из стакана. Андрей налил по новой.
– Как же мы станем его ловить? И поедет-то он, наверно, не один.
– Вестимо, не один. Ну и что? Он-то наклюкается досыти, мало чего и соображать-то станет. А возчика припугнем. Не пикнет. Морду свою тряпкой обмотаем, только глядеть чтоб. И где-нибудь на горке подождем, чтоб дорогу в оба конца – видно. Коней в лесок заведем.
– Сколько же ждать-то придется, вдруг в тот день он не поедет, а поедет – вертаться будет незнамо когда? А может статься – заночует в губернии?
– Не заночует. Он гуляет-то с братией из других мест, в губернии у него товарищей нет. Как нет и в волости – богатющие, они рады бы друг друга съесть. За один стол не сядут, знаешь ведь. А ездит он кажную неделю, больше – по четвергам.
– Знаю.
Выпили. Помолчали, напряженно думая.
– А поедет или нет – это придется в волость наведываться, узнавать. Так мы и без того там через день бываем.
– Да, это так. Но, может, проще его взять за зебры в губернии, где он гуляет, недалеко от места?
– Никак невозможно. Я уж прикидывал – нет: запомнят, узнают. Народу шатается много. Если только ехать потом за ним, нагнать и тут прищучить. Но надежа плохая – можем и не нагнать, запросто уйдут, как только заметят погоню. Возчик уж, конечно, будет торопиться и без того: кому же охота по ночам добираться домой? Потом – на коней и лесом, до дому. Вот только загвоздка: надо будет нам сани перед деревней цеплять, будто едем с извоза, или не стоит возиться? Если вернёмся поздно, пожалуй, и без них можно обойтись.
– Лучше без них – неровен час, кто-нибудь наткнется на сани: как да что?
– Стало быть, обойдемся. Ну вот. Когда соберемся? Пока его кто-нибудь раньше не достал.
– Думаешь, могут?
– Почему нет? Мы-то додумались. А народ сейчас остервенелый, от такой жизни. У одних все, у других – ничего.
– Давай на той неделе, в середке где-нито. Торопиться негоже, но и ждать долго – перегорим.
Грохнулся со стола ненароком задетый рукавом штоф. Андрей вздрогнул.
Купца они подстерегли точно, в четверг. На дороге показался небольшой возок, во всю прыть мчавшийся по плоской вершине возвышенности. Копылов! Они вышли из-за куста у самой дороги и бросили поперек заранее срубленную молодую сосну с ветками. Возчик взревел, конь шарахнулся в сторону и тут же увяз в глубоком снегу, сделал два отчаянных прыжка, но окончательно увязил в сугробах повозку и вместе с ней себя. Копылов, верно, ехал пьян, но не слишком: он неуклюже в своем дорожном тулупе вылезал из завалившегося набок возка, когда Андрей ухватил его за воротник и другой рукой – за руку, которую купец силился вытащить из-за пазухи. Вовремя он успел схватить Копылова: грохнул выстрел и на свет появился револьвер. Второй выстрел, как и первый, из-за пазухи, был напрасным: подоспевший напарник Сергея вывернул руку купца и револьвер исчез где-то в сугробе. Сбросив тулуп и вырвавшись, Копылов кинулся к дороге, высоко поднимая ноги и увязая в снегу.
– Стой! – рявкнул Андрей, но тот только яростнее стал пробиваться к тракту и звал на помощь своего возчика. Напарник догнал купца и они сцепились было, но торговец оказался крепок и снова вырвался, однако же уйти далеко не успел: нож дважды вошел ему в спину.
– Зачем? – охнул Андрей. – Какого лешего?
Вместо ответа напарник бросился к возчику; повязки давно не было на его лице, сверкали оскаленные зубы. Возчик уже перерезал гужи и скачками, вместе с освобожденным конем выбирался на твердое место. И напарник не успел: вскочив на коня, возчик рявкнул во все горло, очумелый и без того конь рванулся вскачь. Андрей плюнул с досады и махнул рукой. Напарник вытирал вспотевший лоб. Они перевернули бездыханное тело на спину, расстегнули душегрейку и сняли пояс с карманом для денег. Их оказалось совсем немного: видно, на вырученное от продажи он закупил обратный товар. Или что-то пошло не так. Может, поэтому не нагулялся купец досыта. Для него это был самый плохой и последний день. Забрав невеликие деньги и оставив все остальное как есть, они отвязали коней и молча тронулись домой.
Стало уже совсем темно, лишь месяц чуть освещал лесной путь. Потрескивали от мороза деревья.
За Андреем пришли на третий день, после того, как взяли напарника. Сличили для верности пуговицы на полушубке последнего с той, что была зажата в кулаке Копылова – одно и то же. Думалось, что пуговица, если и оторвалась той ночью, то утонула где-то в снегу. Но купец напоследок сделал, что мог, чтобы тати не ушли, хотя и не помышлял об этом.
Этап на каторгу был не длинен: Андрей и так уж обретался в Сибири, хотя сибирские расстояния порой длиннее, чем и вся Европа в поперечнике. Будто предчувствуя, что не скоро еще доведется увидеться, перед тем он повстречался с Алёной. Старался держаться весело и задорно, но она что-то заметила.
– У тебя чегой-то не так?
– Да нет, все путем. Я просто малость замаялся последние дни.
– Ты уж больно-то не усердствуй. Здоровье дороже. Мы как-нибудь перебьемся, нас же двое.
Как будто кипятком окатили. Но он не подал виду. Может, все и обойдется? Возчик у купца случился незнакомый. Да и темень же стояла.
Не обошлось. Но зато он твердо решил бежать, пока хватает здоровья. И подальше, к москвам, к волгам, где народу погуще. Ищи-свищи. И Алёну забрать. Он выжидал и примечал. Распорядок дня, время работы, время поверок, время сна, время кормежки. Ничего не упускал – может пригодиться. Но время шло, а случай все не представлялся. Мог вообще не представиться. Случай, выходило, надо делать самому. И он начал готовить этот случай. Помалу собирал тряпки – всякие обрывки; бумажки, веточки, занесенные из лесу на одежде арестантов, когда они приходили с работы, и другой всякий сор. Из этого он сооружал себе гнездо, и скоро уж оно стало заметно на нарах.
– Я – аист, – безразлично отвечал он на вопросы соседей по бараку и квохтал себе под нос тихо и безобидно.
– Бывает, – рассудительно сказал как-то один из старых каторжан. – Чего только не бывает!
Надзиратель дал придурку по морде, а гнездо выбросил. Но скоро появилось новое и снова оно было выброшено, а придурка определили в карцер. Когда впоследствии он свил еще одно гнездо, стали решать, что с этим делать. Вреда никакого из невиданного еще здесь чудачества не проистекало, но мало ли что. Как бы чего не вышло. В лазарете не могли объяснить, насмехается ли над всеми недавно поступивший арестант, или в самом деле тронулся умом. Когда он собрал уже совсем маленькое гнездо, потому что и собирать-то уже стало не из чего, вместе с двумя выбитыми зубами добился отправки в лечебницу для умалишенных.
– Если ты не дурак, а только прикидываешься, оттуда все равно дураком выйдешь, – с досадой сказал ему на прощание лекарь, осатаневший оттого, что сам не в силах установить истину. И злорадно добавил: – Ну как выйдешь? Может, даже не сам. Лежа, вперед ногами. Не ты первый.
В дороге свихнувшегося сопровождали два надзирателя, попеременке беря в руки вожжи. Он же безучастно глядел вперед, в одну точку, держа на коленях очередное, совсем уже маленькое гнездо и скоро задремал, опустив голову на грудь.
– Спит себе, хоть бы что, сволочь! – в сердцах сказал один из стражей. – А тут мотайся по морозу, стереги его.
– Говорят, такие не чуют морозу, ни огня, – бросил второй, зевая и зябко ежась. Может, подсунуть ему самокруточку за шиворот – посмотрим.
– А ну его к лешему! – отозвался первый. – Сидит смирно, и пусть сидит. А то еще вызверится, кто его знает! Будет морока. Как-то тоже такого везли и скажи ему мой товарищ: ты, мол, знаешь как надоел, голубь? Что с ним сделалось! Он начал царапать себе щеки, повалился на бок, изо рта – пена, весь выгибается. А ведь сидел тоже не день, не два, и обкладывали его матом, и звали свиньей, и кем только не звали. И по морде, конечно. И хоть бы что. А тут от «голубя» затрясло, да как! Через минуту кончился. И пришлось голову ломать, куда его везти-то – вперед или назад. Догадались, что впереди ждут-то живого, как отписали, а такого не примут. И повезли назад. Ну, конечно, про голубя ничего не говорили. Ты что! Просто свернуло, мол, бедолагу по дороге – вот и все. Задавила лихоманка. Никто ничего и не сказал. Так вот.
Время от времени, надувшись перед морозной дорогой горячего чаю, они бегали к ближайшему кусту, хотя таиться было не от кого: на всей дороге – ни души. Арестант сидел, не шелохнувшись, но временами покашливал – стало быть, жив. Наконец один из них захотел сходить в кусты и по большому, о чем сказал товарищу, а сам полез подальше в заросли черёмухи. Железные пальцы сомкнулись на шее оставшегося конвоира, он не мог крикнуть, не мог их разжать и уже терял сознание, когда получил вдруг возможность снова дышать. Седок поднял его винтовку и ударил прикладом ее хозяина по голове. Выскочил на дорогу и отбежал на сотню шагов по ней, и когда сзади раздался переполошенный крик «Стой!», свернул в лес. Через минуту раскатился гулкий звук выстрела. Мимо! Беглец мелькал уже за деревьями, выбирая путь так, чтобы позади оставались толстые сосны. Следующие два выстрела закончились смачными шлепками пуль в стволы деревьев. С веток осыпался снег. Стрелявший и пришедший в себя его сотоварищ бросились в погоню. Но где было им тягаться с прокаленным на морозе возчиком, который в особенную стужу мог часами бежать рядом с обозом, чтобы согреться! Версты через две, выбившись из сил, хотя и бежали по уже проложенному следу, проклиная глубокий снег, сумасшедших дураков и вообще всех арестантов и эту собачью жизнь, они вернулись к повозке.
***
К Алёниным родителям заехал дальний родственник из соседней деревни, время от времени навещавший их, как и ее отец наведывался, тоже нечасто, к нему. Попили чаю, пропустили по чарке самогону. Поговорили о житье-бытье, сходили во двор, судили-рядили, что можно сделать с просевшим на один угол амбаром, под которым летом вдруг распушилась земля. Улучив минуту, гость шепнул Алёне, что ее жених в бегах и будет ждать ее у него дома завтра утром, чтобы поговорить. Чуть солнце встанет над лесом. Надо ей найти какое-то заделье, чтобы сходить туда: родители неизвестно, как посмотрят на это, если сказать им правду. Хотя в Алёнином женихе они души не чаяли, но то было когда! Алёна чуть не лишилась чувств при этом известии, но быстро укрепилась духом.
– Я все поняла, – твердо сказала она.
Переночевав в лесном заброшенном зимовье, беглец осторожно пробрался в деревню. В хозяине он был уверен: как-никак родственник Алёны, а кроме того, ему обещаны хорошие деньги за услугу. Но надо быть осторожным. Главное – не переполошить собак. Хозяин курил самокрутку во дворе, нервно поеживаясь и глядя на дорогу, откуда должна была появиться Алёна. А вот и она – в чисто белом полушубке и в белой шали на голове. Андрей не выдержал и бросился за ворота, с трудом сдерживаясь, чтобы не крикнуть «Аёна!» Тотчас на противоположном конце деревни заскрипели полозья и открытые сани с четырьмя служивыми людьми, быстро стали приближаться к месту теперь уже не тайной встречи.
– Беги! – задыхаясь от быстрой ходьбы, крикнула Алёна и толкнула его в ту сторону, откуда только что пришла.
– Ал…
– Беги! – повторила она и указала на огороды.
Пятясь и не сводя с нее глаз, Андрей приблизился к забору.
– Быстрей!
– Стой! – раздалось одновременно два или три голоса и клацнули затворы.
Алёна подтолкнула Андрея на забор, за которым – амбары, курятники, стайки, опять заборы, опять стайки, лес.
– Вы что – стрелять; вы арестуйте! – крикнул Алёнин родственник и тут же грянул выстрел. Точно бык с разбегу боднул Алёну – на припала к забору и стала медленно оседать.
– Вы что же – стрелять, надо же арестовать! – побелевшими губами растерянно и безнадежно шептал родственник. Андрей, стоя на коленях, припал к своей невесте. На белом полушубке неудержимо расплывалось красное пятно.
Сергей открыл глаза, перевел дыхание, потер переносицу и свесил с дивана ноги.
– И приснится же! – Он отчетливо помнил весь сон, хотя обычно ухватить ночные видения, проснувшись, ему не удавалось. – Впору самому отправляться в лазарет!
Встал и прошелся по комнате.
– Но все-таки… Эх, Ланцов! Эх, ребята, ребята!
Глава 4
Заведующая Никольским районным отделом культуры в это утро уже чувствовала себя слегка утомленной, хотя пробило только одиннадцать. Планерка, звонки из администрации и в администрацию, наконец, звонок от родной сестры. Сестра напоминала, что дочь ее так толком и не устроена и работает деревенским библиотекарем, получая чепуховую зарплату – за день примерно столько, сколько начальники районных управлений получают за одну минуту. В отделе культуры зарплаты тоже невелики, но все-таки. С тех пор, как Нинель Капитоновна заняла кресло начальника отдела, она более или менее хорошо устроила всех ближайших родственников – кого в своем отделе, кого, по ее убедительной просьбе, устроили начальники других. Надо помогать друг другу. Дочка сестры сидела вообще без работы и библиотекарем ее устроила Нинель Капитоновна. Но теперь требуется что-то большее, чем должность библиотекаря. Хорошо бы подключить каким-то образом мэра, но не стоит слишком спекулировать на его лояльности. Достаточно того, что ее, заведующую сельским клубом, после своего избрания он назначил начальником райотдела культуры. Правда, она это заслужила, не покладая рук агитируя за его кандидатуру. Да ему ничего и не стоило такое назначение. Это король Франции не мог устроить Д.Артаньяна в роту своих мушкетеров: «нет вакансии!». И не мог никак. Так то – король. Какой-то там Франции. А никольский мэр, когда потребовалось устроить на хорошую работу внебрачную дочь, моментально учредил в администрации должность специалиста по связям с общественностью. И все дела. В пределах утвержденной суммы на оплату труда администрации, разумеется. Но с окладом примерно как у начальника комитета. А такой должности и отродясь тут не существовало. Или существовало? Существовала? Мэру проще. Но как устроить племянницу? Придется, видимо, дать пару невыполнимых заданий – друг за другом, с небольшой расстановкой, директору районного Дома культуры и как не соответствующую занимаемой должности, попросить уйти. Да, больше пока ничто не вырисовывается. А директор что? Ну, пусть высокий там специалист – он, то есть она же не билась за нынешнего мэра в пору предвыборной кампании? Не билась. Ну и гуляй. Высоких специалистов у нас пруд пруди. И прочих народных талантов. А действительно полезных людей – по пальцам пересчитать.
В дверь постучали.
– О-о, Сергей Сергеевич! – деланно радостным голосом воскликнула хозяйка кабинета. – Какими путями к нам?
– Фольклорными, Нинель Капитоновна, фольклорными, – отвечал Локтев и присел на край предложенного кресла. Дали мне задание воскресить поиски фольклорных вещей, ибо давно к этой теме не обращались. И предложили Никольский район. Я не совсем по этой части, поэтому – к вам. Вы в курсе всех дел на культурном фронте района. И, конечно, отметиться, что я тут объявился. Кстати, какие новости? Я слышу лишь обрывки. Как духовой оркестр поживает? Все собирался заехать, посмотреть.
– К сожалению, сейчас молчит. Баритонист наш уехал – отца перевели в другой район, И вся семья уехала. Баритонисту 20 лет – куда же он без отца – матери? Взялись обучать нового, но дирижер сказал, что он без больших способностей и вообще половина оркестрантов – ребята в музыке тупые. Он-то написал рапсодию, отправил в союз композиторов, но ее там не приняли. Бесталанные потому что, завистливые. И тупые. Он говорит, что все они тупые, кто пишет музыку и кто исполняет. В том числе наши оркестранты. Мне-то казалось, начинали они хорошо.
– Да, мне так тоже казалось. Жаль.
– А что у вас из последнего?
– В числе последнего – не очень оптимистические новости: грядет у нас московская проверка. Ответственные – в трансе. Говорят, не сваливалось давно такой напасти.
– По районам они, надеюсь, не станут ездить?
– Кто знает! Можно ожидать чего угодно. Проверка, говорят, комплексная, масштабная.
– Да. Покой нам только снится. Насчет фольклора – чем могу?
– Надо бы мне фамилии знатоков старинных песен там, сказаний, обрядов.
– Некоторых я могу назвать, которые постоянно где-то светятся. Вот по сельским администрациям…
Исследователь фольклора прилежно записывал имена и фамилии.
– Наверное, я кого-то упустила. Но это можно уточнить еще в сельских администрациях. А всех старейших можно взять в районном совете ветеранов. Уж они-то старые песни и байки, частушки знают. Другое дело, что не выступают, может, внукам поют да рассказывают, а на широкую публику редко выходят.
Нинель Капитоновна подумала, что, может, стоит, прикомандировать в помощь Локтеву директора районного ДК, пользуясь удобным случаем – и пусть-ка она раздобудет фольклор, дотоле неизвестный. Ага! Тут-то директриса и погорит! Но по зрелом размышлении отказалась от этой идеи: признать, что задание руководительница ДК провалила, это признать, что провалил задание и спец министерства культуры. А это Нинели совсем ни к чему. Пусть они там разбираются сами. Мило улыбнувшись на прощание, она пожелала Локтеву успеха в его благородном предприятии.
Председатель совета ветеранов не имел приемной и, следовательно, секретарши. Он поэтому был вынужден пригласить очередного посетителя присесть и пока подождать, поскольку беседовал с поспевшим ранее. В коридоре сидеть оказалось не на чем, и совесть не позволяла председателю держать ветеранов в коридоре стоя. Хотя этот-то молодой, мог бы и постоять. Да уж ладно. Опередившим Локтева посетителем являлась дама преклонных лет, по всей видимости, наторевшая в словесных баталиях – возможно, в свое время она подвизалась комсомольским вожаком в коллективе пошивочного цеха, а скорее всего – заведующей продовольственным магазином, и как раз в то время, когда горячительные напитки продавали по талонам.
– Ну как же так, – возмущенно говорила она, – вот наш сосед: ему 45 лет, а он уже пенсионер и ветеран труда. И пенсия – о-го-го! А мой Николай Иванович имеет 70 лет от роду, 50 лет стажу – и он не ветеран! А пенсия – тьфу, просто. Надо что ли, до ста лет работать, чтобы стать ветераном труда?
– А ваш сосед – он…
– Кровь с молоком. Пенсионер. Ветеран, из какой-то незаменимой конторы. Хотя незаменимых нет. А Николай Иванович худой, больной, 50 лет стажу – и он не ветеран. Ему что ли, опять на работу устраиваться? И сколько еще мантулить?
– Наталья Петровна, ведь у некоторых трудная и опасная работа, рискованная. Опасная для жизни. Поэтому те, кто на переднем краю, уходят на пенсию очень рано. А звание ветерана присваивается, если человек имеет награды – в смысле медали, ордена или там грамоты от федерального правительства.
– У моего килограмма два этих грамот – от комсомола, от профкома, от парткома, от монгольского народного Хурала даже есть.
– От Хурала – это хорошо. Но требуется от российского правительства.
– Так что же, ему в правительство заявку писать надо? Так вы дайте форму, я его заставлю написать.
– Но все это делается во время работы человека, или же сразу после, если он пострадал, например, во время героического подвига. Допустим, пострадал здоровьем на государственной службе, или кого-то спас.
– Николай Иванович тоже пострадал на службе: он заработал ревматизм, всю жизнь работавши на ферме – в холоде, как это?.. во влажном, загазованном микроклимате, все время – в резиновых сапогах. Да и почки… А насчет спасения – так он спас трех человек: они вчетвером выпивали после трудового дня в подсобке, она загорелась, тем временем он отлучился в туалет. Хватились – нет его: обсыпались снегом и давай лезть в самое пламя. Хорошо, он успел справить нужду, подскочил, дал одному, другому, пока не утихомирил всех, а то они рвались его выручать. В другой раз корова провалилась сквозь лед на реке – никого нет, помочь некому. И побежал он к силосной яме, где трактор стоял, на горке, потому что без аккумулятора. Хотя в кооперативе числился аккумулятор. Но на председательской машине. Ну вот, поехал он на тракторе, разломал лед до самой коровы, она и выбралась. А трактор увяз. Председатель потом сильно ругался, хотел высчитать с Николая Ивановича за солярку, но мой сказал: «Если так, давайте эту свою корову мне на мясо, все равно она бы сдохла, и колхоз бы имел вместо коровы фигу». И отстали. А Ванька Ильин – ему только-только сорок стукнуло, а уже тоже ветеран. А моему Николаю Ивановичу 70 – он не ветеран. Это что – по блату?
– А этот… он тоже незаменимым работал? Или какая у него профессия?
– Да какая у него профессия? Никакой профессии нет. Пожарник он, вот и все.
– Ну, значит, тоже награжден был медалью. При такой работе это очень даже возможно: опасность для жизни, спасение из огня…
– Так я о чем и говорю: мой-то тоже спас из огня, трех человек. Дал одному, другому – не лезьте поперед в пекло! И не ветеран! Это как? Это разве можно?
– Ладно, я узнаю, можно ли что-нибудь сделать для Николая Ивановича, – сдался председатель, вытирая со лба испарину. – Обещать твердо ничего не могу, но узнаю. Известно будет через месяц.
– Вот спасибо-то! – расцвела просительница. – Так я надеюсь.
– Да. И вам всего хорошего, – пожелал председатель и перевел дух.
Сергей деликатно кашлянул.
– У вас какой – то вопрос? – взглянул на него председатель.
– Да. Я из областного министерства культуры, – гость протянул удостоверение. – Я хотел бы узнать имена и адреса старейших жителей района, ну, лет от 70 и старше. Я собираю фольклор, и старейшины могут в этом очень помочь.
Председатель облегченно вздохнул и расслабился.
– Так это лучше вам обратиться в отдел культуры, – сказал он. – Там всех песенников и басенников любого возраста знают.
– Я побывал у них. Самых-то ветеранов они плохо знают – дескать, те нигде не выступают уже. Молодых я взял, но вряд ли у них много фольклора в запасе.
– Тогда все о ветеранах можно узнать в сельских администрациях, – сделал еще одну попытку отбояриться председатель.
– Да, но сначала желательно знать, куда ехать, где стариков побольше, – резонно заметил представитель минкульта.
Поняв, что отфутболить посетителя не удастся, председатель достал из стола толстую тетрадь, надел очки и взглянул на Сергея:
– Готовы?
– Готов.
– Так вот: по районному центру, – уважаемый наш Егор Петрович Некипелов, – начал собеседник Локтева и, постепенно увлекаясь, серьёзным делом, стал перечислять всех жителей района почтенного возраста. Сергей записывал в блокнот – при поиске нужных материалов это представлялось удобней, чем звуковая запись. Наконец-то дело пошло на лад! Правда, вопрос еще, удастся ли что-нибудь нужное ему добыть у самих аксакалов. Но тут уж как повезет. В блокноте значилось уже десятка полтора фамилий.
– Игнат Петрович, наш замечательный, Ланцов, – продолжал между тем председатель.
Ланцов? – встрепенулся деловито черкавший до того ручкой Локтев.
– Ну да, натурально, Ланцов, – недоуменно подтвердил предсовета, – а что такое?
– Да нет-нет, ничего, – поспешно ответил Сергей и записал адрес. Подумав, что скрывать тут абсолютно нечего и даже контрпродуктивно, объяснил:
– Дело в том, что есть старинная песня, начинается она «Звонит звонок насчет поверки. Ланцов задумал убежать…». Вы не знаете ее?
Председатель потер подбородок, подумав, отрицательно покачал головой:
– Нет, не припоминается.
– Ну вот я и подумал, может быть, этот наш Ланцов какой-нибудь родственник того Ланцова? В третьем-четвертом колене, конечно. Тогда уж он-то точно песню знает.
– А что? Чего только не бывает. Тем более, фамилия-то довольно же редкая. Это тебе не Петров-Иванов-Сидоров.
Расстались они друзьями. Получив почти искреннее приглашение заглядывать еще, по мере надобности и чтобы поделиться успехами, Сергей зашел в райотдел милиции, чтобы разыскать некоего старшего нынче лейтенанта Финогенова, сочиняющего современные частушки. Сам Финогенов этого хобби стеснялся и даже в местную газету давал их с большими оговорками, обязательно без указания его настоящего имени. При таких обстоятельствах Сергей почел за лучшее обратиться к начальнику частушечника, рассчитывая, что уж от его-то просьбы Финогенов точно не отмахнется. У начальника кто-то был, но скоро прозвучал повелительный голос «Зама ко мне быстро позови-ка» и этот кто-то тотчас вышел из кабинета, а через минуту туда стремительно проследовал высокий довольно молодой человек в джинсах.
– Съезди-ка сейчас же в Клинск, в театр, купи два билета на воскресенье. Моя жена, видишь, театралка. А билетов нет. Подожди, как этот спектакль называется? Что-то насчет пурги. Где же я записал? А, вот – «Кармина Бурана», называется, – донесся голос начальника.
– Так у меня там эта Петрова сидит, в третий раз уж по поводу своего сына приезжает, покалеченного. Да всё мне недосуг. Думал, сегодня… – отвечал голос ниже тоном.
– Ничего, приедет и еще раз. У нас дел невпроворот. Скажи ей – спецзадание, борьба. Машину мою с шофером возьми, все-таки профи. Да надень форму, а то почтут за трудягу в этих джинсах. Давай!
Сергей счел за лучшее не мешаться, пораженный царящей здесь бескомпромиссностью и неотложностью решаемых задач, и, не дожидаясь появления исполнительного зама, ретировался.
– Там некогда, я позже зайду, – объяснил он дежурному.
Рабочий день подходил к концу, и Сергей отправился в гостиницу, поскольку ехать даже в ближайшую деревню и искать там ночлег оказалось поздновато – ближе к закату ночлег ищут только лихие люди. После этого он созвонился с двумя старыми приятелями, и вечер компания провела у одного из них, причем так дружно, что хозяин настаивал, чтобы гости остались и на ночь. Но данное пожелание, конечно, шло вразрез с мировоззрением его жены. Почувствовав это, а также ввиду предстоящего и завтра рабочего дня, двое покинули гостеприимную квартиру. С приятелей Сергей взял клятву, что они отдадут голоса за Лапшина. Они отвечали, что им все равно – за Лапшина или за Галушкина, но раз ему так надо, замечательно проголосуют за Лапшина.
Утром Локтев посетил районный штаб сторонников Лапшина и сообщил об обстоятельствах выбытия его из бригады агитаторов областного центра и вливании в бригаду никольских. Возможности для этого у него имелись широкие: весь район можно объездить по вполне независящей от выборов причине. А кроме того, многих здесь он знал. Заручившись обещанием всесторонней поддержки, Локтев наведался затем в районный Дом культуры и разузнал, не исполняет ли хор ветеранов какую-нибудь новую, но очень старую песню. Оказалось, что слишком старых, никому неведомых песен здесь избегали, дабы не распугать слушателей, более привычных к популярным. И, подтверждая этот постулат, исполнили «Когда б имел златые горы…», каковому исполнению единственный слушатель, поскольку это шла лишь репетиция, без лицемерия поаплодировал. Участницы хора пообещали вместе с тем порыться в памяти на предмет забытых песен и приглашали зайти как-нибудь позже. Заглянув еще в музей – не отыщется ли там чего-нибудь из преданий старины глубокой, и ничего нужного не обнаружив, Локтев решил, что для начала хватит. Впереди маячили выходные, и ехать в деревню к старым песенникам-частушечникам он не собирался: сами-то старики, понятное дело, живут не автономно – чай, не городские квартиры – с кем-то из молодых. А те, скорее всего, работают, а в выходные хотят отдохнуть. Вваливаться в это время к ним и задавать всяческие легкомысленные вопросы не входило в его планы. У него нашлось другое дело, другая мысль не давала в последние два дня ему покоя. Вечерней маршруткой он отправился в областной центр. Сергей намеревался посетить мастерскую художников, где творил его друг детства Жэка.