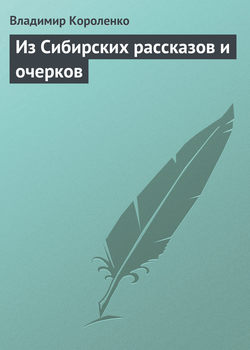Читать книгу Из Сибирских рассказов и очерков - Владимир Короленко, Владимир Галактионович Короленко - Страница 1
Соколинец
ОглавлениеI
Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.
Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи понемногу уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат якутского жилья простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе… Но вот и эти смутные очертания исчезли… Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвящий якутский мороз.
Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моею головой, и я не спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда «чужая сторона» враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримою, неодолимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что в этот час как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды… А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и среди мертвого затишья во мраке так явственно шепчет ужасные роковые слова: «Навсегда… в этом гробу, навсегда!..»
Легкий, ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька, вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, продрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.
Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решился прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это – бог юрты, могучий огонь.
У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.
Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилье стояло на краю слободы, в некотором отдалении… Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину, и замыкавшие ее горы, и огни слободских юрт, в которых жили давно обьякутившиеся потомки русских поселенцев и частью ссыльные татары. Но теперь все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.
А вокруг все замерло. Горный берег реки, бедные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лугов, темная полоса тайги – все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты, с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавшеюся к моим ногам собакой, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана… Кругом – ни звука… Холодно и жутко… Ночь притаилась, охваченная ужасом – чутким и напряженным.
Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу, по-видимому, тоже становилось страшно ввиду наступающего царства мертвящего мороза; он прижимался ко мне и, задумчиво вытягивая острую морду, настораживая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно серую мглу.
Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий… В морозном воздухе издали несся слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.
Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбежал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий, торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.
Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жилье изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебегал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее, разыгравшееся пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубу камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой, и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.
Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суетится и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблеском пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.
Цербер уселся против камелька, уставился на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.
Но вот собака с неудовольствием отвернулась от меня и заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и, пока он неистовствовал и заливался на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник, которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.
Я не ждал никого из знакомых. Якут едва ли приехал бы в слободу так поздно, а если б и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его догоры[1], а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать, пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут огненные змейки все тише, все реже… Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять вольется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза, – глянет раз и другой, и… заснет. А я опять останусь один… один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.
Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать «несчастненького», взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались вьючные «сумы-переметы», то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое «переметов» вызывало на размышления о способе его приобретения.
Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-якутски. На ногах у него были надеты торбаса из белой, как снег, конской шкуры. Широчайшие рукава якутской соны подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль, вместе с острою верхушкой торчавшей над нею якутской шапки (бергес), была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.
Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полузастывшими руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свои треух на плечи, я увидал молодое, раскрасневшееся от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась вперед, обнаруживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудно уловимым признакам, я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.
Усталость, морозная ночь, а быть может и тоска, которую испытывал одинокий путник, пробиравшийся среди непроницаемого тумана, – все это несколько смягчило резкие очертания лица, залегло над бровями и в черных глазах выражением страдания, гармонировавшего с моим настроением в этот вечер, и внушило мне сразу невольную симпатию к незнакомому гостю.
Не раздеваясь дальше, он прислонился к камельку и вынул из кармана трубку.
– Здравствуйте, господин, – сказал он, вытряхивая трубку об уголок и в то же время искоса окидывая меня внимательным взглядом.
– Здравствуйте, – ответил я, продолжая, в свою очередь, пытливо осматривать незнакомую фигуру.
– Вы уж меня, господин, извините, что я так прямо к вам взошел. Мне вот только обогреться маленько да трубочку покурить – я и уеду, потому что у меня тут знакомые, которые меня во всякое время принимают, в двух верстах отсель, на заимке.
В его голосе слышалась сдержанность человека, очевидно не желавшего показаться навязчивым. Говоря это, он кинул на меня несколько коротких внимательных взглядов, как будто выжидая, что я скажу, чтобы сообразно с этим установить дальнейшие отношения. «Как ты со мной, так и я с тобой», – казалось, выражали эти пристальные, холодные взгляды. Во всяком случае, приемы моего гостя составляли приятный контраст с обычною назойливостью якутского поселенца, хоть для меня и было очевидно, что если б он не рассчитывал остаться у меня ночевать, то не стал бы вводить лошадь во двор, а привязал бы ее к городьбе, снаружи.
– Кто вы такой, – спросил я, – как вас зовут?
– Меня-то? Зовут меня Багылай, то есть это, видите ли, по-здешнему, а настояще-то, по-расейски – Василий… Может, слыхали? Байагантайского улусу.
– Родом с Урала, бродяга?..
На губах незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удовольствия.
– Ну, вот, вот! Он самый. Вы, стало быть, обо мне маленько наслышаны?
– Да, слышал от Семена Ивановича. Вы ведь с ним жили по соседству.
– Верно. Семен Иваныч меня довольно знают.
– Ну, рад гостю, милости просим. Оставайтесь у меня ночевать, кстати же я один. Сейчас самовар поставим.
Бродяга охотно принял приглашение.
– Спасибо, господин! Ежели уж вы приглашаете, то я останусь. Надо вот переметы с седла снять, кое-что в избу внести. Оно хоть, скажем, конь-то у меня во дворе привязан, а все же лучше: народ-то у вас в слободе фартовый, особливо татары.
Он вышел и через минуту внес в юрту две переметные сумы. Развязав ремни, он стал вынимать оттуда привезенные с собою припасы: круги мерзлого масла, мороженого молока, несколько десятков яиц и т. д. Кое-что из привезенного он разложил у меня на полках, остальное вынес на мороз, в сени, чтобы не растаяло. Затем он снял шаль, шубу и кафтан и, оставшись в красной кумачной рубахе и шароварах из «бильбирета» (род плиса), уселся против огня на стуле.
– Вот, господин, – поднял он голову и усмехнулся, – стану вам правду говорить: еду этто к вашим воротам, а сам думаю: неужто не пустит меня ночевать? Потому что я довольно хорошо понимаю: есть из нашего брата тоже всякого народу достаточно, которого и пустить никак невозможно. Ну, я не из таких, по совести говорю… Да вы, вот, сказываете, про меня слыхали.
– Действительно, слышал.
– Ну, вот! Живу, могу сказать, не похваставшись, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь… Землю пашу, огород.
Бродяга говорил все это странным тоном, как-то раздумчиво глядя в одну точку, а при последних словах даже развел руками, как будто удивляясь: «А что, ведь и вправду все это так и есть в действительности!»
– Да, – продолжал он тем же тоном, – работаю! То есть вполне даже как следует, по божьему приказанию. Что ж, я так понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наипаче еще разбойничать. Вот скажем хоть к этому примеру: еду я ночью, увидел огонь и заезжаю к вам… и сейчас вы мне уважение, самоварчик… Я это должен ценить. Так ли я говорю?
– Конечно, – подтвердил я, хотя, в сущности, бродяга обращался больше к себе самому, себя убеждал в преимуществах своей настоящей жизни.
Я действительно знал Василия по слухам от товарищей; это был бродяга-поселенец, уже два года живший в своем домике, среди тайги, над озером, в одном из больших якутских наслегов[2]. В бесшабашной и потерянной среде поселенцев, бедствовавших, воровавших и нередко разбойничавших по наслегам, он был одним из немногих, предпочитавших трудовую жизнь, которая здесь давала легкую возможность подняться. Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь. Правда, что без этой помощи человеку, закинутому в суровые условия незнакомой страны, пришлось бы или в самом скором времени умереть от голода и холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотнее эта помощь оказывается в виде пособия «на дорогу», посредством которого якутская община старается как можно скорее выпроводить поселенца куда-нибудь на прииск, откуда уже большая часть этих неудобных граждан не возвращается; тем не менее человеку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части также помогают стать на ноги. Василий получил от наслега избу, быка, и на первый год ему засеяли обществом шесть пудов хлеба. Урожай выдался хороший; кроме того, он выгодно нанялся у якутов косить сено, стал слегка торговать табаком, и года в два хозяйство его сложилось. Якуты относились к нему с почтением, поселенцы величали в глаза Василием Ивановичем и только за глаза звали Васькой; попы, выезжая на требу, охотно заезжали к нему на перепутье и сами сажали его за стол, когда ему случалось приезжать к ним. Водил он также знакомство и с нашею братиею, интеллигентными людьми, заброшенными судьбой в эти далекие страны. Казалось бы, всем житье бродяге – оставалось только жениться; тут, конечно, встречалось маленькое затруднение, так как бродяг обыкновенно не венчают, но в той стороне за небольшие деньги, за телку или хорошего жеребенка можно было устроить и это.
И тем не менее, вглядываясь в энергичное лицо молодого бродяги, я все яснее различал в нем какую-то странность. Теперь это лицо нравилось мне уже несколько менее, чем в первую минуту, но все же оно было довольно приятно. Темные глаза глядели по временам задумчиво и умно, все черты выражали энергию; обращение его было свободно, в тоне слышалось удовлетворенное самолюбие гордой натуры. Только по временам нижняя часть лица как-то нервно вздрагивала и блеск глаз потухал. Было видно, что Багылаю стоит некоторого усилия держать этот ровный тон, сквозь который что-то как будто силилось пробиться наружу, что-то горькое, подавляемое только напряжением воли…
Сначала я не мог отдать себе отчета, что именно это было. Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глубине души он сознавал, – хотя и подавлял пока это сознание, – что эта серая жизнь, жизнь на чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль. Так объяснил я себе эту черту впоследствии, но тогда я видел только, что бродягу, несмотря на кажущееся спокойствие, что-то гложет внутри, что-то прорывается наружу…
Пока я хлопотал с самоваром, Василий сидел против камелька, задумчиво глядя на огонь. Я окликнул его, когда все было готово.
– Спасибо, господин, – сказал он, подымаясь. – Много доволен и на ласковом слове. Ах, господин, господин! – обратился он вдруг ко мне как-то страстно, – поверишь ты: как завидел я твой огонек, сердце во мне взыграло, – право, не лгу! Потому что знаю: у расейского человека этот огонь горит… Ехал этто лугами… темень, мороз… Юрта где задымится в сторонке, – конь так и воротит к ней, так и воротит; известно, скотина якутская, лестно ей. Ну, а у меня сердце туда не лежит. Что мне в ней, хоть бы и в юрте? Конечно, согреют, может, и водка нашлась бы. Да нет!.. А твой огонь увидал – вот, думаю, куда заезжать, если примет. Спасибо, что не прогнал. В нашем наслеге, может, когда быть доведется, – милости просим ко мне. Найдем чем угостить, слава те господи! Примем как следует, честно!
II
Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииска или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур[3], проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребает снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогоднюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.
Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.
Василию нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь словами. Василий, или, как он уже привык называть себя, Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полену. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.
– Далеко! – сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.
– Что это? – спросил я.
– Наша-то сторона, Расея… Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую – подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце сделается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту трескают… тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет: давай!
– Что ж, это у них обычай, – возразил я. – Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.
– Помогли, правда.
– Довольны вы своею жизнью? – спросил я, вглядываясь в лицо бродяги.
Он как-то загадочно улыбнулся.
– Да, жизнь… – сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.
Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.
– Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видал я в жизни своей хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться – и жизнь моя кончилась. С самых тех пор, я так считаю, что и на свете не живу вовсе. Так… бьюсь только понапрасну.
По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственною разбитою жизнью!
Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.
– Ну, да что тут… Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?
Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги.
III
В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.
На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.
«Нижний Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже. Днем арестанты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях под палубой.
Обширная камера под низко нависшим потолком… Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и железная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально вытянутою линией тускло горят фонари.
Вся жизнь серых пассажиров парохода проходит на виду, за этою решеткой. Стоит ли над морем яркое тропическое солнце, свистит ли ветер, скрипят и гнутся снасти, ударит ли волной непогода, разыграется ли грозная буря и пароход весь застонет под ударами шторма, – здесь, все так же взаперти, прислушиваются к завыванию ветра сотни людей, которым нет дела до того, что происходит там, наверху, и куда несется их плавучая тюрьма.
Арестантов гораздо больше на пароходе, чем конвоя, но зато каждый шаг, каждое движение серой толпы введены твердою рукой в заранее намеченную железную колею, и экипаж обеспечен против всякой возможности бунта.
Впрочем, здесь принято во внимание все, даже и невероятное: если бы в толпе прорвался ожесточенный разъярившийся зверь и она в отчаянии стала бы кидаться на явную опасность, если бы выстрелы сквозь решетку не оказали действия и зверь грозил бы сломать свою железную клетку, – тогда в руках командира оставалось бы еще одно могучее средство. Ему стоило только крикнуть в машинное отделение несколько слов:
«Рычаг такой-то… отдать!»
«Есть!» – и вслед за этим ответом в арестантское помещение были бы пущены из машины струи горячего пара, точно в щель с тараканами. Это страшное средство предотвращало всякую возможность общего бесчинства со стороны серого населения пароходного трюма.
Тем не менее и под давлением строгого режима это серое население жило за железными решетками своею обычною жизнью. И в ту самую ночь, когда пароход шлепал колесами по спокойному морю, дробясь в мрачной зыбучей глубине своими огнями, когда часовые, опершись на ружья, дремали в проходах трюма и фонари, слегка вздрагивая от ударов никогда не засыпавшей машины, разливали свой тусклый, задумчивый свет в железном коридоре и за решетками… когда на нарах рядами лежали серые неподвижные фигуры спавших арестантов, – там, за этими решетками, совершалась безмолвная драма. Серое кандальное общество казнило своих отступников.
На следующее утро, во время переклички, три арестанта не поднялись с своих мест. Они остались лежать на нарах, несмотря на грозные оклики начальства. Когда вошли за решетку и приподняли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство убедилось, что эти трое никогда уже не поднимутся на перекличку.
Во всякой арестантской артели все важнейшие дела вершатся более влиятельным и сплоченным ядром. Для массы, по-арестантски «шпанки», серой, безличной толпы, подобные события нередко бывают совершенною неожиданностью. Пораженное мрачною ночною трагедией, население пароходного трюма вначале примолкло; под низким потолком стояла пугливая тишина. Только плеск моря доносился снаружи, бежали с рокотом вдоль ватерлинии разбиваемые грудью парохода волны, да тяжелое пыхтение машины глухо отдавалось вместе с мерными ударами поршней.
Но скоро начались среди арестантов разговоры и толки о последствиях «происшествия». Начальство, очевидно, не намерено было замять неприятное дело, приписав смерть случайности или скоропостижным болезням. Признаки насилия были очевидны; пошли допросы. Арестанты отвечали единодушно; быть может, в другое время начальству и нетрудно было бы найти несколько человек, которых страхом или обещанием выгоды можно бы склонить к доносу, но теперь, кроме чувства «товарищества», языки были скованы ужасом. Как ни страшно начальство, как ни грозны его окрики, – «артель» еще страшнее: в эту ночь, там, на нарах, на виду у часовых, она показала свое ужасное могущество. Без сомнения, многие в ту ночь не спали; не одно ухо чутко ловило заглушенные звуки борьбы «под крышкой»[4], хрипение и вздохи, не совсем похожие на вздохи спящих, но никто ни одним словом не выдал исполнителей страшного приговора. Начальству не осталось ничего более, как приняться за официальных ответчиков: старосту и его помощника. В тот же день их обоих заковали в кандалы.
Помощником был Василий, носивший тогда другое имя.
Прошло еще дня два, и дело было обсуждено арестантами с полною обстоятельностью. На первый взгляд казалось, что концы спрятаны, виновных открыть невозможно и закованным представителям артели грозила лишь легкая дисциплинарная ответственность. На все вопросы у них был прямой и резонный ответ: «Спали!»
Однако при более тщательном рассмотрении дело стало возбуждать некоторые сомнения. Сомнения эти относились именно к Василию. Правда, в подобных случаях артель действует всегда таким образом, чтобы неприкосновенность к делу первых «ответчиков» кидалась по возможности в глаза, и в этом случае Василий мог легко доказать, что он не принимал в ночной трагедии прямого участия. Тем не менее, обсуждая положение помощника старосты, опытные арестанты, прошедшие и огонь, и медные трубы, покачивали головами.
«Слышь, парень, – подошел раз к Василию старый, бывалый в переделках бродяга, – как приедем на Соколиный остров, запасай ноги. Дело, братец, твое неприятно. Совсем табак твое дело!»
«А что?»
«Да вот то же!.. Ты в первый раз осужден или вторично?»
«Вторично».
«То-то. А помнишь, покойный Федька на кого доносил? Все на тебя же. Ведь из-за него ты ходил неделю в наручнях, так ли?»
«Было дело».
«Ну, а что ты ему тогда сказал? Солдаты-то ведь слышали! Ты как об этом думаешь? Ведь это есть угроза!»
Василий и другие слушатели поняли, что тут было от чего почесаться.
«Ну вот! Сообрази-ка ты все это, да и готовься к расстрелу!»
В партии поднялся ропот.
«Не болтай, Буран», – заговорили арестанты с неудовольствием.
«Хлопает старик зря».
«От старости, видно, из ума выжил. Шутка ли чего сказал: к расстрелу!»
«Не выжил я из ума, – сердито заговорил старик и плюнул с досады. – Много вы, шпанье[5], понимаете! Вы судите по-расейски, а я по-здешнему. Я здешние-то порядки знаю… Верно тебе говорю, Василий: пошлют дело к амурскому генералу-губернатору, – готовься к расстрелу. А ежели за великую милость на кобылу[6] велят ложиться, так это еще хуже: с кобылы-то уж не встанешь. Потому что ты понимай: это, братец, корапь! На корабле закон против сухопутья вдвое строже. Ну, а впрочем, – глухо добавил старик, запыхавшийся от этой длинной речи, – мне все одно, хоть пропадите вы все пропадом…»
Потухшие глаза старого, разбитого незадачливою жизнью бродяги давно уже глядели на мир тускло и с угрюмым равнодушием. Он махнул рукой и отошел к сторонке.
Среди арестантских партий встречается немало юристов, и если такая партия во всем составе по тщательном обсуждении данного дела постановит свой предполагаемый приговор, то он почти всегда в точности совпадает с действительным. В данном случае все такие юристы согласились с мнением Бурана, и с этих пор было решено, что Василий должен бежать. Так как он мог пострадать из-за «артельного дела», то артель считала себя обязанной оказать ему помощь. Запас сухарей и галет, образовавшийся из «экономии», поступил в его распоряжение, и Василий стал «сбивать партию» желающих участвовать в побеге.
Старый Буран бегал уже с Сахалина, и потому первый выбор пал на него. Старик долго не раздумывал.
«Мне, – ответил он, – на роду уж написано в тайге помирать. Да оно, пожалуй, в тайге-то бродяге и лучше. Одно вот только: годы мои не те, поизносился».
Старый бродяга заморгал тусклыми глазами.
«Ну, ин сбивай артель. Вдвоем али втроем нечего и идти – дорога трудная. Наберется человек десять – и ладно. А уж я пойду, поколе ноги-то носят. Хоть помереть бы мне в другом месте, а не на этом острову».
Буран заморгал еще сильнее, и по сморщенному, обветрелому лицу покатились старческие слезы.
«Ослаб старый бродяга», – подумал Василий и пошел «сбивать артель», подыскивать других товарищей.
IV
Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Арестанты толпились у люков и с тревожным любопытством смотрели на горные высокие берега острова, все выраставшие среди сумрака приближавшегося вечера.
Темною ночью подошел пароход к порту. Очертания берега надвинулись и встали черною громадой. Пароход остановился, команда выстроилась; стали выводить арестантов.
На берегу в темноте виднелись кое-где огни; море плескалось в берег, на небе висели тучи, а на сердце у всех такая же темная, такая же мрачная нависла тоска.
«Порт это, – тихо говорил Буран, – Дуя[7] называемый. Тут на первое время в казармах жить придется».
После проверки в присутствии местного начальства вывели партию на берег. Проведя несколько месяцев на море, арестанты впервые чувствовали под ногами твердую почву. Пароход, на котором они прожили столько времени, покачивался в темноте и вздыхал среди ночи клубами белого пара.
Впереди задвигались огни. Послышались голоса:
«Партия, что ли?»
«Партия».
«Ступай сюда, в седьмую казарму!»
Арестанты двинулись на огонь. Шли вразброд, в беспорядке, и всех поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толкает их прикладами.
«Братцы, – послышались удивленные голоса, – никак, караулу-то с нами нету?»
«Молчи! – угрюмо проворчал в ответ на это Буран. – Зачем тебе здесь караул? Небось и без караулу не убежишь. Остров этот большой да дикой. В любом месте с голоду поколеешь. А кругом острова море. Не слышишь, что ли?»
Действительно, среди влажной ночи подымался ветер; огни фонарей неровно мерцали под его порывами, и глухой гул моря доносился с берега, точно рев просыпающегося зверя.
«Слышь, как ревет? – обратился Буран к Василию. – Вот оно: кругом-то вода, посередке беда… Беспременно море переплывать надо, да еще до переправы островом сколько идти придется… Гольцы, да тайга, да кордоны!.. На сердце у меня что-то плохо; нехорошо море-то говорит, неблагоприятно. Не избыть мне, видно, Соколиного острова, не избыть будет – стар! Два раза бегал; раз в Благовещенске, другой-то раз в Расее поймали, – опять сюда… Видно, судьба мне на острову помереть».
«Авось не помрешь!» – ободрил старика Василий.
«Молод ты, а я уж износился. Эх, море-то, море-то как жалостно да сердито взыграло!»
Из казармы № 7 вывели всех живших в ней каторжных и отвели ее новоприбывшим, приставив на первое время караул. Привыкши к тюремной неволе и крепким запорам, они непременно разбились бы по острову, как овцы, выпущенные из овчарни. Других, живших здесь подольше, не запирали: пооглядевшись и ознакомившись с условиями, ссыльные убеждаются, что побег на острове – дело крайне рискованное, почти верная смерть, и потому на это дело отваживаются только исключительные удальцы, да и то после тщательных сборов. А таких, все равно запирай не запирай – убегут, если не из тюрьмы, то с работы.
«Ну, Буран, советуй теперь, – приставал к Бурану Василий дня через три по приезде на остров, – ты ведь у нас старший будешь, тебе впереди идти, тебе и порядки давать. Чай, ведь запас нужно делать».
«Чего советовать-то, – ответил старик вяло. – Трудно… годы мои не те. Вот видишь ты: пройдет еще дня три, караулы поснимут, станут партиями в разные места на работы выводить, да и так из казармы выходить дозволяется. Ну, только с мешком из казармы не выпустят. Вот тут и думай».
«Ты придумай, Буранушка, – тебе лучше знать».
Но Буран ходил осунувшийся, угрюмый и опустившийся. Он ни с кем не говорил и только что-то бормотал про себя. С каждым днем, казалось, старый бродяга, очутившийся в третий раз на старом месте, «ослабевал» все больше и больше. Между тем Василий успел подобрать еще десять охотников, молодец к молодцу, и все приставал к Бурану, стараясь расшевелить его и вызвать к деятельности. Порой это удавалось, но даже и тогда старик всегда сводил речь на трудность пути и дурные предзнаменования.
«Не избыть острова!» Это была постоянная фраза, в которой вылилась безнадежная уверенность неудачника-бродяги. Тем не менее в светлые минуты он оживлялся воспоминаниями о прежних попытках, и тогда, в особенности по вечерам, лежа на нарах рядом с Васильем, он рассказывал ему об острове и о пути, по которому придется идти беглецам.
Порт Дуэ расположен на западной стороне острова, обращенной к азиатскому берегу. Татарский пролив в этом месте имеет около трехсот верст в ширину; переплыть его в небольшой лодочке, понятно, нечего и думать, и потому беглецы поневоле направляются в ту или другую сторону по острову. Побег, собственно на острове, не труден. «Куда хошь ступай, – говорил Буран, – коли помирать хочется: остров большой, весь в гольцах да в тайге. Гиляк-инородец на что привычный человек, и тот не во всяком месте держится. На восток ежели пойдешь – заплутаешься в камнях: либо пропадешь, расклюет тебя голодная птица, либо сам к зиме опять сюда явишься. На полдень пойдешь – дойдешь до конца острова, а там море-окиян: на корабле разве переплыть. Одна нам дорога – на север, все берегом держаться. Море-то само дорогу укажет. Верст триста пройдем, будет пролив, узкое место; тут нам и переправу держать на амурскую сторону на лодках».
«Ну только что скажу тебе, парень, – начинал Буран обычный унылый припев, – и тут трудно, потому что мимо кордонов идти придется, а в кордонах солдаты. Первый кордон Варки называется, предпоследний Панги, последний самый – Погиба. А почему Погиба? – больше всех тут нашему брату погибель. И хитро же у них кордоны поставлены: где этак узгорочек круто заворачивает, тут и кордон выстроен. Идешь, идешь да прямо на кордон и наткнешься. Не дай господи!»
«Ну, да ведь уж два раза ходил, чай, знаешь?»
«Ходил, парень, ходил… – и потухшие глаза старика опять вспыхнули. – Ну, слушай меня, да делайте, как я велю. Станут скоро на мельницу на постройку людей выкликать, вы все в то число становитесь; станут туда провизию запасать, и вы свои сухари да галеты в телегу складывайте. На мельнице-то Петруха сидит, из каторжных. От него вам и будет ход, с мельницы то есть. Три дня здесь вас не спохватятся, такой здесь порядок: три дня можно на перекличку не являться – ничего. Доктор от наказания избавляет, потому что, говорит, больница плохая; иной это притомится на работе, занеможет: чем ему в больницу идти, лучше он в кусты уйдет да там как-нибудь на воздухе-то и отлежится. Ну, а уж если на четвертый день не явился, то прямо считают в бегах. И сам после явишься, все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись».
«Зачем на кобылу? – сказал Василий. – Даст бог уйдем, так уж охотой не вернемся».
«А не вернешься, – глухо заворчал Буран, и глаза его опять потухли, – не вернешься, так все равно воронье тебя расклюет в пади где-нибудь, на кордоне. Кордону-то небось с нашим братом возиться некогда; ему тебя не представлять обратно, за сотни-то верст. Где увидел, тут уложил с ружья – и делу конец».
«Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идем мы. Ты Боброву сказывай, чего надо, – артель отпустит».
Старик проворчал что-то в ответ и отошел, понурив голову, а Василий пошел к товарищам сказать, чтобы готовились. От должности помощника старосты он отказался ранее, и на его место уже выбрали другого. Беглецы уложили котомочки, выменяли лучшую одежду и обувь, и на следующий день, когда действительно стали снаряжать рабочих на мельницу, они стали в число выкликаемых. В тот же день с постройки все они ушли в кусты. Не было только Бурана.
Отряд подобрался удачно. С Васильем пошел его приятель, который «по бродяжеству» носил кличку Володьки, Макаров, силач и хват, бегавший два раза с Кары, два черкеса, народ решительный и незаменимый в отношении товарищеской верности, один татарин, плут и проныра, но зато изобретательный и в высшей степени ловкий. Остальные были тоже бродяги, искусившиеся в путешествиях по Сибири.
Артель просидела в кустах уже день, переночевала, и другой день клонился к вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина в казарму; пробравшись туда тихонько, он вызвал старого арестанта Боброва, приятеля Василья, имевшего в среде арестантов вес и влияние. На следующее утро Бобров пришел в кусты к беглецам.
«Что, братцы, как бы мне вам какую помощь сделать?»
«Посылай непременно Бурана. Без него нам не ход. Да если чего просить станет из запасу – дайте. За Бураном у нас только и дело-то стало».
Вернулся Бобров в казарму, а Буран и не думает собираться. Суется по камере, сам с собою разговаривает да размахивает руками.
«Ты что же это. Буран, думаешь?» – окликнул его Бобров.
«А тебе что?»
«Как что? Почему не собрался?»
«В могилу мне собираться, вот куда!»
Бобров рассердился.
«Да ты что в самом деле! Ведь ребята четвертые сутки в кустах. Ведь им теперь на кобылу ложиться… А еще старый бродяга!»
Заплакал от покоров старик.
«Отошло мое время… Не избыть мне острова… Износился!..»
«Износился ты аль нет, это дело твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, – за это никто не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек под плети, то обязан идти. Ведь мне стоит артели сказать, что тогда над тобой сделают?»
«Знаю, – сказал Буран сумрачно, – сделают крышку, потому что стою… Нечестно старому бродяге помирать такою смертью. Ну, ин видно, идти мне доводится. Только вот ничего-то у меня не припасено».
«Все живою рукою будет. Что надо?»
«А вот что: первым делом неси мне двенадцать хороших халатов, новых».
«Да ведь у ребят свои есть».
«Ты слушай меня, что я говорю, – заговорил Буран с сердцем, – знаю, что есть у них по халату, а надо по два. Гилякам за лодку с человека по халату придется. Да еще надо мне двенадцать ножей хороших, по три четверти, да два топора, да три котла».
Бобров собрал артель и объяснил, в чем дело. У кого были лишние халаты, все поступились в пользу беглецов. У всякого арестанта живуче какое-то инстинктивное сочувствие смелой попытке вырваться из глухих стен на вольную волю. Котлы и ножи нашлись частью даром, частью за деньги у старожилов-ссыльных. Все было готово дня в два.
Со времени прибытия партии на остров прошло тринадцать дней.
На следующее утро Бобров доставил Бурана в кусты вместе с запасом. Беглецы «стали на молитву», отслужили нечто вроде молебна на этот случай по особому арестантскому уставу, попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу.
V
– Что же, небось весело было в путь отправляться? – спросил я, вслушиваясь в окрепший голос рассказчика, вглядываясь в его оживившиеся в этом месте рассказа черты.
– Да как же не весело! Как изошли из кустов да тайга-матушка над нами зашумела, – верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало. Один только Буран идет себе впереди, голову повесил, что-то про себя бормочет. Невесело вышел старик. Чуяло, видно, Бураново сердце, что не далеко уйти ему.
Видим мы с первого разу, что командер у нас не очень надежный. Он хоть бродяга опытный и даже с Соколиного острова два раза бегал, да и дорогу, видно, знает: идет, знай, покачивается, по сторонам не глядит, ровно собака по следу, – ну, а все же нас с Володькой, с приятелем, сомнение берет.
«Гляди-ко, – говорит мне Володька, – с Бураном как бы на беду не напороться. Видишь: он не в себе что-то».
«А что?» – говорю.
«А то, что старик как будто не в полном рассудке. Сам с собой разговаривает, голова у него мотается, да и распоряжениев от него никаких не видится. Нам бы давно уж хоть маленький привал сделать, а он, видишь, прет себе да прет. Неладно, право!»
Вижу и я, что неладно. Подошли мы к Бурану, окликнули:
«Дядя, мол, а дядя! Что больно разошелся? Не пора ли привал сделать, прилечь, отдохнуть?»
Повернулся он к нам, посмотрел да опять вперед пошел.
«Погодите, говорит, зачем торопитесь ложиться? Вон в Варках либо в Погибе уложат пулями – належитесь еще».
«Ах, чтоб те пусто было!» Ну все же спорить не стали, потому что он старый бродяга. И притом сами видим, что не дело и мы затеяли: в первый-то день побольше уйти надо – тут не до отдыху.
Прошли еще сколько-то. Володька опять меня толкает:
«Слышь, Василий, дело-то все же неладно!»
«Что такое опять?»
«До Варков-то, сказывали, двадцать верст; ну, уж мы восемнадцать-то верных прошли. Как бы на кордон не напороться».
«Буран, а Буран!.. Дядя!» – кричим опять.
«Что вам?»
«Варки, чай, близко».
«Далеко еще», – отвечает и опять пошел.
Была бы тут беда, да, на счастие, увидели мы – на речке челнок зачален стоит. Как увидели мы этот челнок, так все и остановились. Бурана Макар силой удержал. Уж ежели, думаем себе, челнок стоит, значит, и житель близко. Стой, ребята, в кусты!
Вот вошли мы в тайгу, а на ту пору шли мы падью по речке; по одну сторону горы и по другую тоже горы, лиственью поросли густо. С весны с самой по Соколиному острову туманы теплые ходят, и в тот день с утра тоже туман был. А как взобрались мы на гору да прошли малое место верхами, – дохнул из пади ветер, туман, как нарочно, в море и угнало. Смотрим мы: внизу за горкой кордон, как на ладонке, солдаты по двору ходят, собаки лежат, дремлют. Все мы тут ахнули: ведь без малого волку в пасть своею охотой не полезли.
«Как же, говорим, дядя Буран. Ведь это кордон».
«Кордон, – отвечает Буран. – Самые это Варки».
«Ну, – говорим мы ему, – уж ты, дядя, не прогневайся: хоть ты и старше нас всех, однако, видно, нам самим о себе промышлять надо. С тобой как раз беды наживешь».
Заплакал старик.
«Братцы! – говорит, – стар я, простите ради Христа. Сорок лет хожу, весь исходился, видно, память временами отшибать стало: кое помню, а кое вовсе забыл. Не взыщите! Надо теперь поскорей уходить отсюда: не дай бог, за ягодой кто к кордону пойдет или ветер бродяжьим духом на собаку пахнет – беда будет».
Пошли мы дальше. Дорогой поговорили меж собой и все так порешили, чтобы за Бураном смотреть. Меня ребята выбрали вожатым; мне, значит, привалами распоряжаться, порядки давать; ну, а Бурану все же впереди идти, потому что он с дороги-то не сбивается. Ноги у бродяги привычные: весь изомрет, а ноги-то все живы, – идет себе, с ноги на ногу переваливается. Так ведь до самой смерти все старик шел.
Шли мы больше горами; оно хоть труднее, да зато безопаснее: на горах-то только тайга шумит да ручьи бегут, по камню играют. Житель, гиляк, в долинах живет, у рек да у моря, потому что питается рыбой, которая рыба в реки ихние с моря заходит, кыта называемая. И столь этой рыбы много, так это даже удивлению подобно. Кто не видал, поверить трудно: сами мы эту рыбу руками добывали.
Так все и идем, нос-то по ветру держим. Где этак безопаснее, к морю аль к речке спустимся, а чуть малость сомневаться станем, сейчас опять на верхи. Кордоны-то обходим со всякою осторожностью, а кордоны-то стоят разно: где двадцать верст расстояние, а где и все пятьдесят. Угадать никак невозможно. Ну, все же как-то нас бог миловал, обходили все кордоны благополучно, вплоть до последнего…
VI
Рассказчик нахмурился и замолчал. Спустя некоторое время он поднялся с места.
– Что же дальше? – спросил я.
– Лошадь вот… Чай, уж просохла. Пора, пожалуй, спустить с привязи.
Мы оба вышли на двор. Мороз сдавал, туман рассеялся. Бродяга посмотрел на небо.
– Стожары-то высоко поднялись, – сказал он. – За полночь зашло.
Теперь юрты соседней слободы виднелись ясно, так как туман не мешал. Слобода спала. Белые полосы дыма тихо и сонно клубились в воздухе; по временам только из какой-нибудь трубы вдруг вырывались снопы искр, неистово прыгая на морозе. Якуты топят всю ночь без перерыва: в короткую незакрытую трубу тепло вытягивает быстро, и потому первый, кто проснется от наступившего в юрте холода, подкладывает свежих поленьев.
Бродяга постоял некоторое время в молчании, глядя на слободу. Затем он вздохнул.
– Вот и ровно бы село наше, право! Давно уж я села не видал. Якуты по наслегам живут, как звери в лесу, все в одиночку… Эх, хоть бы сюда мне перебраться, что ли. Может, и выжил бы здесь.
– Ну, а в наслеге разве не выживете? Ведь у вас хозяйство. Вот вы говорили, что довольны своим положением.
Бродяга ответил не сразу.
– Мочи моей нету, вот что! Не глядели бы глаза на здешнюю сторону.
Он подошел к коню, пощупал у него под гривой, потрепал по шее. Умный конек повернул к нему голову и заржал.
– Ну, ладно, ладно! – сказал Василий ласково. – Спущу сейчас. Смотри, Серко, завтра не выдай!.. В бега его завтра пущу с татарами. Конек хороший, набегал я его – теперь с любым скакуном потягается. Ветер!
Он снял недоуздок, и конь веселою рысцой побежал к сену. Мы вернулись в избу.
Лицо Василья сохраняло пасмурное выражение. Он как будто забыл или не хотел продолжать свой рассказ. Я напомнил ему, что жду продолжения.
– Да что рассказывать-то, – сказал он угрюмо, – не знаю, право… Нехорошо у нас вышло. Ну, да уж начал, так надо кончать…
…Шли мы уже двенадцать ден и все еще с Соколиного острова не вышли, а по-настоящему надо бы на восьмой день уже на амурскую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на командера своего надежды не имеем. Где бы ровным местом идти, берегом, а мы по верхам рыщем, по оврагам, по гольцам, да тайгой, да по бурелому… Много ли тут уйдешь? Вот и стала у нас провизия кончаться, потому что всего на двенадцать ден и запасали. Стали мы поначалу порции уменьшать; сухарей понемногу отпускали, и промышляй всяк для своей утробы как знаешь: ягоды-то по тайге много. И пришли мы таким родом к заливчику, лиман называемый. Вода в том заливчике соленая, а как припрет ину пору с Амуру, то и пресная бывает. Вот хорошо: надо в этом месте лодки добывать, на амурскую сторону переправу иметь.
Стали мы тут думать-гадать: где нам взять лодки? Приступили к Бурану: советуй! А Буран-старик притомился у нас вовсе: глаза потускли, осунулся весь и никакого совету не знает. «У гиляков, говорит, лодки добывать надо», а где они, гиляки эти, и каким, например, способом лодки у них получить, этого не объясняет.
Вот и говорим мы с Володькой ребятам: «Погодите-ка вы здесь, а уж мы по берегу пойдем, может, на гиляков наткнемся: как-нибудь лодку ли, две ли промыслим. А вы тут, ребята, смотрите, ходите с опаской, потому что кордон, надо быть, поблизости находится».
Остались ребята, а мы втроем пошли по берегу. Шли-шли, вышли на утесик, глядим, а внизу, над речкой, гиляк стоит, снасть чинит. Бог нам его, Оркуна этого, послал.
– Это что же Оркун, имя, что ли? – спросил я рассказчика.
– Кто его знает? Может, и имя, а вернее, что старосту это по-ихнему обозначает. Нам неизвестно, а только как подошли мы к нему потихоньку (не сбежал бы, думаем), окружили его, он и стал тыкать себя пальцем в грудь: Оркун, говорит, Оркун; а что такое Оркун – мы не понимаем. Однако стали с ним разговаривать. Володька взял в руки палочку и начертил на земле лодку; значит: вот нам от тебя какой предмет требуется! Гиляк сообразил сразу; замотал головой и начинает нам пальцы казать: то два покажет, то пять, то все десять. Не могли мы долго в толк взять, что такое он показывает, а потом Макаров догадался:
«Братцы, говорит, да ведь это ему надо знать, сколько нас, какую лодку готовить».
«Верно!» – говорим и показываем гиляку, что, мол, двенадцать нас всех человек. Замотал готовой, – понял.
Потом велит себя к остальным товарищам вести. Взяло нас тут маленько раздумье, да что станешь делать? Пешком по морю не пойдешь! Привели. Возроптали на нас товарищи: «Это вы, мол, зачем гиляка сюда-то притащили? Казать ему нас, что ли?..» – «Молчите, говорим, мы с ним дело делаем». А гиляк ничего, ходит меж нас, ничего не опасается; знай себе халаты пощупывает.
Отдали мы ему запасные халаты, он их ремнем перевязал, вскинул на плечи и пошел себе вниз. Мы, конечно, за ним. А внизу-то, смотрим, юртенки гиляцкие стоят, вроде как бы деревушка.
«Что ж теперь? – сумлеваются ребята. – Ведь он в деревню пошел, народ сгонять станет!..»
«Ну, так что ж, – говорим мы им. – Их всего-то четыре юрты – мною ли тут народу наберется? А ведь нас двенадцать человек, ножи у нас по три четверти аршина, хорошие. Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек – хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!»
Ну все-таки надо правду говорить, маленько и у меня по сердцу скребнуло: не было бы какого худа. Вот, мол, и край Соколиного острова стоим, а приведет ли бог на амурской-то стороне побывать? А амурская-то сторона за проливом край неба горами синеет. Так бы, кажись, птицей снялся да полетел. Да, вишь, локоть и близок, а укусить – не укусишь!..
Вот хорошо. Подождали мы маленько, смотрим, идут к нам гиляки гурьбой. Оркун впереди, и в руках у них копья. «Вот видите, – ребята говорят, – гиляки биться идут!» – Ну, мол, что будет… Готовь, ребята, ножи. Смотрите: живьем никому не сдаваться, и живого им в руки никого не давать. Кого убьют, делать нечего – значит, судьба! А в ком дух остался, за того стоять. Либо всем уйти, либо всем живым не быть. Стой, говорю, ребята, крепче!
Однако на гиляков мы это подумали напрасно. Увидел Оркун, что мы сумлеваемся, обобрал у своих копья, одному на руки сдал, а с остальными к нам идет без оружия. Тут уж и мы увидали, конечно, что у гиляков дело на чести, и пошли с ними к тому месту, где у них лодки были спрятаны. Выволокли они нам две лодки: одна побольше, другая поменьше. В большую-то Оркун приказывает восьмерым садиться, в маленькую – остальным.
Вот мы, значит, и с лодками стали, а только переправляться-то сразу нельзя. Повеял с амурской стороны ветер, волна по проливу пошла крупная, прибой так в берег и хлещет. Никак нам в этих лодочках по этой погоде переехать невозможно.
И пришлось нам из-за ветру прожить на берегу еще два дня. Припасы-то между тем все прикончились, ягодой только брюхо набиваем, да еще Оркун, спасибо ему, четыре юколы дал – рыба у них такая. Так вот юколой этой еще сколько-нибудь питались. Честных правил, отличный гиляк был, дай ему, господи! И по сю пору о нем вспоминаю.
День прошел, все мы на берегу томимся. И до чего досадно было, так и сказать невозможно. Ночь переночевали, на другой день – все ветер. Тоска донимает, просто терпеть нельзя. А амурская-то сторона из-под ветру-то еще явственнее выступает, потому что туман с моря согнало. Буран наш как сел на утесике, глазами на тот берег уставился, так и сидит. Не говорит ничего и ягод не собирает; сжалится кто над стариком, принесет ему ягоды в шапке – ну он поест, а сам ни с места. Загорелось у старика бродяжье сердце. А может, и то: смерть свою увидал… Бывает!..
Наконец всем уже невтерпеж стало, и стали ребята говорить: ночью как-никак едем! Днем невозможно, потому что кордонные могут увидеть, ну, а ночью-то от людей безопасно, а бог авось помилует, не потопит. А ветер-то все гуляет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, старички (птица такая вроде чайки) над морем летают, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном стонет, море на берег лезет.
«Давайте, говорю, ребята, спать ляжем. Луна с полночи взойдет, тогда что бог даст, поплывем. Спать уж тогда немного придется, надо теперь силы наспать».
Послушались ребята, легли. Выбрали мы место на высоком берегу, близ утесу. Снизу-то, от моря, нас и не видно: деревья кроют. Один Буран не ложится: все в западную сторону глядит. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до ночи далеко. Перекрестился я, послушал, как земля стонет, как тайгу ветер качает, да и заснул.
Спим себе, беды и не чаем.
Долго ли, коротко ли спали, только слышу я: Буран меня окликает. Проснулся от сна, гляжу: солнце-то садиться хочет, море утихло, мороки над берегом залегают. Надо мною Буран стоит, глаза у него дикие.
«Вставай, говорит, пришли уж… по душу, говорит, пришли!..» – рукой этак в кусты показывает.
Вскочил я тут на ноги, гляжу: в кустах солдаты…
Один, поближе, из ружья целится, другой, подальше, подбегает, а с горки этак еще трое спускаются, ружья подымают. Мигом сон с меня соскочил; крикнул я тут громким голосом, и поднялись ребята сразу все, как один. Только успел первый солдат выстрелить, мы уж на них набежали…
Глухое волнение сдавило голос рассказчика; он понурил голову. В юрте стояла полутьма, так как бродяга забыл подкладывать поленья.
– Не надо бы рассказывать, – сказал он тоном, в котором слышалось что-то вроде просьбы.
– Нет уж, все равно, кончайте! Что же дальше?
– А дальше… да что уж тут… сами подумайте: ведь их всего-то пять человек, а нас двенадцать. Да еще думали они нас сонных накрыть, все равно как тетеревей, а вместо того мы им и оглянуться-то и собраться в кучу не дали… Ножи у нас длинные…
Выстрелили они по разу наспех – промахнулись. Бегут с горки, и удержаться-то трудно. Сбежит вниз, а тут внизу мы его и принимаем…
– Верите вы? – как-то жалостливо проговорил рассказчик, поднимая на меня глаза с выражением тоски, – и оборониться-то они нисколько не умели: со штыками этак, как от собак, отмахиваются, а мы на них, мы на них, как лютые волки!..
Пхнул один солдат штыком меня в ногу, оцарапал только, да я споткнулся, упал… Он на меня. Сверху еще Макаров навалился… Слышу: бежит по мне кровь… Мы-то с Макаровым встали, а солдатик остался…
Поднялся я на ноги, гляжу – последние двое на пригорок выбежали. Впереди-то Салтанов, начальник кордона, лихой, далеко про него слышно было; гиляки – и те его пуще шайтана боялись, а уж из нашего-то брата не один от него смерть себе получил. Ну, на этот раз не пришлось… Сам себя потерял…
Было у нас два черкеса, проворны, как кошки, и храбрость имели большую. Кинулся один к Салтанову навстречу, в половине пригорка сошлись. Салтанов в него из револьвера выпалил; черкес нагнулся, оба упали. А другой-то черкес подумал, что товарищ у него убит. Как бросится туда же… Оглянуться мы не успели, он уж Салтанову голову напрочь ножом отмахнул.
Вскочил на ноги, зубы оскалил… в руках голову держит. Замерли мы все тут, глядим… Скрикнул он что-то по-своему, звонко. Размахал голову, размахал и бросил…
Полетела голова поверх деревьев с утесу… Тишина у нас настала, стоим все ни живы, ни мертвы и слышим: внизу по морю плеск раздался – пала голова в море.
И солдатик последний на пригорке стоит, остановился. Потом ружье бросил, закрыл лицо руками и убежал. Мы и не гонимся: беги, бог с тобой! Один он, бедняга, на всем кордоне остался, потому что было двадцать человек. Тринадцать на амурскую сторону за провизией поехали, да из-за ветру не успели еще вернуться, а шестерых мы уложили.
Кончилось все, а мы испугались, никак сообразиться не можем, друг на друга глядим: что же, мол, это такое – во сне али вправду? Только вдруг слышим: сзади, на том месте, где спали мы, под деревом, Буран у нас стонет…
А Бурана нашего первый солдат из ружья убил. Не вовсе убил, – помаялся старик еще малое время, да недолго. Пока солнце за гору село, из старика и дух вон. Страсть было жалко!..
Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дождаться, а то как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».
«Что ты, что ты, дядя Буран! – говорю ему. – Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем… Бог с тобой». – «Нет уж, братец, – отвечает старик, – против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острову, видно. Так пусть уж… чуяло сердце… Вот всю-то жизнь, почитай, все из Сибири в Расею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острову проклятом…»
Подивился я тут на Бурана – совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.
«Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно – пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Расее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь – эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острову с гиляками, заехал с товарами в горы, да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застукали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки… В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот заслышали мы, что русский человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. «Должон я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать…» И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его – счастливы будете и всякую помощь получите».
Вот рассказал нам старик все дороги, наставления дал, а потом говорит:
«Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает, да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!»
Послушались мы.
Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роем; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.
Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки… За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедра стоит…
VII
Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова… вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему, каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь…
Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, вороты заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим, вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»
– Бродяжки, – говорим, – от Бурана Стахею Митричу поклон принесли.
А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии – сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»
А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.
«Ах, братцы, – говорит, – не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!»
«Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном».
«А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?»
«Попал, говорим, да приказал долго жить».
«Ну, царство ему небесное… Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?»
– «Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-от свое имя забыл, потому что бродяге не к чему».
– «То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать, и то не знает, как назвать… тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки».
«Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей…»
«Горькая ваша жизнь, ох, горькая!»
«Чего горше: едим прошеное, носим брошеное, помрем – и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне – зверь сожрет, птица расклюет… Кости – и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?»
Пригорюнились мы… Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим, – потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит, – ну, а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать… в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да точно нечисть болотная с петухами от крещеных людей хорониться.
«Ну, однако, ребята, – говорит приказчик, – пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению, что следует, получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану, – трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчету. А то как бог с вами беды не нажить… Смотрите, в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. «Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов-соколинцев изымаю». Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите».
Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько, да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать – до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.
Ох, и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая… дождем тебя моет, ветром тебя сушит и на всем-то, на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту… Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго… Долго ли на родине погуляешь – опять тюрьма!
Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право… Вот и в ту ночь, идем-идем, вдруг Володька и говорит:
«А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?»
«Это ты про кого, мол?»
«Да наши, на Соколином острову, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут… Эх, не надо бы и ходить-то…»
Прикрикнул я на него. «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий – на других тоску нытьем нагоняешь».
А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем – дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами – нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь… Потянусь – и сна не бывало…
Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало – ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.
Проснулся я от этого сна – кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской – глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымется, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает – значит, скоро заря, и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то – может, и сами слышали, – никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет… Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему не привычны.
Стали ближе к Николаевскому подаваться; заимки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не то что человек – зверь не прорыщет, птица не пролетит.
Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это вольная команда[8] с сетями рыбу ловит. Ну, и мы без страху подходим:
«Здорово, мол, господа, вольная команда!»
«Здравствуйте, – отвечают. – Издалеча ли бог несет?»
Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:
«Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова «накрыли»?»
Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хошь и свой брат, да в этаком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например, перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком – он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет – чуть что, сейчас уж знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?
Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:
«Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это, право, беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше… Пройдете мимо – счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?»
«Пожалуй, говорю, лишний не помешает».
«Берите артельный… Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать».
Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются… Плачем… И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что доброе слово услыхали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.
Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.
Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил… над рекой… Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж и к вечеру подошло, глядишь, и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.
Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и следует.
На счастье наше, жил в то время в городу старичок чиновник. Был он в прежнее время в N тюремным смотрителем. А в N тюрьма большая, народу в ней перебывало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное, только ругаться любил… Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, а никакого страху от него не было. Уважали ему, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копейкой артельной не прибытчился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была немалая… Имел доход порядочный…
В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокое, в собственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем временем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»
Проходили тут двое из вольной команды, подозвал он их и спрашивает:
«Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?»
«Нет, – говорят те, – не в Дикманской пади. Ноне им повыше надо быть. Да и то, никак, вольной команде нонче в город возвращаться».
«То-то вот и я думаю… А видите, вон огонек за рекой горит?»
«Видим».
«Кому же у того огня быть? Как по-вашему?»
«Не могим знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие».
«То-то вот и я думаю… А видите, вон огонек за рекой горит?». Подумать, все я об вас обо всех думай… А слыхали, что исправник третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече… Не они ли это, дурачки, огонь развели?»
«Может статься, Степан Савельич. Не диво, что и они развели».
«Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзавцев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку…»
Вот сидим мы у огня, ухи дожидаемся – давно горячего не видали. А ночь темная, с окияну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо… Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь – родная матушка; на небе темнее – на сердце веселее.
Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокарда поблескивает.
«Ну, говорю, ребята, пропали наши головы… Исправник!»
Вскочили все, котлы опрокинули – в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбегаться. Посмотрим, мол, что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:
«Что, дурачки, разбежались? Небось выйдете все – я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают, как зайцы!»
Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.
«Слышь, говорит, Василий? Чудное дело: голос у исправника будто знакомый».
«Молчи, говорю, что еще будет. Немного их».
Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:
«Эй вы, не бойтесь: Кого вы в здешнем остроге знаете?»
Притаили мы дух, не откликаемся.
«Да что вы это, лешие! – окликает тот опять. – Сказывайте, кого вы в здешнем остроге знаете, может, и нас узнаете тоже».
Отозвался я.
«Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видать, может и нам и вам лучше бы было. Живьем не дадимся».
Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро – сила-то наша. Беда только, думаю, как начнут из револьверов палить – в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать. Без бою все-таки не дадимся.
Тут старик сам заговорил:
«Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?»
Дарьин опять меня толкнул:
«Верно! Кажись, это N-ской смотритель… А что, – спрашивает громко, – вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?»
«Как, мол, не знать, – старостой у меня в N находился. Федотом, кажись, звали».
«Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш».
Тут все мы вышли.
«Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся».
«Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали, прямо против города огонь развели?»
«Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик».
«Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше исправника вышел на крылечко, трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то… Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, востры, даром, что Салтанова поддели, кан-нальи этакие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!»
Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся. Потом перестал кричать и говорит:
«Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может, доведется кому в Тобольске побывать – поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать, потому что за женой дом у меня взят… Ну, и стар уж… А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну, а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?»
«Одиннадцать», – говорим.
«Ну, и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всею партией и прете».
Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подальше в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздуванили припасы и распрощались – старика-то послушались.
Мы с Дарьиным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы или помер кто. Про татарина слыхал, будто тоже сюда прислан, а верно ли – не знаю.
В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьиным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней заимке взлаяла.
А как стало солнце всходить, мы уж верст десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим – колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим, бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.
Перекрестились мы тут с Дарьиным: слава те, господи, что вечор его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал.
VIII
Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова, и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.
Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетавшие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.
Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И от всей этой молчаливой, объятой холодом картины веяло в душу снисходительною грустью, – казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: «Далеко, далеко!»
Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал, и в юрте слышалось его ровное дыхание.
Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Ею грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что надо мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге, а между моим глазом и белою стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки, и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.
Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме – не трудностью пути, не страданиями, даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахнуло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимым желанием чаши?
Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю… Куда?
Да, куда?..
В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы… Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая, тяжелая туча… Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари да где-то далеко, под задумчиво синеющими горами, стоит огонек…
Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающею во мраке могилой?..
Заснул я очень поздно.
IX
Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.
Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запряг коня в маленькие саночки и выехал из своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но… все в мире относительно, и то самое, что в других местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступавшей весны. Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми, неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы, – их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.
Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и так как в тот день у татар был праздник, то улица имела довольно оживленный вид. То и дело где-нибудь скрипели ворота, и со двора выезжали дровни или выбегали рысцой верховые лошади, на которых, раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета не особенно строго блюдут запрещение Корана, и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственною фигурой, волочась на вожжах. Не сдержать коня и вывалиться с дровней – это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.
Но вот прямая, как стрела, улица приходит в какое-то особенное суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие сторонятся, татарки в красных чадрах, нарядные и пестрые, сгоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.
На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал бега, до которых и якуты, и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня как ветер.
Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдавшись всем корпусом назад, почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-расейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучавшие резко, как удары хлыста. Серый конек почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.
Сочувствие улицы, как всегда в этих случаях, склонилось на сторону победителя.
– Эх, удалой молодца! – вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дикого спорта, приседали и хлопали себя по коленам в такт ударам лошадиных копыт.
В половине улицы Василий догнал меня, возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.
Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже «выпивши».
– Закутил! – крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.
– Дело ваше… – ответил я.
– Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, переметы мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану – не давай! Слышишь?
– Слышу, – ответил я холодно, – только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.
– Не придем, – ответил бродяга и хлестнул коня концом повода. Конек захрапел, взвился, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне.
– Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!
– Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?
– Продаю – подошла линия!
Он опять хлестнул коня и опять удержал его.
– Собственно, потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх, мил-лай! Посмотри вон, татарин едет, вон на чалом жеребчике… Эй ты, – крикнул он ехавшему сзади татарину, – Ахметка! Подъезжай-ка сюда.
Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.
Плутоватая рожа Ахметки вся расцветала широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на собеседника с плутовской фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга, – как будто говорил каждому этот взгляд. – Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом ловким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.
– Товарища! – кивнул он головой на Василья. – Вместе бродяга ходил.
– А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.
– За бумагам пришел. Приискам ходим, спирту таскаем[9].
Я взглянул на Василья. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.
– Уйду с ним в тайгу… Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!..
Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице вместе с частым топотом лошадиных копыт.
Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.
1
Догор – друг, приятель. (Примеч. В. Г. Короленко.)
2
Якутская область в административном отношении разделяется на округи, соответствующие нашим уездам. Округ, в свою очередь, разделяется на улусы, а улусы подразделяются на наслеги. Если улус приравнять к русской волости, то наслег будет соответствовать отдельному обществу в среде волости. Деление это имеет характер отчасти родовой, отчасти административный. (Примеч. В. Г. Короленко.)
3
Учур – река, приток Алдана, впадающего в Лену. (Примеч. В. Г. Короленко.)
4
«Сделать крышку» – на арестантском жаргоне значит убить кого-либо в среде самой тюрьмы. При этом обыкновенно на голову жертвы накидывается халат с целью заглушить ее крики. Это и есть крышка. (Примеч. В. Г. Короленко.)
5
Презрительная кличка от слова «шпанка» (объяснение выше) (Примеч. В. Г. Короленко.)
6
Кобылой называют скамью особого вида, к которой привязывают наказываемого плетьми (Примеч. В. Г. Короленко.)
7
Порт Дуэ, на западном берегу Сахалина. (Примеч. В. Г. Короленко.)
8
Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично, и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами. (Примеч. В. Г. Короленко.)
9
Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел – спиртоносов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей же братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы. (Примеч. В. Г. Короленко.)