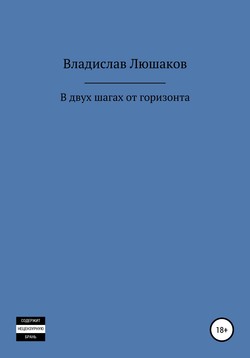Читать книгу В двух шагах от горизонта - Владислав Люшаков - Страница 1
ОглавлениеКогда мы плачем об умерших, мы плачем о себе
VS
На автовокзал он приехал рано утром, когда было еще темно и едва-едва серело, но всё пространство перед платформами было заполнено людьми. Он остановился в растерянности, затем пошел в сторону касс, без надежды, а скорее так, – выполняя некую данность, следуя алгоритму, по которому после прибытия необходимо было обязательно пройти процедуру стояния в очереди, хотя бы для того, чтобы убедиться в бесполезности данной процедуры и с сожалением об упущенном времени начать поиск прочих вариантов отъезда. Очередь действительно плотной змейкой упиралась во входную дверь. Сырой, вязкий холод заставлял людей, большей частью пожилых и зрелых, тесниться внутрь, уплотняться, прижиматься друг к другу, словно кто-то мог вклиниться между и занять чужое место. Он спросил крайнего и даже машинально постоял несколько минут, повинуясь внутренней дисциплине, необходимости придерживаться правил общего поведения, без напряжения, без усилия над собой. Даже без раздражения.
Несколько минут.
– На все направления? – спросил почти в никуда, обводя взглядом окружающих. Когда заканчивал вопрос, остановился взглядом на молодой девушке в очках с поднятым воротником пальто. О том, что это может быть модно или наоборот, даже не подумалось, хотя одеты многие были довольно современно. Очки шли, создавали сексуальность, манили к тому, что находилось за ними, а там глаза, такие напуганные и оттого невинные, и целомудренные, хотя скорее всего это было временно, надуманно, не по-настоящему, как не по-настоящему было все вокруг него и вокруг них всех, у каждого по-своему, со своим особым привкусом, запахом, пониманием ситуации и происходящего в ней. Напротив, все в девушке словно сопротивлялось маскараду, намекая о той скрытой истине в ней, которая рвалась наружу, но не смела противостоять общему молчаливому обету. А вдруг это только ему так кажется, так видится? – подумал он, – а на самом деле она всего лишь есть то, что показывает, и его похоть нескромно вылезла в таком коварном предположении только потому, что он почувствовал запах женщины и инстинктивно среагировал на него своим вердиктом. Аморальная похоть среди тотального затмения.
– На все, – коротко сказала женщина, совсем не там, куда он смотрел, лет шестидесяти. Она стояла чуть в стороне, но было видно, что она следит за очередью, спокойно, тихо, ни с кем не разговаривая. Она была одна, и таких было немало, хотя многие общались парами и группами, будучи знакомыми или находя общую тему. Он посмотрел на нее, но туманный взгляд, казалось ему, расплывался в пространстве утра. Все еще девушка в очках грела затылок своим излучением. Она даже не подозревает, что одеждой и очками не скроет себя, все равно выдаст себя, – продолжал он настойчиво свое предположение. Лучше бы спросила у… другого… что делать… но вряд ли самый изощренный вид маскировки под уродство помог бы в том, что называется природой. Он еще раз попробовал заглянуть ей в глаза, но тень скрывала и цвет. Стекла не подчеркивали диоптрию, можно было принять их за декор, как раз то, о чем он подумал.
Несколько минут.
За стеклянной дверью все еще было пасмурно. Это от того, что в коридоре свет, – подумал он. А дверь разделяет свет и сумрак. Если выйти, станет светлее. И свежее. Он вышел и пошел к киоску. Оказалось, уже почти рассвело. Вокруг горели фонари. Купил пачку сигарет и положил в карман куртки. И кофе, – вдруг добавил, заметив рукописную надпись на тетрадном листке, приклеенную скотчем к стеклу. Кофе был растворимый, но горячий. Пластиковый стаканчик только не плавился в руке, но держать его было почти невозможно, если не перехватывать из одной руки в другую. Чайник, видимо, не успевал остывать от желающих согреться.
Отходя, заметил двух мужчин в камуфляже, подошедших следом. Помоложе, лет тридцати, круглолицый, был перепоясан ремнем с кобурой и пистолетом внутри, у второго, полного, лет пятидесяти или даже старше, с усами соломенно-пыльного цвета и со сдвинутой к левому уху папахе, с выпирающим животом, как у тех многих мужиков-шахтеров в пивнушках после смены, заполняющих иссохшее тело густой благотворной жидкостью, расслабляющей мышцы, тогда, когда-то, когда он тоже еще работал там, когда пиво стоило двадцать четыре копейки в приличной забегаловке, но это сравнение было мимолетно, как ностальгия по безумию, осело в бездне, – у второго через плечо на истертом ремне висел АК, на прикладе виднелась какая-то нацарапанная ножом или гвоздем надпись – буквы, слово, не читаемое издалека. Эти двое уверенно закурили и провели взглядом по периметру. У них был совсем другой взгляд, не такой, как у людей в очереди в кассу или перед автобусами, не такой, как у частников-водителей, узнаваемых среди толпы по особым манерам, походке и даже одежде, вроде бы такой же как у многих, но, наверное, по-особому сидящей на фигурах, – взгляд, спокойный, безмятежный, но и суровый одновременно, чужой, вражеский по отношению ко всему окружающему: людям, автобусам, недешевым сигаретам и их некачественным свойствам, к мерзкой погоде, старикам-пенсионерам, которых было слишком много, которые не сидели дома, а толкались в очередях, чтобы куда-то уехать, чтобы к вечеру вернуться в свои холодные дома и квартиры, и вообще всему, что попадалось им на пути к киоску с сигаретами, к кофейному ларьку с пирожками, к туалету, наконец, возле которого и то выстроилась очередь.
В голове мысли растерянно бились наружу, все еще без определенного мотива, без возбуждения, словно разогнанные центрифугой частицы. Пока шумно подтягивал внутрь кофе, согревая пальцы и ладони, огляделся вокруг повнимательней.
На улице тоже были кассы, и он медленно пошел к ним.
– Есть закурить?
Он повернулся.
– Нет. Не курю.
Он увидел, что на платформах людей ничуть не меньше, чем в здании автовокзала, несмотря на то что очереди в несколько окошек разделились и казались короче. Он снова пристроился в конец одной из них. Если все бросить и поехать домой, то назавтра ничего не изменится, как не изменится и через день, два, неделю. Но неделю ждать было невыносимо и невозможно. Терять время, чтобы оказаться в такой же ситуации, в той же отправной точке… Чтобы снова вяло двигаться по чужой комнате, то и дело заглядывая на кухню, а потом, будучи не в силах сдерживать себя, одеться и выйти в темноту. «Куда собрался?» – спросила тогда жена строго, конечно же от беспокойства за него. Пройдусь немного, воздухом подышу. «Открой форточку и дыши». Ну это же я так сказал, – так. Но он промолчал одиноко. Я могу в магазин зайти, купить чего-нибудь. «Нам надо что-нибудь, Таня?» «Ничего не надо», – ответила из глубины комнаты дочь. «А у тебя деньги есть?» Нет, вы бы дали. Но не сказал. «Пусть паспорт возьмет». «Паспорт возьми, не забудь». Сначала дочь, за ней жена. «И телефон!» – вспомнила беспокойно. Проверил в кармане. И правда, хотя будет звонить, путать сознание, беспокоить и так блуждающее в стороне от самого себя естество. Щелкнул тогда поскорее дверным замком, где-то растворились в воздухе слова, фразы. Но он уже не слышал. Не стал отворять дверь и переспрашивать, чтобы избежать звонков вдогонку, – уж пусть лучше звонят, а то и обойдется. Спустился по ступенькам. Навстречу поднимался мужчина лет сорока в спортивном костюме. «Бизнес», – определил сразу по выправке в первый раз, среди дня, к тому же видел, как тот выходил из дорогой машины. Впрочем, подумал тогда, возможна высокая должность в компании. Кроме ДТЭК крупных компаний не осталось. Жил где-то выше, они несколько раз встречались с тех пор, как переехали из своей квартиры, но на каком этаже жил этот человек и с кем, не знали, а разговаривать не пытались, как одна, так и другая сторона. Это даже не казалось неестественным при двух десятках квартир в подъезде. Когда они получали свою квартиру на отшибе, то очень сильно удивились и потом еще очень долго привыкали к тому, что с ними здоровались взрослые и подростки, совершенно незнакомые люди, пока не поняли того деревенского уклада жизни, который бытовал в поселке. Позже и они сначала здоровались, а уж после постепенно знакомились с соседями – пока не перевидали весь поселок. Хотя зачем это ему, какая разница, чем он занимается. Теперь какая разница.
Они кивнули друг другу. Вышел и сразу за угол. Спустился на Челюскинцев, где напротив, через дорогу, светились изумрудом огромные стекла стадиона, и пошел в сторону Крытого рынка. Мимо прокуратуры, мимо Апелляционных судов, где и самому довелось побывать когда-то после ДТП. Но сначала зашел в магазин и купил бутылку пива. Деньги он приберег из мелких покупок, – не хотелось просить у жены и тем более у дочери, потому что все то время, что они жили на съемной квартире в центре, он не получал пенсии и два месяца как не работал, после того как к ним в студию пришли люди в хаки и объявили о смене собственности компании, представили человека, которому будет подчиняться коллектив и согласовывать материалы для выпуска, и на следующий день несколько человек написали «по собственному», – заработанное летом находилось у жены, экономной и распорядительной. Сразу возле магазина он постоял, пока пил крупными глотками, короткими сериями.
Сзади услышал громкие подростковые голоса. Два парня что-то весело выкрикивали, иногда коротко срывались в хриплое пение, скорее похожее на песнь павлина на току, потом стихали, ровно на столько, сколько времени тратил он, когда пил свое пиво, а потом все повторялось. Рядом было общежитие, в магазине еще можно было купить спиртное. На улицах никого не было, и удивительным казалось наличие кого-либо вообще, а не пустое пространство в миллионном некогда городе. Он дошел до перекрестка и начал спускаться к автостанции. Потом или снова вверх, или через «Велику кишеню», – решил он, запуская мысленно навигатор.
– Стой!
И снова:
– Стоять! На землю, лечь!
Кто-то резко нажал педаль тормоза, визгнули подошвы, сработали амортизаторы в щелкнувших бурситом коленках, – и он остановился, не успев дать себе команду.
Лязгнул затвор.
Он медленно обернулся после паузы. В нескольких шагах сзади него уже лежали на тротуаре два мальчишки с двухлитровой пивной бутылкой у одного из них, руки вытянуты были вперед и в стороны, над ними в берцах и форме хаки (на охоту), неуклюжей, скомканной на спине в пояснице, с автоматами наизготове, направленными в спины. Рейнджеры. Один патрульный ударом отбросил в сторону ногу лежавшего с бутылкой. Из открытого горлышка текла жидкость, вспыхивая пузырьками и распространяя свежий запах. Звони, – сказал один второму, – пусть пришлют подмогу.
Внутри стало мерзко и унизительно-тоскливо. Он прошел еще метров двести к автостанции, но бездна обезлюдевшей местности обескуражила. Даже фонарные столбы маячили в мрачной пустоте, магазинчики и торговые ларьки погрузились туда же. Платформы под навесами, раньше здесь в это время еще стояли очереди отъезжающих после работы и учебы, плотно друг к другу стояли автобусы, частники и таксисты ожидали удачи рядом. Сама дорога спускалась глубже и глубже погружалась в нечеловеческое продолжение неизвестности. Было мертво вокруг, было мертво внутри. Он развернулся тогда и снова пошел вверх, прямо глядя перед собой в выбранную точку за перекрестком, где с улицы Артема подсвечивались огни Свято-Преображенского собора. Даже стрелки на часах расплывчато показывали двадцать пять восьмого. Фигуры все еще стояли над лежащими телами, стволы автоматов слегка подрагивали в их руках.
– Огонька не будет? – он сам не понял, как это вырвалось у него, зачем, без мысли, без смысла того, что он произнес. Абсурд царил в каждом его звуке, но внутри все как-то забродило, задвигалось, то ли от протеста, то ли от наслаждения; сердце ударило в виски.
– А у них? – добавил он кивком перед дулами. – Вижу, у них тоже нет. Ладно, я все равно без сигарет.
Он тут же на ходу развернулся и прицелился на освещенный купол. Сзади было тихо, мальчишки почти не дышали и не двигались. Никто не подал голос, и он пошел дальше вверх. Ноги спешили перейти на галоп, приходилось усилием держать их в среднем темпе, вроде неторопливом. Пока он поднимался мимо собора, царапаясь взглядом за стены, он мысленно ругал себя разными словами и задавался вопросом, отчего, откуда в нем эта черта, которую иногда он сам в себе ненавидел, зная в то же время, что никогда от нее не избавится и не искоренит. Почему он переставал себя контролировать в ту самую минуту, когда это было нужнее всего, когда и сам не предполагал, что это может произойти. Пока он медленно удалялся от того места, голова становилась все яснее, и он уже снова оказался внутри себя. Он все еще ждал холодного набата затвора за спиной. По хребту сползала крупная капля. Он вспомнил, глядя спасительно сквозь деревья, как возникла рядом с кинотеатром «Красная шапочка» временная часовня в преддверии монументального строительства напротив общежития политехнического института, под которым целыми днями дежурили, словно девицы на Тверской, студенты-арабы, предлагавшие change по выгодному курсу, и обменять можно было практически любую сумму, поскольку, когда денег не хватало у одного, он брал у соседей или заходил внутрь и бежал вверх по ступенькам, скорее всего на второй этаж, потому что возвращался очень быстро, даже не запыхавшись. Мобильных телефонов еще не было и все контакты осуществлялись непосредственно с глазу на глаз. Он вспомнил, как еще до появления часовни, по вечерам ныряли в темноту вокруг кинотеатра парочки, не дожидаясь, пока разбредутся последние зрители с вечернего сеанса, но тогда он только рисовал в своем воображении картины свиданий в виде пульсирующих волн юношеского организма. Разве я жду чего-либо от тебя? – подумалось ему так же отвлеченно, собирая в черное сознание все короткие воспоминания разного времени без разбора, но они и сами последовательно нанизывались на историю или группировались вокруг ситуативного образа, плывущего рыжей почему-то бородой и вперед животом в рясе и фелонью с вырезом на груди.
Рядом с домом, в котором они временно поселились, на пешеходной аллее стояло кафе-забегаловка, где можно было присесть за столик попить кофе и съесть бутерброд. Там же можно было заказать водку или коньяк, – все еще можно было – наверное, кто-то курировал эту точку, – подумал. Зашел в стеклянную дверь, в небольшом зале стояло штук пять-шесть столиков, но и они были пустые, даже без остатков посуды. Что-то играло из приемника в небольшие колонки, скорее всего для бармена, чтобы не так было скучно. Заказал сотку и выпил почти одним глотком, закусил долькой лимона. За окном по-прежнему стояла сырая бездна, несмотря на некоторое броуновское движение людей и транспорта. Еще сто граммов водки почему-то не показались избыточными, растворились в аморфной субстанции тела, поглощенные вязким веществом. Из-за угла показалась фура, медленно стала вписываться в поворот, потянулась вниз, в сторону Донбасс-Арены, за ней вторая, третья. И тут зазвонил телефон. Ты где? – то ли встревоженный, то ли раздраженный голос ударил в черепную коробку. Иду домой, – сказал он бодро, уже за дверью, чтобы не было слышно музыки. Через две минуты буду. Быстро отключил. Но подойдя к подъезду понял, что придется звать на помощь, чтобы открыли дверь изнутри. Ключ от входной двери был один на всех, делать дубликат казалось роскошью. Есть хочу. Что у нас на ужин? Ты выпил? Где? Откуда взял деньги? Оттуда, откуда они у вас, хотел сказать, и конечно оставил себе, чтобы не просить. Давай поедим. Вы уже ели? Макароны. Макароны, как некое сакральное блюдо, настолько, что без него не обходился ни завтрак, ни обед, ни ужин – и так семь дней в неделю, за редким исключением, когда на столе оказывался рис или пшено, или гречка, которая комкалась крошками в горле похлеще макарон, а картошка только в первых блюдах, – макароны обрели второе рождение вкуса. Ты знаешь, что скоро комендантский час? Мимо прошла дочь, вытирая после ванны волосы полотенцем. Ты видел, сколько времени? Видел-не-видел. Где-то в темноте еще скрывался зять, которого тоже не видел. Скорее всего, уже в ванной. Гуманитарка пошла, – сказал. – Видели? И по новостям сказали, – вступила в разговор дочь. Значит, опять будет шумно, – прозвучал голос зятя, и фигура мощной тенью заслонила проем. Шумно – это как? – хотелось спросить. Артобстрелы – это «шумно»? Но начнет нервничать дочь, потому что они сцепятся с зятем в полемике из-за слов, внезапно ставших значимыми в их жизни, а этого не хотелось, не хотелось тратить энергию на доказательство определений элементарных этических понятий, которые, как оказалось, можно выкручивать, словно бабушкиными руками белье из далекого детства. Выключаем свет. Зачем, мы ведь в центре города, здесь всегда было тихо. А вот Таня говорит, что не всегда. Да, не всегда, и здесь тоже стекла дрожали. Еще как дрожали, добавил зять, ныряя снова в невидимость. Стекла действительно были обклеены накрест строительным скотчем, причем во всех, практически, домах, и только на некоторых окнах ничего не было, так что сразу можно было определить, откуда жильцы съехали давно и больше не возвращались, но и стекла в окнах там часто были разбиты и кусками выпали. Что ж, ей виднее, она раньше переехала с зятем, оставив им возможность позаботиться о квартире, сложить в одно место все вещи, чтобы случайным снарядом в окно или пулеметной очередью не повредило, а заодно усилить двери металлическим листом, оставить открытыми форточки на случай взрывной волны, потому что в то время всё происходило рядом, потому что аэродром был еще темой номер один во всех новостях, и в радиусе трех-пяти километров было так же активно, как и возле него самого. Тогда давайте все уедем, – еще раз попытался и тут же пожалел. Все равно домой не попасть и жить там невозможно. Дочь молча отвернулась к зеркалу и принялась демонстративно расчесывать волосы, по-мужски играя желваками широких скул (восточный штрих придавал неклассическую особенную привлекательность). Но что делать в темноте? Жена выступила миротворцем. Телевизор смотри. Ваши сериалы или новости? Те самые, от которых он бежал последние два-три года. Сплошные новости круглые сутки. От них броуновское движение усиливалось и хотелось выпить. Выпить не давали, да он и сам знал, что не за что, а новости с утра до вечера – здоровья не хватит пить. Я туда все равно не поеду – вы же знаете, – резко вставила дочь, скорее реагируя на реплику о сериалах, но правильно ее поняв. Стукнула расческой о что-то, вероятно, о трюмо. Она была его дочь и понимала, что он вкладывал в детское самодурство. Хотя и ехать было некуда. Из подъезда, кто мог, разъехались по родственникам – кто по Украине, кто в Россию. Тогда смотрите что хотите, а я буду спать. Так и сказал, подтверждая свое отношение, свою полярность. На полу, на матрасе было тепло и приятно-жестко. Даже в армии растянутая донельзя сетка кроватей провисала и не позволяла нормально спать, пока он не подложил под нее кусок толстой фанеры из пропагандистского щита, но во время очередной проверки старшина обнаружил «не по уставу» и пришлось его демонтировать. Другим же такие «батуты» нравились и воспринимались как прилагательное к «дедовскому» статусу.
– Витя!
Он оглянулся.
– Это ты!?
Он осторожно улыбнулся.
– Леня! – утомленность исчезла в его взгляде. Ум всклокочился, сделал стойку. К нему с платформы подходил в куртке с меховым воротником, держа в руке такой же стаканчик с кофе, но только более полный. Почти полный, развевающий широкие пары. Непокрытая полубритая макушка, с глубокими залысинами, глубокие складки на переносице, словно шрам, раскроивший пополам. Ничего, кроме кофе. Полный образ фигуры заслонил детали.
Сейчас спросит: как дела. Дела, работа, семья… Унеслось прочь, во время, которое измеримо прошлым…
– Ты очередь занимал? – Леня перебросил в другую руку стаканчик, не пытаясь отхлебнуть, выдерживая паузу, пока остынет. Щеки его нависли над короткой шеей, но не слишком, чтобы обрюзгнуть.
– Ты куда?
– Туда, – он подбросил подбородком.
– Еще не на пенсии?
– Нет. Рановато. А ты – уже?
– Первый раз. Там скопилось уже за полгода. За депозитом?
– Если получится.
– Что ж так затянул-то? Билет хотя бы взял?
Он промолчал, неопределенно покачивая головой в разные стороны.
– И не знаю, возьму ли. Вот думаю, может, потом как-нибудь.
– И потом то же самое будет. Каждый день так ездят.
Леня разговаривал хмуро, без улыбки, пристально заглядывая Виктору под вязаную шапочку, которую тот натянул низко на лоб. Впрочем, уже давно Виктору не встречались веселые, улыбчивые по-голливудски люди, и насупленность Леонида казалась естественной. Сам-то, наверное, еще хуже, кстати, в зеркало гляделся только во время бритья, но ни разу не обращал внимания на мимику, на отражение внутреннего состояния, сосредоточиваясь на процессе. Кто знает, что можно прочесть на нем и, если судить за выражение лица, то многим не стоит выходить на улицу. А ведь по выражению лица в том числе и делают выборку на улицах, на пунктах, там, где создается дополнительное искусственное напряжение и приходится сепарировать большую массу людей.
Он пошел за сутулой спиной к одной из касс возле платформ, где стояли автобусы, а тех, которые отъезжали на разворот, тут же замещали другие, с трафаретами на лобовых стеклах. Леня прошел мимо змейки и постучал в закрытое окно, не обращая внимания на очередь, но та как-то инертно отреагировала, дружно отвернувшись, чтобы скрыть самоунижение и одновременно стыд, а может быть зная, что этот человек уже был здесь и все его видели, имеет право на такое вторжение или просто отошел за кофе и успел, а и правда, Леонид кивнул кому-то из передних в очереди, демонстрируя собственное наличие, наклонился в кассу и зашептал короткими фразами. Виктор уныло стоял в стороне, словно стыдясь своей причастности к происходящей дерзости, все же уставившись взглядом в табличку с номером над окошком.
– На, держи, – Леня вручил Виктору чек с номером рейса и местом.
Нет, не отстанет, теперь не отстанет. Ну что ж, ладно, потом что-нибудь обязательно нужно придумать, время еще есть. Главное, держать себя в руках, потому что
«Скажи, куда ты пропал тогда?» – спросил Леонид. Он помнил. Сразу, как только увидел его, вспомнил. Это с ним он «грузился» «тогда» в вагон поезда, нагло поданного на первый путь для новобранцев, кишащих на перроне кучками, внутри которых развивались глубокие социальные отношения, после того как они встретились, после того как он получил звонок от Леонида о некотором деле, которое нельзя по телефону ввиду особой важности и секретности. Секретность была настолько высокой, что они встретились у Лени дома, плотно выпили, в качестве аперитива поговорили о том-о сем, и Виктор обратил внимание на правильно поставленные ударения в междометиях, зависающих над пропастью на одном звуке в ожидании спасительного ответа, но Виктор неопределенно лавировал, не подставляя плеча под падежные окончания, не желая выдавать себя, пока наконец Леня не устал и не понял сам, что утоптанная колея их разговора уже начинает поднимать душную пыль, и спросил его прямо в глаза, с визгом скрежетнув раскосыми зубами на вираже после закушенного с тарелки: Поедешь в Киев? Ничего лишнего не было в вопросе, и это подкупало. Если бы Леня тогда нажал на шахтерскую солидарность, это не сработало бы, ибо хорошо знал, что он давно уже не работал в шахте и мало что могло повлечь его за прошлым сообществом, – а возможно просто не сообразил, и всё, как, очень вероятно, расчетливо притормозил. Да, сказал тогда, понимая, что это донецкая поездка и на какой стороне стадиона будет стоять эшелон болельщиков, словно это был тот финальный матч, в котором проиграл «Шахтер», а их, привезенных для поддержки, держали на подъездных путях, а к стадиону и обратно везли автобусом, с осторожностью, чтобы не быть атакованными киевскими фанами. Это будет хорошо оплачено, сказал Леонид, не дожидаясь вопроса, но предвидя. Виктор удивился про себя – как же это он не только не спросил, но даже не подумал о такой важной детали, которая тонко подчеркивала личное отношение к делу. Он не хотел затевать игру с кумом, не видя в этом смысла. Было азартно. Запершило в горле от застрявшего комочка, но на тарелке еще лежала закуска в виде колбаски, сыра, нарезанных тонкими ломтиками вдоль просторного широкого фарфора, подтаявшие дольки лимона искрились в соку под сладкими кристалликами, да и в бутылке еще оставалось – он смахнул с горла пыль холодной густой горчинкой с оттенком сивушных эфиров, выдерживая паузу, – а твоя роль в этом действии? Должен собрать группу, уже есть около дюжины дюжих мужиков, я не настаиваю, как хочешь, но, если хочешь… Виктор не хотел. Когда? – спросил он. Завтра. Завтра он долго не мог договориться с женой, которая наотрез была против, но, поговорив по телефону с кумой, выслушала ее доводы, по-женски нехотя уступила. «Будь на связи и никуда не лезь», – только сказала она, крестя и целуя в лоб. Он ответил чмоком в нос, который оказался ближе всего остального, даже не пытаясь подвернуть шею, чтобы дотянуться до губ.
С Леонидом и другими они встретились на перроне, где упрямо стоял состав, ожидая чего-то, возможно, действа. Действа не было, и статный среднего возраста старшой, с глянцевыми от румянца щеками, сплюснутым от поломанных хрящей почему-то одним ухом, разочарованно крикнул все заходим. Виктора повели в вагон, где он сразу выбрал верхнее место и принялся укладываться, наскоро поздоровавшись. Вагон был плацкартный, то и дело входили и остальные, шумно располагались, заполняя объемы сигаретным и еще без закуски дыханием. Все четыре места теперь были заняты, Леонид оказался через перегородку, но очень скоро вышел и направился к старшому в купе проводников. Внизу как-то быстро вспыхнуло, ему предложили, и он принял, даже присел. Юра, – представился первый, шустрый, видимо, малый, который занимал своим вниманием гораздо больше пространства, чем его физическая субстанция. Забормотали остальные: Доня, Петрович. Юра наливал, небрежно выравнивал уровни, оставляя на палец для волнения и удобства опрокидывания. менделеевка пробудила в нем ораторство и мысли – заговорил о сволоче-начальнике, который подворовывал «упряжки», о продажном профсоюзе, о тех погибших, когда сколько раз говорили о непомерно далеко зависшей бутовой кровлей, но всем было некогда, нужно было гнать план, и уже на наряде начальник участка принял решение вот-вот, завтра в первую смену усилить крепление, а во вторую принудительно сажать, и бригадир умными розовыми щеками затряс, закивал, сдвинул соломенные брови, – а в третью смену оторвался песчаник и отрезанным аккуратно куском пирога ухнул за спинами тысячетонной массой по всей протяженности лавы, снизу до верху, на сто двадцать метров, выпуская и смешивая до взрывоопасной смеси метан… Доня путался в нотах, вторил невпопад, то не поспевая, то забегая вперед, быстро оседая на своем месте, Петрович почти молчал. Скрипели какие-то фразы и колкие взгляды пересекались в центре между полками, перепрыгивая через бицепсы и трицепсы, сквозя сквозь хрящики ушных ракушек. Откуда? – спросил вдруг Юра, – спортсмен, или как? Или спортсмен, – ответил Доня. Было дело до армии. Потом со старлеем, – он ткнул кулаком в воздух, выводя локоть вперед, задевая оконное стекло, и было слышно, как оно гулко вздрогнуло. – Ну и полгода дисбата. Доня зевнул и продолжил о своем, не обращая внимания на смену темы. Наконец, Юра раздвинул воздух и пошел в сторону тамбура, увлекая за собой тесноту. Доня вымученно покачал головой и прикрыл подбородком кадык, осторожно опустив веки. Петрович уже стелился. Виктор потянулся вверх, подсунул под подушку аксессуар с документами и немногими деньгами, вытянулся во весь рост, успел отгородиться закрытыми зрачками – снова вспыхнуло быстро и закусилось мягко внизу, забормотало и закачалось вместе с вагоном, отстукивая колыбельный ритм. В купе не курить, в туалете не гадить, – громко включился репродуктор над головой и смолк щелчком, на мгновение введя тех, кто слушал, в ступор. Но слушали не все. На работе о быте, а в быту о работе, – вспомнилось из давнего своего прошлого, невпопад под гул на первом этаже, непонятный и чужой. Но после которой вспышки, уже без него, колыбельная плавно перешла во второй куплет и под равномерный стук поплыла в ночь, освобождая сознание…
Старшой крикнул подъем, люди вяло зашевелились, потянулись к газировке и пиву, и он снова увидел Леонида, когда поезд остановился на вокзале. Соблюдать конспирацию было некогда, чувствовалась бравая уверенность в силе, демонстративно пренебрежительная и провокационная одновременно, никто не смел препятствовать, и они вместе, уже в группе, по-видимому сформированной Леней, отправились рыхлой колонной к автобусам. Поехали. На улицах было обыденно скучно, ничего не предвещало цунами, на какое-то мгновение Виктор подумал, а стоило ли вообще ехать, возможно, за эту ночь все изменилось настолько кардинально, что всё кончено, – защемило в подреберье, – но перед глазами панораму наложила телевизионная картинка Варфоломеевского фримера, и сомнение легкой бабочкой, опыляя бархатом воздух, растаяло в невидимости. Леня сидел рядом и тоже уставился в окно закрытыми глазами. Укачивало. Это Мариинский парк сказал Старшой если заблудитесь ищите его только не обращайтесь к прохожим а к милицейским патрулям и не ходите по одному а группами со старшими а лучше не ходите никуда без разрешения вообще потому что могут быть провокации и мало ли что еще успеете. Их подвели к двум армейским палаткам, выцветшим до грязно-серого, натянутым на деревянные щитовые каркасы. Вокруг, на территории парка, казалось, было много людей, возможно, больше тысячи. Виктор поискал глазами трубу над палаткой, и воображаемый запах горячего металла и пересушенных портянок потянулся изнутри, из прошлого, смешиваясь с хромовым сапожным. Трубы не было, и внутри печки не было тоже, ни портянок, ни хромовых сапог, но нары стояли и даже были застланы матрацами. Эфирный запах из прошлого исчез, пахло холодной пустотой и опилками. Между палатками стояла полевая кухня. Виктор сглотнул слюну и напрягся от холода. Леня отошел к кому-то из знакомых в группе. Старшой пропал. Юра со товарищи пропал тоже. Никто не знал, что делать, и группы начали бродить по территории парка. Издалека раздался звук в громкоговорителе, но слов не было слышно. Через какое-то время зазвучала музыка, складывалась в аккорды. Наша белик жжет, – сказали рядом, – пошли посмотрим. Она с молодыми спит, бля… Да нет, вон повалила. Виктор пошел наугад. За деревьями парка спецназ плел косичку из линий Мажино, Маннергейма и Сталина, с вкраплениями снежно-седой змейки Энкеля, каски и щиты поблескивали на тусклом зимнем луче, то и дело менявшем точку попадания, нашивки на спинах подкупали невероятной магической силой, некоторые, без знаков отличия в безликой униформе держали в руках винтовки с прицелами, отодвинувшись вглубь рядов, – держали вертикально, упершись прикладами о землю, словно крестьянин после тяжкого покоса, остановившийся на передых, чтобы поправить инструмент. Но основной рабочий инструмент все же был дубинка. Сидели и стояли спинами и на него не обращали внимания, а ведь расстояние было небольшим. Обыденность рисовалась в их позах. Охраняют, – подумалось. Свои. Кто свои – он не успел расставить акценты вопрошающему, пренебрежительно отодвинул того локтем мысли и оставил без ответа, мгновенно переключил тумблер, ибо старшой уже звал на митинг. Все стали подтягиваться к эпицентру. Здесь толпа размножилась и вытянулась. Произошла встреча на Эльбе с другими регионами и столичными районами. Сейчас журналисты приедут, давайте-ка поближе, призывал кто-то с дощатого эшафота, огражденного кулисами из синего полотнища. Идейный тамада быстро сбежал вниз, блеснув яркой светоотражающей надписью на спине, и было слышно, как загрохотали доски под кожаными ботинками. Но идейных наставлений не давал, приберегая интригу на десерт для тех, кто останется, для посвященных, – чувствовалось напряжение момента, нечто таинственное, величавое, чего недоговаривали, как пытливые следователи в поставленных вопросах театра пантомимы, прячась под черным экраном, одетые во все черное, и только ручки белесым почерком выводили короткие смыслы на воздушной поверхности под осторожными струйками софитов. Журналисты и камеры уже выдергивали кадры истории из толпы для вставок, сканировали объективами по головам и стягам, по трафаретам с названиями городов и предприятий. Попадавшие в камеру улыбались и качали шарами и вымпелами победителей марафона, некоторые вытягивали вперед шеи, чтобы подольше оставаться в кадре. Было тесно и уже не холодно, но хотелось есть. Переминались с ноги на ногу. Виктор вспомнил. Это надолго? – спросил он у Леонида. Не знаю. Я тоже есть хочу, не завтракали еще. Женщины тут есть? Леня повернулся к нему лицом и выдохнул табачным перегаром. Женщины были. Их было много. Стояли с плакатами, сонно ждали вместе со всеми там, куда не доставали камеры. Нет, не эти – другие. А что?! Согреться! – он пожал плечами. Но Леня сохранял суровость. Водкой согреешься. Душа загрустила. Тусклое солнце все еще пряталось за декорациями домов, покалывало в щеки. Наверное, пора, решил он. Отошел, достал телефон. В записной книжке номеров начал листать, пытаясь вспомнить. Наконец остановился, оглянулся по сторонам, отошел еще за спины, вдоль стены здания, в поисках гастрономии. Длинные гудки прервались на излете, не пробившись к цели. Вернулся в дисциплинированные ряды. На эшафот уже взгромоздился Первый среди прочих, рокоча и подхрипывая, принялся вещать в массы, развенчивая противника со стоицизмом греческого мудреца. За спиной трепетала шелковая ткань обивки. Аполлоном Дельфийским обнажил свитерную фигуру под сереньким камвольно-кашемировом пальтишком, и выставил перед грудью кулачки в жесте. Воздух затрепетал, завибрировал. Ноздри распахнулись возбужденно. Запахло грозой. Ну и придумали! – равенство сексуальных меньшин, – ну не слишком ли? Чего удумали! Разве это демократично? Разве это по-человечески? Неужели с этого начиналось человечество? Что это такое?! Еще давайте больных церебральным параличем приравняем и выровняем, а с ними солнечных людей и ампутированных на левую ногу. Это что ж, они равны нам, грешным? – нет, нет и нет. Нет, не греки мы, Константины и Михаилы, не Сократы – с его мальчиками, да и сам он, мальчиком будучи, хоть и без особого спрошения, а после Платон предатель, да и вся культура их, эпохально изошедшая из красоты и чувственности к своим эдипам, заразила и римское стадо этим баловством, эпикурейским вирусом, чуждым нашему естеству (но что странно, народы не вымерли и даже возмужали до степени храбрости и фатального исполнения законов, хотя и не харапукку, но подчиняясь без недальновидности ослушаться, – подумал, удивляясь и страшась собственной смелости, отодвигаясь мыслью в грозовой туман, убаюканный монотонным звучанием сверху). «Вот и другая родина во главе с Лимонником спешит на помощь», – продолжал метать гальку в толпу. Та послушно подставлялась, считая блинчики испускающими пар зевами. Уж они помогут не дать и сами не дадут! Уж помогут вылечить эту раковую тропическую опухоль! С Олимпа неслась громогласная тирада величавой дорической колонной: нельзя срывать людей с рабочих мест и наносить ущерб заждавшимся поступлений в казну чиновникам, отчего правительственные мужи сидят без работы, ибо нечего делить и умножать, складывать и отнимать, в то время как мы три года вели переговоры с супружеством (взвизгнул, было, подкованными искрами, боднул головушкой, но тут же лихо рванул дальше, цокая и лязгая, потряхивая уздой после спотыкания), и вот наконец договорились. Чего они добиваются? Чего хотят? На что нацелились? Как ни крути, а никакой осел всё равно летать не сможет, даже золотой. Умный должен разобраться в вопросах, которые осел запутывает – а он путает, ой как запутывает нас витиеватыми сладостными речами с медовыми струями по щекам. Так нужны ли нам такие жертвы? Нужны ли нам свободы духа вместо живота своего? Дух испустите во гнусности естества своего, ибо питать его будет нечем. Я давно предупреждал! Это всё случайные встречи. Незачем было на них ездить, сидел бы дома, на пеньках, в обнимку. (Продолжал рыться в тумане, бродя по закоулкам черепной коробки. Нет, не он, не Первый). Первый сканировал взглядом по рядам и все время спрашивал: правильно я говорю? Очевидно, понимал, что сильно не дотягивает. И глаза дрожали слезливо и фатально. Не доверяя самому себе, искал поддержки и находил в зале на бис в нужно расставленных местах, от которых и остальные поддерживаемо колотили воздух. Шарфика на нем не было – не простудился бы, – затревожились, наверное, апологеты. Но подать, накинуть было некому. Зато было видно, как готов на алтарь ради них положить… В литургическом порыве за правое дело и cosu nostru. Первый тем временем говорил правильно, что подтверждалось молчаливым вниманием зала. Сеял глаголами по головам страждущих. Правда, молчание их не было выразительным, и жажда не терзала мучительно, разве только некоторых. Хватит ли на всех от пяти хлебов-то? Наконец, разверзлись мглистые своды – свершилось: амен! – и затихло, качнулось, замерли облака в ожидании, эшафот скрипнул конструкцией половиц и отправил Аполлона вниз, поддерживаемого за руки.
Взмахнули стягами и шарами. Зашумели, согреваясь друг о друга. Но к выходу не пускали – команды не было. Не хватало только мажорного марша в округлых металлических вещальниках, подвешенных на столбах, а так всё соответствовало правдивости детства и юности, суровым наказам обязательной явки под роспись в нужном месте и организационной функции профсоюзов…
Антракт.
В кармане зазвонил телефон, забился истерично в замкнутой теснотище. На эшафоте меняли декорацию, постукивали молотками в половицы, доводя работу до совершенства. Он воспользовался моментом тишины и отвернулся, нырнул подбородком в воротник. Але! Это была Лена, та самая, которая приезжала к нему на Шулявскую. Разве не помнишь? – это Виктор. Не узнала? Ну да, в гостиницу, да, на проспекте Перемоги, мы еще там с тобой… ты не хотела. Удалила из контактов? Я? В Киеве… так, оказией, теперь без командировки, сам по себе. Давай встретимся. Можешь? В трубке замолчало, засопело, а где-то снаружи за микрофоном стоял голосовой шум, когда очень много людей говорят одновременно. Кажется, рядом даже кашлянули, возможно, она или совсем рядом, прислонившись к ее щеке, подслушивая, нет, без ревности, еще чего, но успела чихнуть в сторону, чтобы не оглушить – это уж вряд ли кто-то мог себе позволить другой, подвергая опасности в зоне поражения. Я не против, сказала она погодя, но я сама не могу. Я… если только ты… А в самом деле – давай. Где ты сейчас, я подъеду. – Где?.. Он опешил на мгновение. Через пять минут. Так быстро? Да, вертолет купил по случаю. У кого? Да у него, у самого. Сбрасывает сток. Вот увидишь, когда буду садиться к твоим ногам. Ты что – рядом, что-ли? В Киеве? Бери ближе. Она хрипло кашлем рассмеялась в ответ, коротко и сжато, обрывая самую себя, и он улыбнулся от того ощущения, когда вдруг возникает нечто необычное от сложившегося состояния, заполнившего пространство и время и не позволяющего даже зародиться инородному, пока не ворвется извне и не нарушит весь порядок то самое нечто…
Но тут под эшафотом случился конфуз. Юра, тот самый Юра, вырвавшись из первых рядов, с гордостью и отвагой, наступая на историю пяткой последнего из сапиенсов, вонзая в нее граненый штык отбойного молотка, закричал: «Долой Шляпочника! Первого в презирванты! Даешь майдан!» Что-то поперхнулось вокруг. В партере раздался смех. Галерка растерянно возбудилась: что произошло? Отчего смеются? Это что – обман?! В фойе сказали, что будет драма, а не трагикомедия! Сам герой и автор репризы не унимался и несколько раз успел сорвать овации, однако вскоре стушевался, как только с ним провели политбеседу, все же не строгую и в таком же веселом тоне. «А что не так? – оправдывался он, вращаясь на месте. – Разве не так? Мы сюда для чего приехали? Это же майданчик? Или нет? Или нас обманули? Обманули!?» Он не хотел быть смешным и униженным и защищался как мог, ощетинившись вдруг на всех вокруг него. Видимо, он успел оздоровиться по пути к месту или изнывая от ожидания героических действий, а может быть что-то еще оставалось на утро, но, так или иначе, Юра был на подъеме и жаждал подвигов. Антракт подходил к концу, и нужно было что-то решать с бенефисом в коротком жанре. К счастью для него, нашелся человек из его группы – это был Леонид, он снова начал втолковывать ему тихо на ухо, разлагая молекулы на атомы. Юра сначала стушевался, а затем стыдливо поник. Отчаяние его было так велико, что он порывался уйти, его начали жалеть, но покинуть и нарушить строй самовольно не позволили. Покаяние было налицо. Несколько человек взяли его под руки и, обнявшись в единое целое, сами едва не плача в соучастии, вышли из зала под многочисленные рукоплескания.
Антракт был испорчен. Снова стало скучно.
Пора, отчеканил он кому-то, но никто не слышал. Виктор начал отступление во вне. Леня, удаляясь вместе с эшафотом, внутри огромного, сплотившегося человечества, держал трафарет с надписью «Донецк», гордо расправив усы.
– Ты куда усы дел? – вместо ответа вопросил Виктор.
– Сбрил, – провел по губам Леня. – Мешают.
Раньше не мешали, подумал Виктор.
– А раньше?
– Да ладно, – неопределенно парировал в воздух Леонид.
– Что – Сергей? Работает?
– Нет. Уволился по сокращению.
– И чем занимается? – продолжил Виктор.
– Служит, – сразу коротко срезал Леонид.
Виктор предполагал, хотя и не желал такого ответа, потому что могла возникнуть необходимость прокомментировать, ахнуть и охнуть, восторженно-удивленно вздернуть вверх брови, сконструировать некоторое односложное созвучие, обозначая свое отношение, но возможно, он просто не хотел, и внутри булькнуло и встрепенулось нечто. Не удержался.
– Так он же избегал. И в универе военки у них не было.
– Теперь хочет.
– Убивать? Или умирать?
И зачем сказал?
Леонид мощно затянулся сигаретой, обнажая пепельный стержень. Боднул головой в грудь, но не достал.
– А ты не работаешь? Не монтируешь свои нетленные сюжеты?
– Нечего монтировать. Студия закрылась.
– Ну ничего. Теперь у нас своё телевидение будет.
– Я вида крови не переношу. Сознание могу потерять. Придется выносить на щитах.
Помолчали. Стало холодно вокруг. Провалилось крещение, крестник провалился в ничто. Стоял рядом человек с именем и усами, которых уже не было, и было почти смешно видеть его без усов, музыкально-пышных, с заворотом за верхнюю губу, и смотрел стеклянными глазами, как с картины плохого рисовальщика по контракту, не сумевшего передать выразительность и характер, не сумевшего передать эмоцию в мгновении.
– Так куда ты все-таки тогда исчез? – настала очередь Леонида.
Но он уже подготовился.
– Так вышло.
Двусмысленно, но правдоподобно, без шаблонных заготовок.
– Шер ше ля фе. Давно не виделся. С тех самых пор, как перестал ездить в командировки.
– Так вот зачем ты согласился. Тебе вырваться надо было. А я-то…
А ты хотел предложить работу у нового антрепренера, но не успел. Теперь будешь играть желваками.
– Но все равно, ты-то в накладе не остался? Своё выхватил? Мою долю опять же. Если там собирались платить…
Ведь не всем заплатили, Петровичу, например…
В лице Леонида что-то изменилось. Тень обиды опустилась ситцевой занавесью, одновременно злость дрожжевой шапкой поднялась к кратеру, – обман в ответ на его откровение и искренность, его доверие к куму били по самолюбию и взывали к ответному действию. Он это почувствовал. Подтвердилось. Ничего не было больше, но оставался шлейф прошлого, фантазии на тему, просто фантазии, не имеющие ничего общего с ними и тем, молодым, который «служит», без дативного окончания, изгоняющие звуки в нос в рясе, терпкий сладковатый запах и помахивание, откуда запах и шел, с оттопыренным указательным пальцем, с нырянием в капли летящей жидкости, причем почему-то обязательно в глаз, который невозможно просушить из-за занятости рук и неловкости момента – необходимо ли, можно ли, не смахнется ли кровь на пол, не разотрется ли в руке, которая так и не бросила ни в кого, если в себя только, ведь недаром сказал о самом себе на поминках одноклассника Коси… буду жить вечно… не оттого ли столько шишек наломано и дров навалено, – а позади сопел в усы, выглядывая из-за плеча в беспокойстве отец Леонид (не уронил бы да не захлебнул бы в брызгах), не в пример родительнице, прикорнувшей в стойле упокоенно, пользуясь случаем, пока младенец молчал в крестных руках и повитуха-волонтерша суетливо кружилась вокруг цветного, шитого Григорьевым прямо в самолете перед прыжком стразами атласа, в неистовом помешательстве, пока и тот, посевая и осеняя, не пошел в полуприсядку вокруг зеркального озерца с приговором, выделывая коленца, крестя-покрещивая и отца, и сына, и да пребудете с миром… и во веки веков навек.
Истинно говорю, – сказал. Подул на остывший кофе и осенил себя глотком. Выпил до дна, скомкал пластиковую чашу, но еще до того как выпил, пронесся над ней дух холодный и чужой во плоти без усов а когда тот обмакнул в белые одежды он заметил красный крап который оставила мамка задев пальчиком застежку на сумке во время торопливого доставания и хотя всосала в себя обратно взмахнув предварительно в сердцах удержавшись от скверны только чмокнула губами да видать промокнула незаметно для всех и себя вкупе окропила чистое исчернив красно действо но тот не заметил должно быть махнул не глядя в волнующееся кругами отражение над которым носилась проникшая внутрь светлицы муха ища пристанища глянул строго на повитуху и та погналась махнула веером взвилась длинной юбкой под потолок на метёлке да и отогнала и успокоительно вздохнула спустилась восвояси а тот продолжал устало но муха подлетела уже к лицу и села на жирное пятнышко на лбу нанесенное тотемом упоенная запахом сладкой смерти а тот поморщился раздраженно прежде чем взмахнуть своим уже пучком дабы отогнать окончательно торжествуя In transitu – как могло теперь не быть ничего, если всё это было когда-то? Что должно было произойти, чтобы не было ничего, кроме знобящего холода и пустоты вокруг? Глупо, глупо искать ответа, когда всё настолько банально и было тысячи раз в шулерской истории, которую никому не удавалось объегорить в смелой самонадеянности и вере.
Сейчас он спросит про Юру, про Доню, почему его убил. Наверное, убил, нет, наверняка убил. Сообщили – его группа, если сам не стоял поодаль, не возвращался, застегивая ширинку, пританцовывая. И неизвестно, что могут подумать, где он был всё то время и чем занимался, в каких актах участвовал – драматических ли, трагических. Всё, съездил, – как в черную дыру провалились обрывками мысли, внутри похолодело тоскливо и жалостно. И домой не успею позвонить, а зачем тревожить, ничего ведь всё равно не смогут сделать, хотя в безвестности не менее тревожно и мучительно. Зато останется надежда, и со временем отшлифуется боль и растворится в иных заботах – так всегда бывает и со всеми. Со всеми, но не с ней.
Но Леонид затих, засопел в мистические усы – воздух разлетелся в стороны конденсатом. Выхватил откуда-то изнутри (холодный пистолет приставит под второе снизу ребро, там, где чувствительно-щекотно, вот бы не засмеяться, смеху-то будет, – и поведет прочь…) телефон.
– Я кума встретил, он тоже едет. Мёрзнет, стоит. Один. Вместе поедем. Сопровожу —покажу дорогу.
Повернулся к Виктору.
– Привет от крестника.
Холодно сказал, без выразительности.
– Ему тоже, – кивнул Виктор, возвращая отодвинутое в недействительность.
Хотел еще добавить, но вовремя осадил – не нарывайся, и так более чем достаточно.
Леонид продолжал еще что-то говорить, передал привет, отошел – личное, недолго, потому что люди вокруг и пора отправляться, остальное по возвращении, все дела потом, словно не наговорились до этого.
Успокоилось. Однако, холод остался, пронизывая насквозь.
Сердце начало остывать, сбавило обороты, и он устыдился своего страха за себя, за жену, дочь, которые остались бы одни, без него, но прежде за себя, потому что случилось против собственной воли, вразрез своему пониманию. Сел возле окна, рядом сел холод, плотно прижимаясь локтем, но отодвинуться было некуда, пришлось изворачиваться, чтобы хоть как-то оставалось удобно, сложить руки и обхватить их одна другую, принудительно удерживая.
Он долго, как ему казалось, блуждал между палаток с надписями городов и кучек людей, пока нашел ее возле входных высоких тяжелых дверей с резными ручками, почти не закрывавшихся от постоянного хождения туда-сюда людей со странными лицами – эта странность выражалась в каком-то возбуждении, горящих взглядах, электрическом заряде, витающем вокруг них. Пока он шел, заметил палатку с табличкой «Донецк», покрутил головой, пытаясь найти примету, по которой можно было бы потом найти, никого не было рядом, и он даже заглянул в распахнутые наполовину полы, углами притороченные к углам, внутри было темно и сыро, не топлено, «конечно, никто не стремится остаться внутри», – подумал он, почти забыв цель своих исканий, а всюду были одинаковые предметы окружения, похожие друг на друга люди, которые если и не перемещались, то ничем не выделялись между собой, и в конце концов Виктор оставил эту затею, приняв решение просто спросить или поискать в этом не слишком большом таборе уголок.
Она стояла с растрепанными вне шапки каштановыми волосами, в длинной синей куртке с меховым капюшоном за плечами, с розовеющими от холода и тепла одновременно щеками – и ужасно яркими и оттого еще более возбуждающими веснушками, все такая же прежняя, ни дать ни взять – Джей L Джей, но уже не чужая среди тупых, и хрипловато-перекатный голос, фрикативно сипящий изнутри легким ларингитом, будоражил чувственность, как тогда, летом, когда они познакомились – сначала он увидел ее издали, и по мере приближения очертания ее облика становились все резче, пока она не увидела его, и открыто удивленный взгляд округленных зрачков в сочетании с тонкой широкой улыбкой, уходящей за горизонт лица, обрамленного волнами разметавшихся по плечам почти рыжих волос. Как вас зовут? – спросил он тогда сразу, обескураженный увиденным, едва не перейдя на школьный английский, не веря в случайность, которая по теории вероятности казалась невозможной, и оттого испуганный, представшим перед ним – нет, не идеалом в буквальном смысле, которого, как он понимал всей субъективностью своего начала, быть не могло, но напротив, порочно-девственным, но близким только ему одному, быть может, или очень немногим кроме него, – греховно-девственным желанием, которое как раз можно было обозначить как идеал в определенной категории, присевший на корточки на противоположной стороне красоты. «Елена», – сказала она, продолжая улыбаться и пожав плечами, хотя в глазах продолжали искриться вопросительные полутона. – «Вы меня ни с кем не спутали?» Как могло случиться, что виденное только через средства коммуникации – фотографии, видео – оказалось воочию перед ним, – виденное и источающее даже таким способом феерическую чувственную энергию. Как она могла явиться сюда, в это время – кто подослал ее на встречу с ним, для проверки – клюнет или не клюнет, узнает или нет? – какая сила и зачем? Ну чем не пучеглазый Тим Рот, играющий издали в сизой дымке на своей гитаре-мандолине меж сатиновых берегов с ароматом арабики. «Спутал, но это не важно». «Как так»? «Я здесь в командировке и почти не знаю города», – сказал он, продолжая стоять на дистанции. «Ну и что», – ответила она. Ларингит мягко щекотал слух. Было непонятно, что она имела в виду, говоря ну и что ну и что что в командировке и скоро уедешь скорее всего навсегда от меня даже если вернешься когда-нибудь снова в новую командировку но уже не ко мне а говоря в командировке честно говоришь что женат и вернешься домой а здесь это всего лишь командировка такой зашифрованный код понятный всем нам и мне в том числе и это честно и слишком прямолинейно хотя и завуалировано под командировку но и в прямолинейности скрыта некая искусственная интрига игра намек на флирт чтобы ход за ходом продвигаться вглубь не зная определенно чем всё закончится или ну и что что не знаешь город я-то знаю и покажу ведь мы будем все это время вместе и говорю тебе ну и что в ответ на твое предложение продолжить без обязательств и претензий ровно на столько насколько это будет комфортно обоим а потом ты узнаешь что не следует ничего подозревать и бояться и покажу тебе Вику ей одиннадцать мы вдвоем но это опять ничего не значит кроме того что ей придется одной остаться дома пока я не могу ведь повести тебя к себе а-а-а у тебя номер в гостинице я знаю где это сколько сколько да ладно не всё и не всегда измеряется деньгами разберемся и снова зачесалось у него под ложечкой от ощущения что кто-то наблюдает поведется ли он на очередную приманку и не бросится ли с высоты которой боится но потом она показала фотографию где она с ее отцом который никогда не был ее мужем все вышло как-то само собой и они все реже виделись но она не настаивала и не просила и не стала делать операцию по извлечению (подобно матери своего отца, которую едва не побили камнями за одиночество) принципиально нет не думала и не взвешивала а просто не стала и всё подтверждая своё чужая среди чужих а может быть и еще кое-что такое чего он не мог представить разве только кто-то по своему умозрению мог сказать еще нечто но уж точно не он вычеркивая нет замалёвывая жирными сплошными линиями энциклопедическую характеристику я живу недалеко сказала неопределенно не беспокойся я домой смогу добраться даже если что но даже не случилось тогда и потом они встречались и однажды она пришла с дочерью и он церемонно шел рядом держа в руке маленькую для него теплую ладошку расспрашивая и рассказывая о Золотых воротах историю вполне себе банальную доселе никем не озвученную но услышанную им от одного археолога о том как передовой отряд чингизидов хотел мирно пройти киевскими землями для разведки дальних западных земель однако по неизвестной ныне причине то ли дезинформированные то ли напуганные коварством прежних хазаров то ли по самоуверенности и под влиянием плохого настроения или с медовушного бадуна и не подозревая какая тьма уже гудит ульем на покоренных территориях решили былой удалью положить конец не начавшемуся разлому истории но сами положили к тому начало. Она ничего не знала, да и это почти было с большой натяжкой, и он с недавних пор открывал для себя заново, как в первую встречу, рассказывал о чудесном процессе составления калейдоскопа из отдельных, иногда совсем независимых картинок, расшифровок, по мере нанизывания и склеивания зарождавших сначала сюжет, а после и более сложный смысл, – процесс, которым он увлекся с некоторых времен. Она слушала его внимательно, позируя глазами, и он то и дело натыкался на них мимолетом, спотыкаясь, замолкая, отчего ее глаза меняли содержание и цвет и выражали удивленный вопрос, а когда он продолжал, восстанавливали прежний цвет.
Она наливала из термоса чай, размешивала ложечкой сахар и протягивала подходившим людям. Увидела его из-за плеча огромного мужчины с худым рюкзаком за спиной, похожим на обвислую грудь стареющей, истрепанной жизнью женщины, приподняла подбородок, чтобы лучше разглядеть, и даже улыбнулась бегло, и морщинки снова легли к переносице, вздернулся крупный нос, но мужчина успел уловить движение губ и встрепенулся, рефлекторно забормотал ей в ответ, расправил плечи, очевидно, также уловив некую обвораживающую энергию, не обращая внимания на возникшую сразу очередь.
– Привет, – сказал громко, скрывая некоторое волнение, разряжая неопределенность момента.
Она еще раз улыбнулась, теперь уже открыто, глазами демонстрируя направление своего внимания. Обнажились зубы, открылся небольшой скол переднего справа, аккуратный, не вульгарный, придающий дополнительный шарм ее веснушкам и прищуренным слегка от приподнявшихся щек карим глазам. Но тут же она пришла в себя, повернулась к следующему, завертела ложкой вдоль стенок стакана.
– Подождешь? Я скоро.
Что-то провалилось рядом и вокруг него. Он увидел черную бездну, которая лукаво смотрела на него, хитро щурясь. Ничего не зазвучало внутри, не побежали мурашки под рукавами, да и голос ее, немного осипший на холоде, растворился в шумной вязкой бесконечности, захрипела прокурено на морозе – Ma che freddo fa. Он почти испугался своему спокойствию, как диагнозу вошедшего в комнату доктора, и холод просочился под куртку и ущипнул под ребрами.
Тебе не холодно? – оставалось спросить.
Он кивнул, понимая, отошел в сторону. Люди подходили, брали свои одноразовые стаканчики, шли куда-то группами и по одному. Она взглядом позвала его.
– Чаю хочешь?
Тут только он вспомнил, что ничего еще не ел, сразу булькнуло внутри. Она поняла без слов и налила. Пока он всасывал в себя короткими порциями горячую сладкую жидкость, она успела обслужить еще несколько человек.
– Давно ты здесь? – спросил он, делая паузу.
– Да как всё началось.
Он почти спросил, зачем ей это, что она в этом понимает и понимает ли, чем рискует, если попадет под раздачу, как те дети, которые тоже ничего не понимали, определив это место скорее для свидания, нежели какой-то серьезной политической акции с лозунгами и требованиями, которые, конечно же, были тоже, но с каждым днем занимали все меньше места в авангардной тусовке, где начинались знакомства, скорее всего, они были до смерти напуганы в первые мгновения, пытаясь спастись от безжалостных черных монстров, не знающих пощады. А после первого шока вскипел адреналин, вытесняя боль, чувство унижения и страх.
– Это сугубо личное.
Личное. Это у неё-то личное, подумал. Только здесь некому ее уговаривать быть пышной. Здесь каждый по сугубо личному, кроме, разве, тех, которые просто опешили от такого шквала, а после пришли с неостывшим возмущением.
– Так получилось.
Добавила она.
Конечно, получилось.
Она внимательно посмотрела на него.
– Сколько мы не виделись?
– Больше двух лет. А ты – с кем-нибудь живешь?
Она качнула головой, не меняя выражения лица. Тоже одиночество, дочь не в счет, как та, которая.
– С дочерью.
– Сколько ей сейчас?
– Увидишь. Скоро придет.
– Так сколько ей сейчас?
– Пятнадцать. А ты как сюда попал?
– Это тоже личное.
Здесь у всех личное, подумал.
– Нет, я серьезно.
– Я тоже. Я теперь безработный, могу делать, что хочу.
– Надолго?
Тревога и надежда прозвучали в ее голосе, – так должно было быть по сценарию, – но ничего не было, голос ее доносился издалека, монотонно, устало. Она намеренно не спрашивала о семье, жене – так было деликатнее по отношению к нему, хотя он тогда еще сказал, что женат, что дочь и что… ничего он не сказал больше, полагая, что этого откровения достаточно для честного и открытого общения, чтобы сразу расставить все точки и не давать никому надежд и повода для вопросов. Фрикатив тонул в облаке пара. Она устала, подумал Виктор, впрочем, и не надеясь, поскольку знал, что всё, что было в прошлом, никогда не имело очерченного будущего, кроме очередной встречи и постепенно истощавшихся фантазий.
– Пока всё не закончится, – сказал он.
Пока всё не закончится. Что должно закончиться, чтобы считаться законченным? Какой эпизод? Какой факт должен свершиться? Какой последний человек это закончит или решит родиться?
– Будешь бутерброд? – спросила она и снова пробудила в нем загнанный в чулан рефлекс. Во рту заслюнявило.
Он кивнул вместо ответа.
Она достала из-под столика сверток, развернула, подала ему оба. Руки ее были теплыми, как и раньше, когда она касалась его.
– Я уже ела, – сказала она.
Он хотел не поверить, возразить, отказаться, но уже откусывал, жевал, проглатывал, запивая еще теплым чаем.
Внезапно она изменилась в лице, стала неузнаваема, совсем не та, которую он хотел видеть.
– Что случилось?
Дочь вынырнула из-за его спины, с ходу уткнулась ей в плечо, почти зарыдала, не обращая внимания на Виктора.
– Мама, они его прямо из больницы увезли.
– Подожди. Познакомься. Это Виктор… дядя Витя. Это Вика.
Она была похожа на мать, разве что веснушек было поменьше, да щечки едва очерчивали овал лица. И не было такого голоса – он звучал чисто, без надрыва и трагизма при всей кажущейся драматичной интонации, звучал энергично и однозначно. Даже сквозь теплые одежды очерчивалось юное змеиное и неловкое тело, не попадающее в такт стеснительной азе фриё йя, которая и не замечала мороза вовсе, сосредоточенная на очень важном для нее в данный момент.
– Ну, теперь рассказывай.
– Приехали в больницу к Шурику и увезли в Шевченковский райотдел. Сказали – судить будут. Но за что? Он ведь ничего не сделал, ничего! Даже не сопротивлялся.
– Это ее парень, – сказала Лена. – Встречаются четыре месяца. Той самой ночью они гуляли с друзьями по Крещатику. Пришли сюда. А потом на них напали и стали избивать.
– Шурику руку перебили и трещина в черепе. Он сидеть не может – у него голова кружится и рвота. Сначала избили, а потом забрали. Судить собираются.
– Ну зачем вы туда пошли? – Лена возмутилась, но как-то вяло, демонстративно, сочувствуя и жалея, что такое произошло с ее дочерью. Очевидно, не зная что сказать другое, используя примитивные материнские шаблоны.
– Опять двадцать пять! Сколько раз говорить – там все наши собирались. Ведь ничего уже не было, так просто, мы всегда там тусуемся.
– Дотусовались.
– Мама! Я не за этим пришла.
Он слушал, кивая обеим, внимая обеим и сочувствуя. Сейчас она скажет строго: я предупреждала, говорила лучше дома встречайтесь в кино сходите но не суйтесь в это дело ваше дело учиться вроде как в роду ни у тебя, ни у него никого из этих болтунов нет, а он что-то скажет в поддержку наставительно, сдвинув брови или промолчит, как посторонний.
– Позвонить сразу могла? Я беспокоилась, как-никак.
– Связь отключили. А потом не до того было.
– Тебе всегда не до того.
Но это уже так, вскользь, затихая. Скрытое недоумение скользило по его нутру, и непонимание того, как она оказалась в этом месте, даже если её дочь оказалась вовлечена невольно в трагический эпизод городской жизни, вдруг бросила нехитрое занятие и способ зарабатывания на жизнь, чтобы поить чаем и кормить бутербродами покинувших свои дома людей.
Они еще постояли, вспоминая, разговаривая, успокаивая друг друга, когда в стороне раздались тревожные звуки, крик, шум, и вокруг зашумело, интенсивно задвигалось, из палаток стали выскакивать люди, кто-то руководил ими, и они нахлобучивали на головы шапки, у некоторых появились мотоциклетные шлемы и даже велосипедные ребристые, а у одного молодого парня засверкала красной звездой настоящая, военной поры, каска.
– Прорыв! – раздалось, и ударил набат издалека, пробиваясь из параллельного прошлого, призывая к обороне. Сдвинулось, понеслось, он растерянно соображал сначала, что же делать в данной ситуации, бежать ли со всеми или это необязательно, и уместно ли будет то, что он сделает, причем, что бы ни сделал, даже явно противоположное тому, что не сделает, хоть так, хоть эдак, но случай избавил его от сиюминутного равновесия, зацепив плечом с последующим разворотом, из-за которого пришлось невольно податься вперед и сделать шаг, его почти понесло течением, которому он сначала не сопротивлялся, а потом своим напором стал добавлять энергии и силы. И вот они встали рядами и шеренгами, стенка на стенку, сплотившись перед организованной ратью черных обмундирований и шлемов со сверкающими на солнце прозрачными забралами. Впереди него, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки смотрела на него полудетскими глазами черная бездна, без выразительности, без эмоций, выполняя отшлифованные многодневными тренировками комбинации, справляясь с поставленной задачей. Вытянулась длинным облаком до горизонта, вверх по улице, за ней и за всем вокруг, затолкала воздух, объемность пространства. Так длилось несколько мгновений, когда рядом такая же часть бездны поглотила молодого парня и шумно сомкнулась над ним внутри себя. Глухой вскрик мгновенно погас в черной пучине.
Не страшно, подумалось ему в один момент, совсем не страшно. Внутри стало горячо, душа рвалась наружу из утлой куртки, но пока еще не очень понятно было, зачем это всё, какую несет задачу и цель, кто чего хочет и чем руководствуется, кто руководит, в конце концов, можно ли так: рьяно и напористо-вызывающе бросаться на неприступную бездну, способную на всё и имеющую к тому все полномочия уже одним своим видом. Крик невнятный и бессмысленный резал воздух, врезался в черноту и гас в ней, бездонной и тупой. В какой-то момент стало занимательно, казалось, они затеяли игру в силовое давление – кто кого, и так тискались в коротком танце, шагая вперед-назад. Игра захватила, и спортивный азарт уже проводил мыслительную линию, за которую следовало оттеснить непобедимую армаду с детскими глазами за прозрачным забралом.
Вперед-назад. Вперед-назад. Туда-сюда. Не отступая. Не наступая. Нам надо потолкаться, для картинки, сказал, – но только без камней и палок, ну и без дубинок, конечно. Без фанатизма. Понятно? Давайте, выходите для массовки.
Массовка получалась эффектной.
Сбоку взметнулась вверх тень, справа тоже, и черная бездна, улыбаясь, начала отодвигаться, а крик смыкаться впереди него, разрезая далекий монотонный набат. Он с удивлением почувствовал, как чьи-то руки обхватили его предплечья с двух сторон, как непозволительно грубо и бесцеремонно его ступни оторвали от тверди, а рядом и спереди замолчало. Улыбнулся – очень громко завыли сирены-херувимы, призывая, но не было рядом мачты, за которой спрятаться. Он расслабился, погружаясь в бездействие.
Закапал дождь. И сразу стихло вокруг. Бесшумно, без ударов по телу и одежде, без всего видимого, без слышимого. Просто сверху капнуло на крылышко носа, потом с переносицы потекло и капнуло, замочило подбородок, соскочило в ложбинку между ключицами.
Почему на шлемах и забралах нет капель? У них нет, у черного ничего нет. И асфальт сухой, и ноги у них сухие, и только он намочил, провалившись, не удержавшись на поверхности, не дойдя по суху до неизбежности, не поверив.
А дождь усилился и залил глаз и всю половину лица густой медовой патокой, и тело ослабло и стало невесомым, дрожь судорогой пробежала сквозь него, отбирая силы, ноги не держали и стукнулись пятками о землю, поддерживаемые невидимым.
Осторожнее, сказал голос за кадром, кладите сюда, на чистое. И снова набат ударил больно в уши. Нет, сами, не надо, дайте ножницы и бритву, есть бритва? У кого есть бритва? Да какая!? – любая. Нужно инструментом запасаться. Теперь много понадобится.
– Что случилось? – спросил он, открывая глаза.
– Ты сказал: это предательство. И он тебя ударил.
– Да?
– Так и было. А еще ты говорил, что все беды в мире происходят от праведников.
– А разве нет?
– И что не может человек быть Богом или сыном Бога.
– Мне кажется, что и в самом деле не может. Даже если он сын всего человечества. В этом есть большое противоречие.
– Ты же знаешь – у него дед был коммунистом и попал в плен, его расстреляли из-за предательства сослуживца.
– Свои – предатели?
Но не увидел её лица.
– Ты их так ненавидишь? – спросила она вполоборота, прикладывая кусок ткани ко льду, чтобы положить ему на переносицу.
Ничего, кроме белого неба не было вокруг, только черная цяточка пачкала белую полусферу. Он напрягся и моргнул. Небо исчезло вместе с бельмом, и серая почти просвечивающаяся ткань брезента паутиной колыхнулась от внешнего движения. Голова была закреплена к мягкому обручу, который сковывал движение. Рука тоже не хотела подниматься, но после некоторого усилия потянулась к виску. Мягкая ткань окутала голову. От резкого неосторожного движения напряглись мышцы, полоснули острым под макушкой, в потолок, не выпуская наружу.
Гляди, очнулся.
Улыбается.
Улыбается? Бедненький.
Да что ты, в своем уме? Такое говоришь.
А что? Ты же сама видишь – не от мира сего.
Может, ему приснилось что хорошее-доброе.
Здесь-то? Да откуда оно возьмется – доброе!
А вдруг это уже навсегда? Откуда он? Где же его вещи?
Да там они, с ним. Зачем тебе?
Родным позвонить. Ищут ведь поди. Подготовить надо. А то и не узнает никого. Телефон был у него?
Был. Я ему в куртку завернула, чтобы не выпал.
Спроси его о чем-нибудь. Как зовут. А то как бы анестезии не было. И не узнает никто – куда он подевался.
Ну, коль уж здесь – знают, наверное. Не один сюда пришел, одинешенек.
И что у них там в голове – если ничего не помнят, ни матери, ни жены с дитями.
А может, он не женатый.
Как же, лет сорок с лишним, поди. Кто-то всё одно есть. Да и дети в такие годы – тоже.
Да замолчи ты. Разбухтелась. Смотри – перестал. Просит что-то.
Ну вот, и заговаривается. Врача все же надо. Теперь будет, не он первый, не он последний, не дай Господи. Там еше троих привели, тоже побитые.
Сама ты заговариваешься. Это он пить просит. И не улыбается уже. Пойду, принесу сладенькой водички. Ему теперь глюкоза нужна. А врачи свое уже сделали. Считай, без наркоза восемнадцать швов наложили, только поцарапали немного. Прямо на маковке – цензура теперь будет.
Над его лицом наклонилась фигура, потом голова его стала подниматься, ко рту поднесли стаканчик, но кофе там не было. В горле после глотка стало приятно скользко и холодно.
– Где я? – и не узнал голос. Спросил кто-то снаружи, хриплый, тихий, чужой.
– Лежи, лежи спокойно. Тебе сейчас нельзя резко. Может, попьешь еще?
– Телефон. Мне позвонить надо.
– Я заряжаться включила. Пусть немного зарядится.
Звонит и нервничает, а дочь успокаивает, говоря, он же не один там, а она ну тогда давай позвоним Лёне они вместе там вместе где и все. Все там вместе. А тот в ответ нету его и не знаю где я ему не нянька и так привез и деньги должны заплатить а он не отрабатывает. А потом покажут по новостям, и она еще больше будет переживать, и полное неведение вокруг. И она снова будет звонить и не спать будет, но когда рядом, то всё совсем иначе, шумно и сбежать хочется. Но только не сейчас, как всегда, когда она не рядом, когда что-нибудь происходит.
Резкая боль в голове.
И уже не захотелось подняться, позвонить, чтобы найти ее, чтобы успокоить их, чтобы успокоиться самому, чтобы пожалеть о том, что приехал и пришел сюда, когда можно было оставаться в семейном благоденствии, – всё стало безразличным и ненужным, отсутствующим, и только небытие тихо и безмятежно склонялось над ним, прикрывая веки, и он не находил за что можно было бы зацепиться, чтобы сопротивляться, за какую выбоину или выпуклость ухватиться, чтобы потом оправдаться хотя бы в попытке.
Он все же попробовал приподняться и увидел, что находится на дощатом помосте, на котором настелено одеяло, а у изголовья лежит его куртка, свернутая валиком. Палатка изнутри, в углу армейская буржуйка, и дрова потрескивают, разгораясь, как в тех зимних лагерях и учениях, когда сами заготавливали дрова дневальные и топили до вечера, пока войско выполняло задание. Даже зеркало, под которым на самодельном столике кружка и крем для бритья, и бритвенный станок, а напротив кусочек головы с лицом, в белом на белом. Чья голова, если никого, кроме него, нет больше. Глаза начали заплывать. Пчелы искусали, подумалось, – а кто же та бабочка с детскими глазами?
Тепло тянулось от печки к нему, приятно трогая обоняние смолистым запахом. Но подошвы ног мерзли, он пошевелил пальцами, натягивая невидимое одеяло на ступни, чтобы прикрыть от холода.
И снова сомкнулись глаза, и поплыло мимо разноцветным узором и галлюцинациями в виде снов. Кто-то кормил его с ложки бульоном, нежирным, но зато с ароматным запахом зелени, наполовину горячим, нежным и мягким, как когда-то в детстве во время респиратурки, а может быть чего-то посложнее, когда взрослые грудились вокруг, советуя друг другу горчичники, скипидар (чистейший, с концентрированным запахом и холодящим душу ощущением после растирки), только разве не банки, потому что их не было в доме…
«Зарядное есть? Мне позвонить надо», – сказала Наташа, потянувшись к сумочке и доставая цветастый плоский. «Саша, у тебя есть такой разъем?»
«Сейчас посмотрю, я не очень разбираюсь в этих тонкостях».
«Толстые уже не в моде», – сказал он тогда, прямо глядя ей в глаза. Холодно глядя.
«В моде любые толстосумчатые».
«Тебе уже хватит», – сказала она так же холодно и покосилась на бутылку.
«У меня еще есть. Я принесу», – сказал Саша рьяно и взмахнул дирижерской палочкой. На её трехпалом оконечнике оказался кусочек нарезанной колбасы с сыром в придачу.
«Не надо».
Ее тоненькие пальцы мелькнули в движении сквозь солнечные лучи в окно. Бисквит, где бисквит – ломая? Прозрачных пальцев белизна. Только не май еще. И вина нет. Для контраста. Дайте даме вина!
«Какой бисквит? У меня нет бисквита», – воскликнул Саша. Она только глянула косо, но тоже в недоумении.
«Тоненький», – сказал снова. Сами напросились, подумал, ожидая подвоха от неё.
«Кажется, бредит. То-то смотрю, нарывается на неприятность. Ладно, мы все свои, а так…». Николай проглотил кусок и сжал кулак.
«А я вижу, как все бредят вокруг уже второй месяц».
«Витя, тебе хватит. Саша!»
«А помянуть? Сегодня нельзя отказывать. Он был бы против, тем более, что и сам был не прочь. Саша!»
Понесло смешанным аллюром к трем чертям. Наверное, не стоило в такой час, но само вырвалось, вполне себе трагическая фраза, построенная определенным образом, вдруг выглядит аляповатой и неуместной в эпитетах и падежных окончаниях. Вряд ли церемония повлияла на возникновение такого возбужденного пессимизма, а вот она, Татьяна, вполне могла оставить свой шлейф воспоминаний.
«Ты же знаешь, я медицинский заканчивала. Знаю, как выводить из похмелья». А сама вся тоненькая, приталенная, миниатюрная. «Дюймовочка» – называли ее в первых классах, когда она стояла на уроках физкультуры в самом конце шеренги, незаметная для всех, и даже прыгать через козел или в длину с разбега ее не приглашали, оставляя в углу зала на скамейке, но после как-то само собой забылось, сменились фразеологизмы общения, произошло отчуждение полов, а она всё продолжала оставаться мини-девочкой с такими же мини-округленными формами, а вот характер утвердился горделивый и неподступный, едкий – прямо, как дядюшка Фридрих тонко по-еврейски заметил, слизав с языка у Фрейда, – ненависть полов. У нее сразу ненависть, и без любви. Холод и мерзлость снежной королевы.
«Неужели ты дождешься и этого?» С нею так можно, подумал, она медицинский закончила.
Саша разливал тем временем.
«Ты не дождешься», – сказала она с ударением.
Он и не ждал. Особенно от неё.
И добавила: «Саша, мне домой пора».
«Что, муж ревнивый?» – спросил Саша.
«Нет. Сын без ключей. Потерял свои где-то, а заказать некогда. Всё на маме».
«Гуляет с девчонками, скорее всего». Саша наливал.
«А муж?»
«Мы разошлись через пять лет. Так что я девушка свободная. Но дорогая».
Она улыбнулась открыто. Редкость для нее, он даже не успел уловить движение губ.
«Вот и Кося был занят, а не то я бы его уберегла».
«Даже деньги не всегда спасают».
Это уже Саша.
«Сколько же нас осталось?» – спросил он задумчиво.
«Чуть больше половины, наверное, – ответил Николай. – Теперь Кося ушел. Наташа, что у него было?»
«Саспенс», – выдавил вместо нее Саша.
«Сепсис», – холодно, без эмоций поправила. Медицинский.
«Да. Я и говорю – саспенс».
Саспенс. Сейчас особенно. И надолго теперь. Есть уже примеры из недалекого невозможного.
«Помянем».
Земля пухом. Стелется пухом под ним, под ряженым.
«Жестоко получается. Хорошие люди ни с того ни с сего уходят, а всякая нечисть живет и блаженствует. И зараза никакая их не берет», – сказал Саша мягко.
Выпрямился над тарелкой.
«Тогда я буду жить вечно», – как бы невзначай.
Николай лихо встрепенулся.
«Ты что?!»
Она посмотрела на него понимающе. Возможно, читала или где-то слышала. Возможно, это он из прошлой жизни выудил. Но могла и так – и так достаточно чуткая и медицинская. Это точно о женщинах, это у них как любовь, как любовь самок, убивающих после соития. Или как Рома и Юля. Но не про неё, у неё этого нет, как и он лишен этого, только отстраненно-умозрительно… У неё всё выверено и прагматично, как в бизнесе, – так и в семье. Уж лучше без неё, не приведи…
«Ты, кажется, родился в России?» – уточнил Саша.
«Я родился в Союзе».
«Скоро у всех будет такая возможность», – ввинтил Николай. – «Сегодня мы строим будущее Истории, о котором потомки будут слагать легенды!»
Он подхватил на вилку кружево лимона и патетически воздел вверх, синхронно с той, которая держала наполненную рюмку – Наташа дернулась, отстраняясь.
Николай гордо осмотрел оба прибора, капающий сок и сахарную корочку сверху, перевел взор на прозрачный уровень между пальцев и едва сам не ринулся вверх из-за стола.
Снова нарываясь.
«А ты хотел бы вернуть наше прошлое?» – спросила Наташа.
«Вот уж нет. Как и настоящее».
«…И исправить?» – настаивала она в ожидании желаемого ответа.
«А тут много чего хотел бы. Но увы – невозможно дважды срубить одно дерево».
«А между прочим, – вставил Николай, – между прочим, вчера войска на танках и бэтэрах пытались прорваться к границе, а люди вышли из сел и не пустили. Ложились под гусеницы и голыми руками держали броню. Так командир танка – ирод – гранатами стал бросаться».
«Это которые потом без взрывателя оказались?» – спросил Саша.
«Какая разница!» – обрезал Николай.
«А Ирод – это комплимент или ругательство?» – спросил он. Выглядело, будто он защищает Сашу, попавшего впросак.
Издевка зазвучала в его голосе.
«Что-то ты не по времени радостный», – произнес Николай.
«Да, бессмысленно радостный», – добавил Саша.
«Тревожно радостный», – осторожно молвила Наташа.
«О, нет – это вы бойтесь улыбки татарина, – торжественно продолжил и склонился над тарелкой. – Особенно ты, Коля».
«Нужно покурить».
Она встала из-за стола, взяла пачку сигарет. Снова тонкие пальцы ее элегантно коснулись ля мажором, унося прочь. Умная, поняла и развела нависшую бурю. Только драки не хватало, но он видел лишь заблуждение и не знал, стоит ли силой убежденья пытаться изменить мнение, которое уже перерастало в действие. Для него они все еще были одноклассниками.
Он вышел со всеми. Апрельский воздух резал пространство и мозг, но через несколько мгновений тлетворный запах заструился в его сторону, размножаясь в объеме, вызывая тошноту и рвотный рефлекс.
«Он дом начал строить. Не закончил», – говорила Наташа.
«Сейчас ему и не дали бы».
Он сделал шаг в сторону, прячась от струйки дыма.
«Сейчас только все и начнется, – Николай воспрянул духом и телом. – Теперь никто нам не указ».
«Вам?» – спросил.
«У него, кажется, были проблемы с финансами», – сказал Саша, перебивая.
«Проблемы с деньгами у него были раньше, но, как видите, он успешно с ними справился».
«Витя, ты знаешь, чем он занимался?»
«Сначала квартиры «в черную» продавал, а затем агентство открыл».
«Риэлторское», – уточнила она.
Он пожал плечами.
«Можно и так сказать».
Будто бы не знает слова «риэлтор», но тогда это было совсем другое, особенно, когда он помогал их общему знакомому, но всего более своему товарищу продать квартиру, чтобы переехать в другой город, и никого не мог найти, или цену предлагали мизерную, как он сам говорил, пока по-дружески не выкупил сам, в рассрочку, правда, но вроде бы чуточку дороже, чем называл от имени покупателей, сильно жаловавшихся на ветхость, отдаленность и что-то там еще. А через год цены утроились. Но разве кто знал об этом?
«Зато он не видит всего ужаса, который происходит».
Это Наташа, по-женски жесткая, но все равно правильно акцентированная, почти чуткая. Только холодный поцелуй медсестры. Который не пришлось отведать.
«Где ты видишь ужас? Это просто катастрофа и падение в бездну».
Виктор увидел, как по толстой ветке дерева карабкается кошка, устремляя взгляд на сидящего несколько выше скворца, правда, без особого энтузиазма и надежды на удачу, но все же подчиняясь своей природе.
«Это на тебя похороны подействовали, – сказал Саша. – Ничего не случилось. Город живет, как раньше, работает. Все как раньше. И будет только лучше».
«Ты живешь почти рядом с Косей. Так?»
«Ну, допустим. Жил».
«А мне пришлось пройти через два блок-поста, аки тать, крадучись и содрогаясь от мысли, что с бадуна возьмут потехи ради… Знаешь, что там происходит? Сколько там шприцев лежит прямо под ногами?»
«Давай я тебе пропуск оформлю», – оживленно сказал Николай, впомнив о своей значимости и демонстрируя стремление помочь. Его щеки налились багрянцем.
«Давайте лучше примем по глотку Хеннсли», – сказал с ударением.
«Я сейчас еще принесу. И телефон уже зарядился, наверное», – Саша поднялся. Вышел.
«Он был женат?» – спросила Наташа и махнула головой на дверь.
«Нет, – ответил. – Ни разу не был».
«А ты разве не знаешь?» – многозначительно, но без интонации произнес Николай.
«Что?» – спросила Наташа, поднимая брови.
«Его женщины не интересуют».
«Ну-у, меня они сейчас тоже не интересуют».
Перевел взгляд на рюмку.
«Теперь ему будет несладко. Если не уедет».
Наташа задумалась.
«И он так и живет один?»
«У него что-то было когда-то. Но не сложилось. Видимо, он еще сам тогда не знал».
Наташа покосилась в сторону двери.
«Ему нужно внимание. Это может стать причиной шизофрении».
«То-то он бывает иногда сам не свой», – Николай вытер губы салфеткой.
«Почти как я».
«А ты разве тоже?» – серьезно спросил Николай.
«Еще как! Сейчас особенно», – он взял тон на повышение.
Николай сдвинул брови, передвигая смыслы.
«Ты с ним видишься?» – спросила Наташа, игнорируя самобичевание.
«Не в этом смысле. Но поддерживаем контакт».
Саша вернулся с телефоном и бутылкой. Принялся обтирать.
Наташа встала и вышла с телефоном.
«За нас», – сказал Николай, протягивая рюмку.
«За то, чтобы помнили друг друга», – ответил Саша.
«За тех, кто еще остался из наших».
«Скажи – ты и вправду работаешь на студии?»
«Правда. Жму на кнопки».
«Скоро всё перейдет под единый контроль. Будет полноценная автономия с нашей властью. Это пока неофициальная информация, но верная».
«Значит, я останусь без работы».
«Если это случится, звони. Я смогу помочь. Я тебе скажу: времена наступят нелегкие, придется потерпеть. Но зато потом…».
Николай важно потянулся за сигаретой.
«Помоги Саше. Он со своим огородом точно не вытянет. А у меня профиль другой. Музыкальный».
«Будет нам и музыка, будет и оркестр».
Наташа вернулась, дозвонившись.
«Нас так мало осталось – давайте встретимся через год», – пробурчал Николай, затянувшись.
«Напитков хватит. Мангал у меня тоже есть. Соберемся, хоть на несколько дней», – Саша гостеприимно подал вперед руки к ветвистым вишням и черешням, яблоням и грушам, травянистой лужайке с качающимся гамаком.
«Заляжем за матрацы», – сказал, цитируя. И добавил на всякий случай: – «В обороне».
«Нет. На матрасы без меня», – сказала Наташа покосилась взглядом и сжалась в плечах. Испуг отразился на лице. Ее совсем не стало видно, только оригинальный аромат секси обволок коконом пространство.
Ответить или оставить как есть? Подумал, в порыве изложения смысла, превратно истолкованного из классики, засомневался, что будет уличен в примитивизме субъективного познания, раз и навсегда падет на глазах в плоскую пустынную безжизненность, – и оставил без ответа.
«Я поеду, пожалуй. Поздно уже».
«Я провожу. До остановки». Он сделал к ней шаг, отодвигаясь от Николая.
Она почти отскочила. Взгляд брызнул испугом.
«Я такси заказала».
«Неважно. Сейчас неспокойно».
«Я тебя боюсь».
«Не того боишься, Наташа».
«Не того». Снова повторил он.
Она задержала взгляд, стараясь прочесть нечто в его глазах, – словно стараясь. Так они смотрели в глаза друг друга, а мужчины на них.
«Ты не был таким в классе».
Мы все не были такими. Казалось, что не были, потому что видели мир детскими глазами и не знали, кто мы есть. Вот и Коля не был, гонял в футбол и еще там во что со всеми, и даже тискал девчонок на последней парте, тех, которые уже не могли скрыть эти половые признаки, раннего созревания, тогда как остальные могли продолжать носить свои белые и черные фартушки без выточек, а на уроке играл в «очко» на деньги на каком-нибудь учебнике между сиденьями, пока не стал начальником участка на производстве у главного инвестора, заместителем директора по какой-товой части, в то время когда Кося сначала тоже не был таким, пока он готовился к вступительным экзаменам в универ, а просто виделся иногда с его Таней, которая всё еще как будто желала, хотя уже и не так экзальтированно, впрочем, как и он, и они, удовлетворенные обоюдным юношеским порывом, продолжали играть во взрослую любовь, подпитывая собственные чувства, поддерживая химическую реакцию для будущих ощущений. Знал ли кто в классе об этой комбинации? – нет, пожалуй, ибо многие тайны появлялись на свет уже много позже, когда и альбомы выпускников едва ли возможно было найти в затхлом прошлом.
«Мы с Сашей проводим. И посадим в такси. Как знать, может, это последняя встреча для всех нас. Или не для всех».
Она как будто успокоилась и принялась собираться.
Или ненавижу. Но без любви. Не знаю, что это такое. Пожалуй, точно – из психоанализа, а не… и только про женщин. Он потянулся, приближаясь, потянул носом запах вокруг нее, но никакого бергамота не было, кроме сигарет и духов, почти неслышимых, но и не опасных.
«Мне тоже пора». Дернулся и Николай.
Телефон зарядился.
– Телефон зарядился, – а ты лежи, я тебе подам.
Женщина принесла телефон.
– Что там? – спросил он, прислушиваясь.
– Тяжко, но пока держатся. Но если надавят, снесут всю площадь. Никто не спасется.
Рядом заворочались. Забормотали. Женщина всё никак не уходила, переминалась с ноги на ногу.
– Ты пока без памяти лежал, тебе звонок был.
– Кто? – в виски ударило током.
– Жена. Я же не знала, что ты донецкий, думала – местный, приедет, успокоится.
– Успокоилась?
– Сейчас знаешь, сколько людей пропало и никаких известий? – Как всё началось? Моего сына два дня не было, телефон отключен. Что я пережила! Ты не знаешь.
– Нашелся?
– Явился. Они с друзьями мальчишник устроили. Пили трое суток безвылазно. Но зато цел. А то он у меня задира, натворил бы бед. Уж лучше так – похмелится и придет в себя.
– Я выйду.
– Ты не обижайся, может, не надо было говорить – волноваться теперь будет. Но я ее успокоила…
– Спасибо.
Он попытался встать, но тут же опустился на место. Сил не было, при этом голова оказалась неимоверно тяжелой.
– Проснись.
Он открыл глаза и увидел над собой Лену, которая поддерживала его голову холодными руками. Холод исходил от нее, щеки ярко горели от резкого перепада температур, почти скрывая веснушки. Она заметила его удивление.
– Как ты нашла меня?
– Волонтеры сказали, когда твой телефон заряжался.
Он приподнялся, потягиваясь застывшим телом.
– Мы сейчас поедем ко мне, и ты не выйдешь на улицу, пока не встанешь на ноги.
– Сначала дай мне отдышаться. Я здесь совсем окоченел.
– Конечно.
– А что здесь происходит? Музыка – или это у меня голова гудит. Может, мне остаться?
– Справятся без тебя.
Когда они вышли наружу, уже звучали динамики колонок, мираж восстановил недавнюю картину, и даже голос в микрофоне, отсчитывающий первый разряд чисел, подоспел из одного театра действий в другой, не изменяясь. И уже не музыка, не концерт для массовки – завопил чей-то голос, призывая, осуждая и уничтожая, издалека фигура схожим силуэтом освятила место выступления, и на подиум потянулись персонажи друг за другом. Начали по очереди подходить к микрофону, декламируя в пространство, перехватывая эстафету и передавая великодушно. Запутался один из них в проводах, выдернул чеку из гнезда. Звук провалился. Иконостас осуждающе повернул профили к эпицентру, не зная, как себя демонстрировать в данной ситуации. Но засуетились, щупая на четвереньках вдоль «лапши», и быстро восстановили. Зацокали языком в мягкую поролоновую подушечку, испуская пары истины, посчитали считалку, вздохнули. Высокий, быстро сменивший свою вигонь на спортивную колумбию, просунув предварительно голову в воротник шерстяного свитера с подворотом, перепоясав джинсы ремешком от дяди Левы, притопнув ножкой в лайковых туфельках о пол, чтобы согреть пальцы в тонких носочках, оторвался от иконостаса. Длинный козырек прикрыл очки от сфокусированных софитов. Глянул на себя со стороны. Не так, мешает, нет величественности, привабливости – гламурно и недемократично, вдалеке от народа – скинул, передал кому-то из свиты. Сверкнул плешью, стряхивая бремя, но тут же подхватываемое и фиксируемое лямками на плечах – ни с кем не делимое. Сделал «па» вперед – носочки врозь, коленки вместе – и понеслась! Отрепетировано! Без вмятин в словах и слогах, без выбоин в предложениях. На третью четверть притоп и пауза, можно кашлянуть для правдивости, подтянуть следующий абзац, и жаль, что нет под боком хормейстера – поверил, уж будьте покойны – поверил бы. Но верили не все. И даже пытались охладить пыл пылью, посыпая голову белым пеплом.
Вот оно! Эврида-Эврипида! – воскликнул вроде, но никто не услышал. Все были обращены к иконостасу, с которого все еще вещали, уже не прерываясь на беззвучие. Он развернулся, увлекаемый Леной под руку.
Дозвонилась.
– Всё хорошо, – сказал, прикрывая микрофон, чтобы не было слышно. Но звуки просачивались сквозь щели между пальцами.
– Это с улицы, сейчас везде шумно, – ответил на вопрос. Но жена не унималась.
– Со мной всё в порядке. Не знаю, где кум. Ты слышишь? – это я, значит, со мной всё в порядке, а ты умница все равно. И я вас всех люблю.
Это был последний козырь, но и он не сработал.
«Я уже все знаю. В больнице был? Зашили? Давай, разворачивайся домой. Я в новостях видела. Вот только не поняла – ты там на чьей стороне? Ничего не хочу знать», – сказала с ноткой в голосе, и непонятно было, о чем больше она беспокоилась: о его верности или здоровье. Он соглашался безоговорочно, успевая вставлять двусложные звуки. «Я позвоню, как только буду знать, когда смогу уехать», – отвечал он. «Уезжай, пока не поздно. Уезжай». «Не могу», – зачем-то сказал он. «Иначе я приеду». «Нет. Этого не надо. Не надо. Всё будет хорошо. А тебе нужно быть рядом с детьми». Было не очень убедительно, что-то не то выскакивало в его словах, но он не сумел перебороть в себе нечто, болела голова, и тупая чувственность растеклось по его сознанию.
– Что-то голова разболелась. От напряжения, наверное.
– Тебя сейчас Вика домой отведет.
– Я не спешу. Посижу немного и все пройдет.
– Это тебе кажется. Я тебя все время за руку держу. И потом – что тебе здесь делать. Здесь условия – сам видишь. Теперь раненых будет ещё больше. Если есть возможность – лучше дома. Если будет штурм, всё может случиться… Вику заодно проводишь, и мне спокойней будет. А завтра я приду, куплю чего-нибудь, приготовлю.
Аргумент про Вику сработал. Он согласился. Вика ждала его, кроме сумочки в руках у нее ничего не было.
– Осторожней в дороге, Витя, прошу.
– Что, так плохо?
– Плохо.
– Тогда как же ты?
– Я никуда не полезу и всегда успею уйти.
– Но они не успели.
Он кивнул на Вику.
– Они не знали, что такое будет.
И через мгновение добавила.
– Да и никто не знал.
Голова шумела, пока Вика вела его, а за спиной слышен был бой барабанов, голос в репродукторах и что-то еще невнятное, но тревожно необычное, непривычно новое для слуха. Они шли, и он наслаждался морозным воздухом, глотая легкими, а звуки всё отдалялись и глохли за строениями и поворотами улиц, пока Викина рука не сжала крепко и не дернула его, останавливая, но они были уже слишком близко, и живот молоденькой беременной, бледной и с дрожащими руками уставился в их сторону, пока муж её, постарше, без шапки, которая лежала рядом у его ног, водил рукой по взъерошенной шевелюре, пытаясь заслонить собой болотного цвета вселенский Lanos.
– Ну что остановились, проходим, – сказал Доня, поводя битой и отодвигая в сторону парня, чтобы видеть его и Вику. Юра и двое стояли рядом, но Петровича среди них не было. Наверное, за углом в переулке или в темноте под деревом, где не видно, чем он занимается в холод, хотя даже и видя, чем он занимается, – ну кто скажет слово.
Доня вгляделся из-под фонарного луча.
– Во, наши, – сказал Юра из-за плеча парня, смиренно сделавшего шаг в сторону. – Это наш.
Вика снизу заглянула ему в глаза, пытаясь найти ответ. Но ответа не было. Была бледность, пробивающая сквозь полумрак и сжатые, подрагивающие губы.
– Витёк! – воскликнул он. – Ловкач! Куда пропал?
Разбитое в мозаику лобовое стекло отсвечивало мелкими прожекторами, наложив сеточку на лицо Дони, пробегая по игривой бите. Вмятина на капоте тенью легла на лакированную поверхность.
– Что случилось? – спросил он не своим голосом, и кровь запульсировала в висках. Он заглянул в водительскую дверь – ключи в замке зажигания мертво повисли вместе с брелком защиты.
– Автомайдан, – сказал Юра.
– Мы никакого отношения к автомайдану не имеем, мы ехали домой. Разве вы не видите, что моя жена беременна?
– Заткнись! Прикрытие, – спокойно ответил Доня. Бита нервно дернулась в руке, задрожала конвульсивно. – Небось, привязала подушку к животу – а мы сейчас это проверим.
Времени не оставалось. Но тут затошнило, закружилась голова.
– А что так слабо? – он через силу кивнул на стекло. – Дай-ка.
Он выдернул свою руку из мокрой ладошки Вики, а затем биту из рук Дони. В голове движение остановилось и повеяло ментоловым холодком. С размаха ударил по мозаике. Дробленые фрагменты дождиком зашумели внутрь, оставив канву по периметру вдоль резинового крепления. Парочка отшатнулась.
– А вы садитесь! – повернулся он к ним. Те осторожно втиснулись на пассажирские места.
– И ты садись, сказал он Вике.
Юра начал беспокоиться. Покосился на него.
– Ты что хочешь делать? – спросил и сделал шаг вперед.
– Сожгу к чертям собачьим. Всех. Зажигалка есть?
Полезли в карманы.
Пауза на размышление. Выигранные две-три секунды.
Но ближе оказался Доня, не вникая в произнесенное, а реагируя на действия профессионально. Он тоже сделал движение, закрывая собой Юру. Тогда он ударил. Сильно, в Доню, по телу сбоку, и тут же приготовил короткий замах для Юры. Ничего не возникло в его памяти, ни разбитые головы, ни покалеченные тела, улитками закрученные вокруг себя, покрытые густой вязкой слизью, истекающие ею… Но тот отпрянул от рухнувшего со стоном передовика. Двое прижались к невидимой воздушной стене. И если где-то в темноте и была подмога, то уже не успевала, так как он сидел внутри машины. Одной рукой закрыл дверцу, пока включал зажигание и стартер одним поворотом, нервно снял с ручника и направил автомобиль прямо без разбора, не полагаясь ни на быструю реакцию разбойников, ни стараясь маневром объехать, оставляя сзади себя ошарашенную группу людей, обездвиженного Доню на асфальте рядом с шапкой и запах горелой резины. Машину сильно качнуло, когда заднее колесо переехало через что-то мягкое, и все в машине поняли, через что именно. Вика и парень побледнели, но он не видел, сосредоточившись и мыслями, и взглядом на дороге. Беременной и бледнеть уже было ни к чему – даже на улице ее бледность отсвечивала.
– Куда? – коротко сказал через сто метров, пока улица ещё прямо тянулась в темноту. Все молчали в оцепенении.
– Вика, куда нам?
– Пока прямо, – ответила та, сама вряд ли понимая, что произошло и что они целы. Беременная с мужем молча подл сидели сзади, не зная, как понимать произошедшее.
– А они как же? – спросила Вика.
Он глянул в зеркало.
– Мы выйдем, а вы дальше сами. Как жена?
– Терпимо, – ответила беременная.
Морозный ветер уколами врывался в салон.
– В роддом не надо?
– Обошлось, кажется.
– Не останавливайте никому, особенно гаишникам. Сможешь?
– Постараюсь.
Их остановили. У блок-поста стояла очередь. Автобус свернул к обочине, водитель сначала открыл дверь, и кто-то попытался выйти с раскрытой пачкой и зажигалкой наготове, но тут к ним подбежал с автоматом наперевес.
– Всем вернуться на свои места. – Не сказал, рявкнул жестко, зло. – Водитель, дверь закрой.
На улице, впереди было шумно, кто-то кого-то уговаривал низкой хрипотой, просил, но слов не было слышно, затем смешалось несколько голосов, перешедших в крик, раздался короткий одиночный. Прижимай сильнее к плечу, а то без ключицы останешься, сказал старлей. Но отдача все равно была ощутима, а привыкнуть так и не успел. Хватит, стрельбу сдал. Хватило на два года строевой. Перед присягой обязательный ритуал. На полигоне пыль поднималась с насыпи, куда ушла очередь, мишени то падали, то поднимались под следующую стрельбу. Пять-сорок пять, и мифические легенды о смещенном центре тяжести, из-за которого блуждающее путешествие по телу предполагалось непредсказуемым и фатальным. А комроты предупреждал только о рикошетах и поносе после солдатской столовой, если не помыть руки вовремя перед построением на прием пищи, к которому приступить тоже по команде.
Леня колыхнулся частью тела в проход, но тут же погрузился в кресло, бессмысленно глядя впереди себя, не обращая внимания на шум вокруг. На улице, в стороне от дороги понесли в брезенте, не замечая выпавшей наружу фелони. Земля белым, холодным пухом под фелонью, стелющей узкую дорожку. Мягко скрипнула под солдатскими коркоранами. «Ты иди, договорись о благословении на съемку», – сказал режиссер, артикулируя звуками, продюсер тоже кивнул. Он растерянно задумался, перед часовней, пока фундамент под будущий собор в честь годовалой даты рождества Христова еще только закладывался опалубкой и арматурными шпилями. «У тебя вид представительный. Ну посмотри – кто пойдет? Я?» Идти действительно было некому, в чем и состоял казус ситуации. Ну не Киму же, в конце концов, с его лицом, рожденным от золотой лягушки, хотя он и учился вместе с Шукшиным на одном курсе. К православному-то батюшке. Они тысячу раз правы оба. Перепугает маздой. Но и это не помогло, как не помогла и серебряная цепочка с крестиком на шее. Вы откуда взялись!? – возопил гнусаво из зарослей вокруг губ. Телевизионщики! Чур вас! Показываете всякую пропаганду, Филарета Амвросиевского, раскольника и анафемата превозносите – геть! не видать вам благословения, а то ведь еще какую скверну пасквильную наснимаете, православную единую церковь хулите, и фильмы ваши – о расколе, – перебила фелонь низким тенором, почесывая небритость в виде бороды, но совсем не рыжей, как представлялось ему почему-то, но все же бурой и седоватой слегка, – говорила монотонно, размеренно, в тактах въезжая на горку октавы и, набрав духу, передохнув чревом и легкими, перекинув ноги через высоту, ускорялась вниз без смены регистра, выпуская запах постного борща на кислой капусте и телячьих котлет с чесночной приправой, обмакнутых в яблочную аджику на свежих, разрезанных пополам, сочных помидорках, а после запитых чем кто послал, а он лишь недоуменно смотрел на золотистую вышивку такими же детски наивными бирюзовыми глазами, открывая то и дело рот, словно собираясь перебить, восстановить статус кво, внести ясность – как замирал в гипнотическом трансе, кажется убаюканный, пока не начал постепенно выстраивать конструкцию отношений, и уже заглянул несколько раз через плечо в ожидании того, что вот-вот из створок часовенки выкатят под очередной взмах широкого отворота заскорузлыми инокскими дланями с черным налетом времени кульгавую пушченцию на пересохших спицах с гравировкой и личным факсимиле святого старца, а сзади с зажигалкой перед грудью зажатой длани одной и лукошком раскрашенных пасхальным ажуром меленьких под калибр ствола ядер, нагроможденных горкой, аки у той самой царь-пушки, что в парке у горисполкома, – все это через локоток другой руки, бодренько засеменит тетка Мария, развевая красным подолом об искрящие металлическими набойками на армейских каблуках сапоги; однако пушченцию не катили, не собрались, чтобы после разверзнуться, черные облака под грозовой набат, как и подсохшая нависшая ветвь не пала на камни под ноги, не зачесалось в левом и правом глазу, и ситуация выглядела нелепо, ибо ему и в голову не пришло оправдываться, всерьез принимая колкости упрямого ребенка и отвечая на них либо в подобном стиле, либо логическими аргументами и фактами, краеведческими помыслами о кусочке Донецкой святой земли, научными и философскими выкладками, которые все равно нивелировались бы в значимости до размытого безликого пятна. А изнутри черного проема тянуло прохладой и запахом, и светлячки размыто тлели в амплитудах пред иконостасом. Хотел, было, позвать на помощь просветленного, дабы воздействовать на воображение джокером из рукава, тем более что хуже и быть уже не могло, растерянность заполнила все ячейки сознания, – однако никого рядом не оказалось, сожаление прошло безлико и без кульминации. Пушченцию, тем временем, отливали на заднем дворе. И пока фелонь менторствовала и метала анафемы, изредка по-человечески побрызгивая дисперсами изо рта после акафисто, не дожидаясь, пока выкатят, он ретировался, кинув прощальный наивно-детский взор на грозную пясть, а после и доложил Киму с сожалением, и сам же после исправил ситуацию, позвонив и по телефону получив благословение на съемку пещерий у схимонаха Горловского архиепископа Алипия.
В автобусе молчали, делали вид, будто не видят, как фелонь струится по земле, – хотя по лицам сползал страх и недоумение, – помелом, захватывая легкий снежок на недавно еще вскопанном, не тронутый частыми ногами, которые и здесь по суху, не намокая. А его ноги начинали мерзнуть в истертых ботинках, не находя места для разминки, где не было разгона крови. Беготня вдоль и поперек, сумбур завьюжил и вихрем захватил все вокруг, какофония бессмысленных звуков дробью колотила в стекла и стенки, пронзала насквозь мощью свирепости.
Па-да-ба – табадабада, табадабада; па-да-ба – табадабада, табадабада, па-да-ба-да-а-а, – растянуто и фальшиво напел он в окно, между сидящими рядом с ним. Слух и голосовые связки явно были не в ладах друг с другом. Лицо его озарилось улыбкой, похожей на те, которые свойственны людям нездорового ума, несущих в себе иную субстанцию бытия, да и бытия ли вообще, а Николай все продолжал вещать эпические баллады неоконструктивизма и Бердяевщины, не касаясь, правда, богокосмичного предшественника, но сталкивая и раздвигая цивилизации, которые планетарно в масштабе разворачивались на глазах за тесным уже столом, усердно копая, сам того не ведая, под сгнившим днищем Гегелева ложа, смахивая со лба капельки пота, но забывая про глубокие залысины, смело отвоевавшие у короткой стрижки плодородную площадь и сомкнувшиеся на макушке, усеянные густыми шариками, поплевывая на мозолистые (с чего бы?) ладони, сгущая и раздвигая брови и углубляя носовые складки, стращая и сокрушая, в то время как Саша всё смотрел в одну точку, и точка эта была налипшая изнутри на стенку бутылки бубочка виноградного зерна, в то время как она двигала зрачками по своим бледно-розовым обезжиренным ладоням с разноцветно накрашенными ногтями на тонких пальцах, универсальных с точки зрения различных манипуляций медицинского и физиологического характера, которого ей было не занимать, и уж скольких она небось исцарапала, сняла не один слой эпидермиса, чтобы дать волю фантазии ума для оправдания, когда дойдет дело и до этого. У меня тост. Давайте выпьем за наших женщин, за тебя, Наташа, за остальных наших, которых нет сейчас рядом. Виват! Стоя! Под звон хрустального стекла! Он заспотыкался на фразах и поднял рюмку, потянулся чокнуться. Да ты и впрямь будешь жить вечно, – сказала она, отстраняясь в страхе. Вот она, благодарность женщины, ну ладно давай о тех детях которых покалечили и сломали в первую ночь наших ваших детях о том что произошло позже и почему что вообще произошло когда быдло превратилось в народ а население осталось быдлом о Бильдерберге где наверное уже прошло собрание акционеров по данному поводу и резолюция скреплена кровавой печатью.
Подумал – сейчас Коля обнажит шашку, и пойдут прахом те малые воспоминания, которыми эти зрелые, морщинистые дядьки и тетки незабвенно подогревают себя, но в том-то и дело, что всё равно возвращаются в свой возраст и ощущения, вступая в конфронтацию с личностью, а возможно, и раздваиваясь в ней, выбирая ту, которая ближе всего к физическому и материальному спокойствию.
А ты хотела рыдать до сорокового дня? Присоединяйся к Тане. Она пробудит в тебе чувственную женщину. Можете даже хлопнуть в ладоши в знак протеста.
Мы с ней слишком разные.
Думаю, да. Хотя я не все знаю.
И зачем ты так о ней? В чем она виновата?
Она лишь как антипод – чувственная и счастливая.
Ты заметил?
Конечно. Несмотря на слезоточивые потоки.
Это плохо?
Это хорошо. Особенно для женщины.
Почему так?
Потому что у мужчины другое счастье, или почти не бывает никогда. У него всё через мясорубку, через битву, иногда смерть. А женщина рисует свое счастье в облаках и ждет его на земле.
Но иногда и находит его.
Иногда. Даже чаще, чем иногда. Потому что у вас оно слишком практичное, хотя и романтическое.
Но ты уж слишком. Потому что сам никогда не любил.
Вот и сказала. Он с любопытством заглянул ей в глаза. Но свет уткнулся через окно в ее затылок, когда она повернулась, и тень вуалью опустилась на ее глаза. Крашеные волосы, а были черные в школе, когда еще не могла краситься. Откуда тебе знать? Впрочем, она права, скорее всего.
Скажи мне, что это такое, и я отвечу. Да что там – отвечу сразу: зачем любить, если все равно кто-то останется страдать.
Это всё-таки был наш одноклассник. Может, давай тогда ещё станцуем?
И она еще хочет сказать, что не с разными знаками отталкиваются? Как бы не так! У тебя такой же, только женский, только без ненависти, потому что и сама не любила никогда, наверное.
Только не это, танцы не мой конек, могу наступить и оттоптать.
Тебе бы всё только топтать, – сказал Саша и хмыкнул.
Ну, тогда поплачь о нем, как о себе, – продолжил.
Что ты сказал?
А то, что плача об умерших, мы плачем о себе, – сказал он сухо. Возможно, так было нужно, и он хотя бы не узнает, что будет со всеми нами и его детьми в том числе вскорости. Как и мы не знаем, что будет со всеми нами. И тогда будем дивиться своей непосредственности и жалеть о многом не сделанном.
А ты фаталист, – задумчиво произнесла она. Нотка жалости потянулась сопливо вслед за звуком. – Ты не любишь жизнь.
Что ж, мне остается только жалеть об этом.
Она откровенно промолчала.
Тут Николай чихнул и надул носом пузырь. Наташа подала ему салфетку.
Возникла пауза.
Возьми левой рукой.
Тот повернулся, отвлекаясь от процедуры. Но схватил левой и прикрылся в пол-лица.
А вы с ним дружили с детства, – добавил Саша.
Я помню, это правда, – поддержала она.
Па-да-ба табадабада, табадабада; па-да-ба табадабада, табадабада, па-да-ба-да-а-а.
Сначала дружили. И даже сидели за одной партой, пока не рассадили к девочкам для соблазна, и короткая юбка не стала обольстительней домашнего пирога со свежей малиной, а на контрольной не пришлось искать шпаргалку под полным, упругим бедром, когда она прошептала ему кокетливо и томно, улыбаясь своей находчивости возьми там ну там же где еще я могу спрятать, под короткой плиссированной юбкой, раскрывающейся подобно японскому вееру, а может, зонту, потому что вверх и всё открывая снизу. Потом она тоже пришла попрощаться и долго плакала у него на плече, но на кладбище не пошла, а он гладил и прижимал ее холодной ладонью, растолстевшую и подурневшую в то же время, но вернувшую своим присутствием к той контрольной, когда он осторожно полез под влажное бедро, чтобы достать, а она приподняла невзначай колено, открывая доступ, но вместо этого обнаружил, что там нет ничего, даже того, что должно было быть, и с ужасом представил, как она может наклониться, не рассчитав степени подъема платья, или резким движением всколыхнет волну, а то и воздушный порыв занырнет под плис, и готова ли она к такому повороту, продумывала его и что решила делать в ответ, как тут же испарина выступила у него на лбу и кровь запульсировала под висками, а она повернулась тогда к нему с легким наклоном головы, улыбаясь, но не насмешливо, и не желанно также, сверкающими глазами. А потом они гуляли после школы, не совсем понимая, что нужно говорить в таких ситуациях, иногда одновременно срываясь в поцелуй, иногда провоцируя один другого, отвечая взаимностью, прижимаясь телами к стене или забору, всё равно темно и никого нет вокруг, он инстинктивно лез рукой к тому месту, где искал щпаргалку и уже оттуда поднимался вверх, туда, где ничего нет, но она уже придумывала новую игру, и всё было на месте, оставалось лишь проникать под упругие шелка, но и этого было достаточно, и так длилось и после выпускного, и даже дольше, а как-то и Косинов узнал про Таню, с которой он ни разу не сидел, потому что был ниже ростом и сидел через одну парту впереди с кем-то еще из девчонок, даже с Наташкой, этой дюймовочкой. Их игра в любовь продолжалась, усиливаясь и приближаясь к заветному действу, но между свиданиями он готовился поступать – какое-то время их встречи потеряли регулярность, хотя и стали более страстными, – когда, наконец, все звезды выстроились, пасьянс сошелся, время и место совпали идеально. И тогда он узнал. Оставалось тешить себя, что он был все-таки первым. Но было ли это осознание утешением? Был ли тогда надрыв, – он уже не помнил.