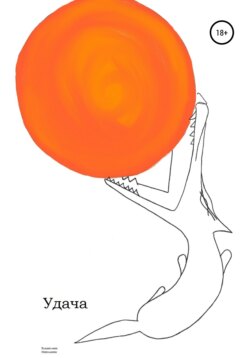Читать книгу Удача - Владислава Николаева - Страница 1
ОглавлениеЖизнь текла как сказка, как текст, она текла мимо, не трогая. Она была ласковой, как бывает в первое десятилетие детства, даже первое десятилетие детства на берегу тёплого моря, как в книгах Александра Грина. Можно прочитать историю и жить дальше, испытывая лишь отблики чужих описанных эмоций, не вдумываясь в них. Ничего не трогало, сознание будто… не цепляло, да, не цепляло – подходящее слово, не цепляло ничто и никто, люди были тени, правда, тени светлые, почти статистические единицы, если бы статистика была уместна по отношению к жизни. Так можно было прожить жизнь, не поняв, что она из себя представляет.
В семнадцать плавное течение изменилось. Обычной виной тому служат беды и потрясения, но нет, не произошло ничего страшного.
Нам обоим было семнадцать, и мы были одни, настолько абсолютно и бесповоротно одни, насколько можно быть лишь на необитаемом острове или в огромной толпе других людей. Наш случай был вторым.
В какой-то момент щёлкнул переключатель, так бывает при встрече с кем-то. Ему начинаешь уделять больше внимания, чем остальным, сосредотачиваешься на нём, смотришь только на него. Он заслуживает внимания.
Если бы не было щелчка переключателя, не понять, что раньше что-то было по-другому. Пожалуй, можно было провести весь отведённый срок в каком-то полусне, в полудрёме. Но мир не стал иным, он был прежним, только теперь он занял положенное ему место – ушёл на фон, на задний план, добавляя основному звуков и оттенков, но не более.
– Мы одни, – сказал он сокровенную очевидную истину. В его волосах играли солнечные зайчики, наискось падающих сквозь решётчатую крону липы лучей. Они были очень светлого русого оттенка. Его глаза были цвета льда, это были глаза хищника – на этом заканчивалось совпадение со стереотипным образом. Кто создал стереотип, сложно сказать. Он был единственным носителем своих свойств. Были те, кто подчинялся ему. То были зловещие существа, их слава бросила тень на его образ. Его сторонились люди и животные. Но люди – тени в его мире, чутью же животных можно верить.
Его старались не называть по имени, его до ужаса боялись и любили те самые зловещие существа, над которым провидение поставило его главным. Их чутье было острее животного.
Я чувствовала исходящую от него опасность, но вложила пальцы в протянутую руку. Он пожал их и не выпустил. С его лица не сходила открытая улыбка.
Я не знала о нём до этого дня. Он не знал обо мне. Фенрир, так звучало его имя, но я чувствовала, что не буду произносить его часто.
– Нас двое, – убедительно сказал он.
Как ни удивительно, я прекрасно понимала, что стоит за его словами. Он предлагал поступить не так, как принято среди людей. Мы увидели друг друга десять минут назад. Щёлкнул переключатель, остальной мир занял роль декорации. Нас всего двое, мы должны держаться вместе.
Прежде не думала, что поступлю так, но я не чувствовала желания возражать. Желание, повисшее между нами, называлось похотью. Он откровенно гладил меня взглядом, но я не чувствовала возникающей в таких случаях обиды и потребности прикрыться. В пришедшей ему идее не было эгоизма, обмана, подлости. Он был чист от этого в той мере, в которой возможно не была я. Его восторг был восторгом мужчины, впервые увидевшего женщину. И ведь так и было, верно?
Нам было по семнадцать, и я впервые увидела мужчину. Когда в мире всего один мужчина и женщина, они не могут игнорировать друг друга. И самое лучшее для них быть вместе. Он предлагал отбросить условности и сразу, без жеманства быть вместе. Условности были не для него.
Он мягко поглаживал мою руку большим пальцем.
Это не могло быть пошло, ведь это было навсегда.
Я стояла в дверях, пока он перестилал постель. Окружающий фон становился белым и пах свежим бельём. Он тихо улыбался. Закончив, он предстал передо мной, улыбка стала шире. Сделав над собой усилие, он вышел, до последнего удерживая меня в поле зрения, как ускользающую иллюзию, которая исчезнет, стоит изменить угол обзора.
Я прикрыла дверь, сдержалась, не стала щёлкать задвижкой. Он вышел, чтобы дать мне время. Он уступал мне, я должна была сделать ответный шаг. Непривычно. Я раздевалась, постоянно думая об открытой двери за спиной. Запретила себе оглядываться, если он поддался искушению и смотрит, лучше мне не знать об этом. Мы должны привыкнуть друг к другу, если я не буду верить ему с самого начала, ничего хорошего нас не ждёт. Тема несчастных, медленно исправляющихся отношений настолько стара, что уже пошла.
Я сложила одежду на стул, руки подрагивали, были какими-то неловкими, легла в постель под одеяло, непривычно было оставаться совсем без одежды, резинка на талии, ощущение ткани на груди становятся второй натурой, в конечном итоге чувствовать себя комфортно без них удаётся лишь в ванной. Я накрылась одеялом, но всё ещё чувствовала себя голой. Дверь оставалась прикрытой. Он услышал, как скрипнула подо мной постель, подождав ещё немного, он вошёл.
Я отвернулась. Не хотела смотреть, как он раздевается, не хотела залиться краской, выдать насколько мне не по себе. И всё же его взгляд вынудил меня коротко обернуться. Он смотрел на меня откровенно и, мне показалось, влюблённо. Где-то под грудью стало горячо. Он уже снял рубашку. Я увидела крепкий, словно позолоченный солнцем торс и не стала отворачиваться. Я чувствовала грудью, животом и бедром ткань пододеяльника. Он не закончил раздеваться, подошёл к изголовью и опустился на колени.
У его губ была красивая форма. Он просунул руку под мои голые лопатки, склонился низко-низко, приник к моим губам. Мы целовались долго, поцелуи соскальзывали на уголки губ, на подбородок. Я не хотела, чтобы он перестал, я боялась того, что будет дальше, я впервые видела мужчину, но он хотел большего. Я бы предпочла, чтобы всё навсегда осталось так. Его губы мягко прижимают мои, его рука приподнимает спину, так что моя мягкая грудь жмётся к его жёсткой через плотное, толстое одеяло.
Я наконец признаю для себя, насколько сильно его желание. Его тело уже на мне, между нами не такое уж толстое одеяло. Я уже тоже прижимаю его к себе – пытаюсь из последних сил оставить всё, как есть. Обе его руки на моей голой спине, левая соскальзывает ниже некуда, указательный палец прижимает ложбинку под поясницей, одновременно он изворачивает голову и отнимает у меня губы, с моих губ срывается сбивчивое «ах», его тело словно сводит спазмом, он мучительно окоченевает на мне, отрывает лицо от шеи и – словно пружину отпустили – быстро зарывается под одеяло на моей груди. Больше между нами нет одеяла, нет одежды. Мне сложно понять, что происходит, не знаю даже, какое время суток.
Когда я очнулась, он ещё не остановился. Его движения замедлились, стали почти убаюкивающими, но он продолжал. Мне ещё больно, но я снова кладу ладони на его широкие лопатки. Он словно ввёл самого себя в транс, его глаза смотрят, но не видят. Моё прикосновение заставляет его очнуться с рычанием, он кусает меня за грудь.
– Не надо! Пожалуйста…
Я даже не рассчитываю, что мой шёпот будет услышан, но он слышит. Разжимает зубы и целует укус. Он снова целует меня в губы, не как прежде. Теперь он чувствует себя вправе получать, что хочет. Он целует жадно, на лице остаётся слюна. Мне хорошо, когда он целует меня.
До восемнадцати лет не было ни одного вечера, чтобы он устал и просто лёг спать. С ним было не так сложно, как я предполагала с самого начала, он умел сдерживать свою природу, по крайней мере, когда считал нужным. Он не требовал ничего, кроме ночей в одной постели. За год я научилась удерживать его от крайностей, и под конец первого года вместе я почти всегда сохраняла сознание, когда он занимался со мной любовью. Я всё ещё не считала нашу связь пошлой. Он не был виноват ни в том, что силён, ни в природе своей силы. Он любил меня. По-настоящему. Пожалуй, он бы любил меня, даже если бы я не была единственной женщиной.
Декорации безостановочно менялись, я не видела смысла привыкать к ним, отвыкла привыкать. В моей жизни были только он и ночи вместе. Мы были гармоничной парой. За год у нас не появилось повода для ссоры. Он не хуже меня умел отличать задний план от переднего. Для него на переднем плане была я, и он интересовался только моим мнением, понимая, что всё остальное вокруг наносное.
Этот год прошёл, каким он был, не разнообразным, но насыщенным, первый год моей действительной жизни. С первым годом вместе мы двое не изменились, и наши времяпрепровождения и привычки превратились во всегда, так что после первого года я просто перестала считать. Время для нас ничего не значило, только как-то ещё до завершения этого года случилось нечто, не вписывающееся в характер моего мужчины.
Или я так думала. Я лежала грудью на подушке, а он целовал каждую выпирающую косточку позвоночника от моей шеи до поясницы. Он казался увлечённым процессом, и я уже отдыхала и начинала погружаться в сон. Он сделал, что хотел, и был доволен. После ему обычно требовалось какое-то время, чтобы окончательно успокоиться. Обычно он целовал меня, часто заканчивая, когда я засыпала.
Мне было спокойно и хорошо, ужас от его присутствия, от моментов, когда он обнажал зубы, особенно, когда кусал, успел поутихнуть. Это вначале вечера я с трудом сдерживала дрожь. Теперь нечего было бояться, он успокоился, его поцелуи были мне приятны, когда я засну, он позаботится обо мне – положит себе под тёплый бок или, если захочет, на себя. Он предпочитал либо видеть мои лицо и грудь, либо чувствовать их, то, как я лежала теперь, его бы не устроило.
Я клевала носом, когда он отправился в обратный путь от поясницы до шеи, весьма медленный путь. Мне трудно было удерживать голову, и я опустила её. Он добрался до уровня груди и остановился, его руки сжались на моих грудях. Такие прикосновения больше не могли заставить меня вздрогнуть, я отучила себя от излишней трепетности. Он прижался к моей спине ухом. Продолжая идти на поводу у сна, я рассеянно подумала, что он может оставить на эту ночь всё, как есть. Мне было не тяжело его держать, я не глядя оправила подушку…
– Почему у нас нет волчат? – он оторвал голову от моей спины.
– Каких волчат? – не просыпаясь, пробормотала я. Я многого не знала о его мире, так что вопрос меня не удивил.
– Наших волчат.
– О чём ты?
– Мы много месяцев вместе, но ты не родила волчат.
Сна ни в одном глазу.
– Ты не хочешь от меня волчат? – в его голосе была искренняя боль.
Я сдержала дрожь.
– Я не думала, что ты хочешь…
Он издал нечеловеческий звук, означавший возмущение. Внутри у меня всё закоченело от ужаса. Уже то, что человеческая речь отказала ему, говорило мне, насколько он задет. Вне постели он легко сохранял контроль над собой.
– У нашей жизни нет лимита, я подумала, у нас есть время… и мы пока можем посвящать его друг другу… думаю, я почувствую, когда должна буду забеременеть…
Кажется, мои слова удовлетворили его.
Позже мне представилась не одна возможность, чтобы убедиться, что это неотъемлемая часть его характера, который он научился не показывать. Для него просто не существовало такой вещи как подсознательное, все мысли были открыты ему и осознавались умом, максимальное время, которое он мог копаться в себе равнялось паре минут – собственные чувства были для него прозрачны, как мысли. К счастью, не имея привычки к самокопанию и мучительному многократному переосмысливанию чужих слов и поступков, он мог принять мои слова за чистую монету.
Я слышала его тихое спокойное дыхание, его голова лежала у меня на спине, он спал. Я лежала до утра, боясь шелохнуться. У него лёгкий сон, он мог проснуться от любого пустяка. Он всегда просыпался, стоило мне шевельнуться или вздохнуть во сне, склонялся над моим лицом, принюхивался, смотрел в упор, а потом целовал или перекладывал на другой бок.
Если бы я шевельнулась сейчас, он бы проснулся, он бы почувствовал, что я не сплю, притворство не спасло бы. Он бы проснулся и заговорил бы о том же. Нечеловеческий звук, вырвавшийся у него, как будто воздух с силой выбили из груди, он о многом сказал мне – он будет возвращаться к теме снова и снова, и ему будет больно каждый раз, когда он будет вынужден задать тот же вопрос. Мои оправдания смогут лишь ненадолго возвратить ему его обычную лёгкость, его тихую радость, его неомрачённую улыбку. До следующей ночи.
Я промучилась до рассвета и так и не смогла уснуть. Тогда я перевернулась. Его глаза сразу распахнулись, опалив меня голубым холодом. Он выжидательно смотрел на меня, он был готов выполнять мои желания, готовность была практически написана на его лице. Он бы всё для меня сделал.
Я избежала его взгляда. Закрыла глаза, прижалась к его губам, прижала его к себе, как будто хотела переломать ему кости, или скорее переломать кости себе.
Он ответил мне. Он всегда отвечал, потому что был открыт мне. Он скрывал лишь то, чего я не хотела знать. Что-то дёрнулось в его груди, я поняла, что он рад, что я разбудила его ради этого. Он готов был вскочить и принести более тёплое одеяло, стакан воды, приготовить завтрак, достать свежую клубнику в середине зимы, выловить золотую рыбку… а вскакивать не надо было, не нужно было никуда идти, я хотела его самого, как он всегда хотел меня… Я чувствовала кожей взволнованное и обрадованное биение его сердца. Ему нравилось, что я сжимаю его до боли, хотя возможно больно было только мне. Он был перевитием мышц, моя плоть была лишь мягкой плотью на тонких и хрупких костях. Когда он сжимал меня чуть сильнее, чем обычно, я сбивалась с дыхания, боялась, что он сломает мне ребро.
Может, он хотел меня как-то поощрить за мою инициативу, но в этот раз он был особенно ласков. Он даже не спросил про волчат.
Затишье не могло быть вечным. Впервые я поняла это, встретив его в семнадцать лет. Покой фонового мира больше был недостижим. Иногда я жалела об этом, иногда нет. Как бы то ни было – однажды мы встретились, и как бы не пошло дальше, только один путь был навсегда закрыт – путь по старому спокойному фоновому миру.
Разве мало было того, что он любит меня?
Какое-то время он проходил пьяный от счастья, но потом опять начал спрашивать про волчат. Был в нём заложен какой-то механизм, требующий продолжения рода. Наибольшая боль звучала в его голосе, когда он спрашивал: «Ты не хочешь волчат от меня?»
Я утратила покой, я больше не дремала, когда он лежал на мне ещё разгорячённый, ещё дышащий сбивчиво. Я чаще привлекала его к себе, чтобы на время забыть о своих тревогах, он всегда охотно отвечал мне.
Я говорила ему, что почувствую, когда придёт время. И он, встречаясь со мной ледяными глазами, немо спрашивал: «Ещё не пора?»
Время шло, и мы едва ли менялись. Я знала, что он должен отправиться в свой мир, где жили те существа, о которых я ничего не хотела знать. Я знала, он не оставит меня одну.
Тогда я забеременела. Он был заботлив раньше, теперь он носил меня на руках. Он согласился со мной, что ребёнку не место в том мире. Он не мог не идти, значит, мы с волчонком должны были остаться. Он расстроился, но радость превзошла печаль, он легко выкинул её из головы, даже смирился с расставанием.
Декорации продолжали меняться. Он нашёл для нас тихое место. Мы с волчонком должны были остаться там, пока он не придёт за нами. Он настоятельно и старательно повторял, что мы никуда не должны уезжать и, тем более, не должны переходить из выбранного им мира в другие. Он боялся потерять нас. В его глазах появилось что-то такое, что страх его был очевиден. Я старалась меньше волноваться.
Волчонок родился ночью в специально устроенном месте, в маленькой комнате с низким потолком, имеющим сходство со сводом пещеры. Рядом со мной был только мой мужчина. Он комкал край простыни и подавленно молчал.
Когда волчонок появился на свет, я с удивлением осознала, что мой мужчина выкинул меня из головы. Он вдруг перестал обращать на меня внимание. Он не задумываясь перекусил пуповину, почти не глядя, и склонился над плачущим ребёнком, как-то трепетно его обнюхивая. Я приподнялась на локтях, ребёнок перестал плакать и смотрел на отца, прижав к туловищу крохотные руки. Обнюхивание заняло много времени, волчонок лежал обнажённый и беспомощный и не смел издать ни звука под пристальным взглядом отца. Наконец, мужчина тряхнул головой и улыбнулся своей женщине. Уже через минуту он лежал рядом и гладил меня по внутренней стороне бедра. Он не понимал, что сейчас это невозможно.
Я попросила его подать мне ребёнка. Он вручил мне его, как тарелку с рагу, а сам уткнулся в мою грудь носом, будто что-то разыскивая. Я отодвинула его, и приложила к груди сына. Всё время, что сын ел, он смотрел на него и мою грудь, словно решая нравится ему происходящее или нет. Ребёнок был тёплый и здоровый. Он не был красным и сморщенным, как я представляла – я специально узнавала, как выглядят младенцы, чтобы понять, в порядке ли мой. Я сразу поняла – в порядке. Моё сердце успокоилось, напротив него к соску жался мой светловолосый волчонок.
Он подмял меня под себя. Я настолько не ожидала такого обращения в день родов, что оттолкнула его грубее, чем следовало. Ледяные глаза вспыхнули обидой и непониманием. Он попробовал лечь на меня снова, я отодвинула его, в качестве компромисса устроила его голову у себя на животе.
– Нельзя.
– Как нельзя? – он был не просто удивлён, он злился.
– Нужно подождать.
Я многого не знала о его мире, он не понимал элементарных для меня вещей. Он не мог спать, предварительно не переспав со мной, как некоторые не способны спать на пустой желудок. День за днём он беспокойно ходил по нашему дому взад-вперёд до глубокой ночи. Ребёнок часто плакал в кроватке, чувствуя его беспокойство. Звук заставлял его морщиться. Я поняла, что для него «волчонок» был интересен не сам по себе, а как доказательство нашей связи и моей преданности. Он не понимал, почему я не разрешаю развлекаться с собой, как раньше. Непонимание перерастало в настоящую злость, и мне становилось страшно, я боялась мужчину, который любил меня.
В очередную ночь он решительно положил руку мне на грудь, его челюсти были стиснуты, глаза чуть прищурены – он словно испытывал меня, собирался показать, что из нас двоих он сильнее.
Я в этом никогда не сомневалась. Волчонок в тонкой пелёнке ютился у меня на руках. Я боялась приводить его на свет, теперь боялась за него, ужасно боялась за него. Я была готова как угодно успокаивать его отца, лишь бы он не списал свои разочарования на него.
– Соскучился? – я отложила волчонка подальше от себя и привлекла к себе своего мужчину.
Он с довольным рычанием устроился на мне, придавливая весом. Раньше я как-то не замечала, насколько он тяжёлый. Он не целовал, а кусал мои губы от жадности. Я с трудом остановила его. Негодование снова взметнуло его брови. Я поцеловала его подбородок:
– Закрой глаза.
Напряжение на его лице разгладилось. Он опустил веки. Я сомкнула пальцы на его затылке и стала целовать сама. Я гладила его, перебирала пальцами короткие волосы, и стоило ему снова начать жадничать, упирала в грудь колено, стараясь делать это игриво, так чтобы ему было приятно. И он увлёкся и забылся. Пальцы сомкнулись под моим коленом, он поглаживал мою ножку и целовал меня.
Он заснул на рассвете. Я устала сверх всякой меры. Я боялась разбудить его и с трудом дотянулась до волчонка рукой. Сын повернулся на моё прикосновение – у него были ледяные глаза отца. Он был спокоен, улыбался, обнажая голые дёсны. Я водила по его щеке кончиком пальца. Вскоре он заснул.
При рождении мы назвали его Инголфр и поняли, что он будет похож на отца, но не во всём. Мне не хотелось, чтобы они были слишком похожи.
Следующим вечером мой мужчина тихо устроился рядом, не угрожая получить своё силой. Я так устала, что начала дремать с волчонком на груди. Уже видя первый сон, я поняла, что нельзя спать с ребёнком на руках, и в ужасе проснулась – волчонок лежал на кровати под своим одеяльцем, но я всё равно ощущала мягкое пощипывание вокруг соска. Я не сразу поняла, что это значит. Через какое-то время меня осенило, и мне стало не по себе. Я не стала вырываться и кричать. Он был спокоен, мне так нужно было, чтобы он оставался спокоен. Поэтому я повела себя так, будто его поведение в порядке вещей. В следующий раз он захотел того же, и я снова поддалась.
Через пару недель я вернулась в форму и уже могла спать с ним, но теперь он хотел и того, и другого, и я не могла возразить, потому что получая и то, и другое, он с большим снисхождением переносил плач волчонка и спокойнее смотрел, как он сосёт молоко.
В день, когда он должен был уйти, он не отпускал меня до самого утра. Он не хотел уходить без меня, но я должна была остаться с волчонком, и он не должен был возненавидеть его за это.
– Мы будем ждать, – я долго поцеловала его. Он посмотрел мне в глаза и тоже поцеловал. За последние дни он вернул своё спокойствие и мог поделиться им со мной. Он улыбнулся одними глазами, молча кивнул.
Перед уходом он склонился над кроваткой, положил обе ладони волчонку на пояс, постоял, глядя ему в глаза, потом прижался губами к светлым волосам. Волчонок вряд ли что-то понимал.
Он ещё раз поцеловал меня и вышел за дверь.
Я надолго запомнила этот поцелуй.
Да, я умышленно рассчитала время, но мне не стало от того легче. Раньше я думала о сохранении лишь собственной жизни, теперь она ушла для меня на второй план. Я влюбилась в своего волчонка. Он уже сам стоял в своей кроватке, держась за перильца. Он был очень похож на отца. Я хотела, чтобы у него был свой ум и свой характер. Я посвятила себя его воспитанию. Мы часто гуляли, сначала я носила его на руках, потом он пошёл сам, я знакомила его с неярким фоновым миром. Я часто разговаривала с ним, рассказывала ему истории, учила, чему могла, читала книги.
Мои тревоги оставили меня, волнения выровнялись, казалось, покой первых семнадцати лет вернулся в мою жизнь. Солнце ласково светило с неба мне и моему ребёнку. Мы бегали босиком по зелёной траве, мы с разбега прыгали в прохладную речную воду, мы собирали осенние рыжие листья и ели тёплые каштаны, гуляя по парку.
Мы гуляли каждый день, в любую погоду, часами. Когда волчонок дорос мне до середины бедра, ему больше всего нравилось заниматься на спортивных площадках, лазать, бегать и кататься на качелях. Только позавтракав с утра, мы отправлялись на какую-нибудь площадку и оставались там до обеда. Придя домой, нагулявшись на свежем воздухе, волчонок голодно набрасывался на еду, а потом засыпал на пару часов.
Я сидела на скамейке и крутила между большим и указательным пальцами яркий осенний листок. Я следила за волчонком, без устали бегающим по лабиринту. Иногда он ловил мой взгляд и махал мне рукой, я улыбалась ему в ответ.
Я думала о своих домашних делах, когда услышала:
– Волчонок!
Голос позвал негромко. Я застыла на своём месте. Я не звала так сына вслух, но он замер с приоткрытыми губами, беззащитно выставив перед собой руки и глядя куда-то мне за спину. Я рывком обернулась – мой мужчина наградил меня своей самой широкой улыбкой. Его ледяные глаза лучились. Я не знала, что ему пришлось пережить за прошедшие годы, и не хотела представлять. Он сел по другую сторону скамейки, запрокинул меня и впился в губы. Я едва не задохнулась. Он не мог ждать, и жаль, что мы с волчонком не успели погулять, как обычно, и он не успел устать.
Мне пришлось запереть сына в его комнате, он был напуган и удивлён, но его отец уже ждал в постели. Я закрыла дверь и зашторила окно. Он провожал мои движения взглядом. Я сбросила одежду. Он глубоко выдохнул. Я легла напротив, поверх одеяла. Он разглядывал меня, чуть улыбаясь. Я приподнялась и поцеловала его первой.
Он не набросился на меня, как когда-то в семнадцать лет. Прежде всего, он обнюхал меня очень придирчиво. Сначала я не придала этому значения, но потом до меня дошла причина – он проверял, верна ли я ему. Я оскорбилась против воли.
Он ткнулся носом в мою шею.
– Пойми, – прошептал он, – я не тебе не верю. Я не верю другим.
Он подмял меня под себя. Я и забыла, какой он тяжёлый, какую уверенность даёт его тёплое жёсткое тело.
– Нет других, – шепнула я, чувствуя себя безвольной куклой. Он так плотно приник ко мне, что мы уже практически были единым целым.
Он сжал своими мою верхнюю губу. У его губ была эталонная форма. Он умел целовать, как мне нравилось. Я чуть приоткрыла глаза, он смотрел на меня. Он упёр лоб в мой лоб:
– Мне нравится в этом убеждаться.
Потом он плотно прижался ртом к моей щеке и стал старательно двигать губами. Он говорил со мной, беззвучно. Я угадывала слова по движению его губ: «Я очень соскучился. Потерпишь?»
Вместо ответа я перевернулась на живот. Он хмыкнул и потёрся лицом о мою спину, потом навалился всем весом. Мы лежали поверх одеяла, но было жарко. Не думала, что соскучусь по этому. Я слушала его дыхание, иногда оно срывалось со звуком, с одним из нечеловечьих тихих, свистящих звуков. Он будто давился от удовольствия, но вместо того, чтобы остановиться и отдышаться, продолжал глотать его большими кусками. Он сжимал пальцы на моём плече, вторая рука приподнимала меня под животом навстречу его движениям. Горячая ладонь опаляла меня, от неё словно пламя разбегалось по крови. Я жалась к нему. Он рвался навстречу мне.
Его не было долго, волчонок едва научился стоять в кроватке, когда он уходил, теперь волчонок дорос мне до середины бедра. Он, не способный засыпать, не переспав со мной, не спал со мной годы, у него не было воли остановиться. Он и так сдерживался.
Когда он удовлетворился, заново взошло солнце, и хоть за запертой дверью плакал голодный волчонок, и моё сердце сжималось от боли, я знала, что мы все должны потерпеть.
Солнце поднялось высоко, так что лучи проникли сквозь узкое окно под потолком, когда он лёг рядом, улыбаясь широкой улыбкой счастливого человека. Он не был человеком.
– Волчата? – он провёл рукой по моему животу.
Я почти не удивилась. Ему требовалось подтверждение моей преданности. Наверное, я виновата. Я не давала ему почувствовать свою любовь, как он давал мне. Если он думал, что кто-то кроме него способен также излучать любовь, то он ошибался.
– В комнате.
Он как будто удивился. Поднялся, абсолютно голый, оглянулся на меня с сомнением и пошёл в комнату. Щелкнул язычок замка. Я гадала, не испугается ли волчонок. Волчонок не особенно испугался. Отец поднял его на руки, поднёс к левому уху животом и распознал причину похожего на поскуливание плача в голоде. Он не стал морщиться, как морщился в первые дни его жизни. Инстинкты, руководящие его существом, подсказали ему, что кормить волчонка его долг. Я вздохнула с облегчением. Проснувшийся инстинкт оказался одним из священных, как инстинкт не делиться мной, как инстинкт спускаться в свой мир через каждые пять лет, как инстинкт убивать в ответ на нападение… я знала далеко не всё, раньше не хотела, а теперь должна была узнать – ради волчонка.
Его лицо приобрело озабоченное выражение. Он пошёл голый на кухню, предлагая волчонку, вытирающему кулачком глаза, коробку за коробкой. Волчонок кивал, он не был придирчив. Я накинула халат и наблюдала от двери, как отец ребёнка варит ребёнку кашу.
Он повзрослел, или, как говорят о волках, заматерел. Он продолжал часто улыбаться. Он становился серьёзным, когда спрашивал о волчатах. Он вёл себя в постели так, будто продумал заранее свои движения и предугадал мои. Он добывал пропитание.
Я пыталась приучить его заботиться о волчонке. Он хорошо усвоил, чем его можно кормить, во что одевать, без труда согласился, что с ним надо гулять, но неожиданно запретил помогать ему мыться и едва переносил, когда вечером я оставалась у маленькой кроватки, чтобы почитать. Он почти бегал по коридору за спиной, положив руки на пояс, и недовольно зыркал в открытую дверь, словно подозревал нас в заговоре.