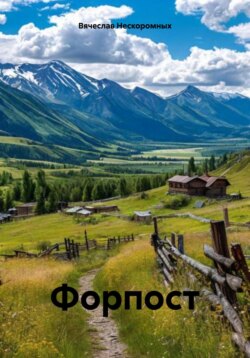Читать книгу Форпост - Вячеслав Васильевич Нескоромных, В. В. Нескоромных - Страница 1
Глава 1
ОглавлениеИстория человеческого протеста
Пролог
Станица Соляной Форпост явилась миру, как военный стан казаков на границе хакасской степи и предгорий Кузнецкого Алатау (по-тюркски Ала-Тоо – пёстрые горы) на берегу реки Белый Июс (по-тюркски Ак-Июс – белая река).
Возник и вырос пост до станицы, обретая жителей, рождённых уже здесь, на новой для России земле.
Выбирали удобное место для поста люди военные, чтобы нести службу охраны и защиты рубежей: у реки высится увал, с которого можно наблюдать ближние склоны убегающей на юг, в сторону ворога, степи, а с севера имеется защита полноводной рекой и обширной заболоченной поймой.
Пойма, покрывалась весной, после ледохода, разлившейся рекой. Здесь по весне обитали и гнездились перелётные птицы, а в июне обычно заболоченная пойма подсыхала и густо зарастала сочными травами, являя простор обильного для жителей Форпоста сенокоса.
В июле выезжали с сенокосилками, волокушами, выходили с косами, грабельками, и с утра до солнцепёка, а затем ближе уже к вечеру пластались казаки, казачки и молодёжь от мала до велика на заготовке духовитой, сочной травы. Траву сушили, ворошили, скирдовали, а осенью, по первым заморозкам по замерзшей уже почве вывозили сено на волокушах в станицу под навесы, скирдовали во дворах. Часть заготовленного сена оставляли на лугу, укрепив стожаром, укрыв умело сенными пластами от дождя, обчесав грабельками, обложив жердями, обвязав верёвками. Стога к зиме укрывали, и уходили в зиму, в стылую пору, уверенные, что прокормят коров и бычков, лошадок, овец, другую живность, а рядышком и сами выживут безбедно.
От увала к реке уклон и выходило, что улицы станицы вдоль реки упрятаны в низине, а сам пост возвышается над открытой во все стороны долиной. За низиной, заливными лугами, дыбились предгорья Кузнецкого Алатау – скалистые отроги, малопроходимые для кочевников, любящих простор, открытые во все стороны света склоны бескрайней степи.
А в тайге степняк терялся, чудилось ему, что за каждым кустом сидит нечисть, а кроны деревьев, заросли не дают перспективы и ясной дороги для бегства в случае опасности, от того и не ходили люди, рождённые на просторах степи в ближние отроги Кузнецких гор.
Как стали зачинать русские казаки остроги-городища на земле вдоль Енисея, встал остро вопрос защиты от искушенных в набегах енисейских кыргызов. Спасения от них не было: каждые два–четыре года приходили конны-пеши, а то сплавлялись по Енисею на лодчонках своих в доспехах кожаных, с бунчуками хвостатыми пестрыми, с пиками, луками и длинными ножами, с ликами хищными, вероломными.
Местные племена, что жили близ Красного Яра, с приходом русских им не перечили, ибо сами страдали от степняков. Случилось так, что местный князек племени аринов (по-тюркски – осы) Татыш доставлял продукты в острог, ища защиты от набегов кыргызов и джунгар. Звали они место, где возник русский острог, – Кызыл Джар, что значило Красный холм. Острог возник на высоком берегу Енисея у стрелки, где река делится на протоку и основное русло. Так на реке образуется остров Татышев, – место пастбищ во времена пребывания аринов. Вот от Красного холма и пошло название крепости, выросшей от Красного Яра до города Красноярска на сибирской реке Енисей. Водный путь Енисея-батюшки пролегает от центра Азии – отрогов гор Саянских от Тывы и Монголии, за Полярный круг до Гиперборейского или Северного Ледовитого океана. Мощь реки одарила силою и народы проживающие на берегах могучей реки.
После опустошительных набегов енисейских кыргызов задумали ставить для защиты от назойливых соседей оборонные посты. Так возникли: в 1707 году Абаканский острог; затем Ачинский пост на берегу реки Чулым в 1710 году; чуток позже в 1714 Соляной Форпост на Белом Июсе; а в 1718 году Саянский стан – самый южный у гор Саянских в Минусинской котловине.
Так складывался тугой казачий пояс вокруг завоёванных земель в Енисейской долине. Крепили отстроенные станы к государству российскому новые края, создавая защиту, продвигая российские законы и православную веру. И стояла перед опорными редутами государства и веры задача: не должно быть места внешнему врагу, где бы он ни вошел в плоть российскую, а если войдет, решится, чтобы получил отпор казацкой лавой, воинской дерзостью, отвагой, шашкой, пикой или нагайкой.
Посты ставили в местах, где пересекались пути-дороги, удобные для наблюдения. Для этого оборудовали огороженные тыном жилые и служебные постройки, конюшни, внутри огорода ставили вышку для наблюдений и шест с дымокурней, чтобы можно было сигнализировать о нападении, пожаре или иной, какой нагрянувшей беде. Здесь за тыном держали лошадей и корм для них, ёмкости для запаса воды или строили колодец, жильё для казаков.
Остроги заселяли казаками годовальщиками, по указу воеводы. На постах несли службу десятка по два–три казаков с семьями. Отбивались казаки от разозлённых поборами степняков-хакасов, которым доставалось и от русских, и монголов княжьего рода Алтын-хана и джунгар, совершавших набеги на хакасские степи. Служили годовальщики на постах от года и более, а порой, отслужив или получив увечье, возвращались в города, но часто оставались проживать у поста. Так вот и рос гарнизон, преобразуясь исподволь в стан, или станицу. Через некоторое время местный народ успокаивался, смиряясь со своим положением, и жили дружно, мешались браками, братались, крестились, не деля себя особо на православных и шаманистов.
Так и возникла станица Соляной Форпост.
В 1823 году было внесено в список прихода Петропавловской церкви в селе Новосёлово десять казацких семей, числом около девяносто душ – на половину мужчин и женщин. Жили казаки в рубленых домах и несли охрану, наблюдали за степью, занимались пашней, скотоводством, жили и тайгой.
Место постановки поста удобное, рыбное, для службы исправное, дороги по степи – во всю её ширь, а если, что, – то можно и сплавиться по реке Белый Июс до просторного Чулыма и так до самого Иртыша добраться. Одно плохо, – землицы плодородной недостаток в степи, – в засолонённой почве земледельцу не разгуляться, а вдоль реки только узкая полоска плодородной пашни давала урожай. Но засеивали и эту полоску чёрной землицы, и занимались в основном выращиванием скота, что характерно для здешних мест.
Жил Форпост своим трудом и крепко стоял на рубеже российского мира, отражал натиск враждебных сил с юга.
*****
Лава кыргызов, числом до сотни, пёрла по степи, пыля. Стук копыт был едва слышен, но уже можно было разглядеть бунчуки над колыхающейся в скачке пёстрой живой массой. За лавой тянулся шлейф пыли, а обоз, что шёл следом поотстал и встал в оборонный круг за дальним холмом у озера, и это была явная примета, что прибывшая орда намерена устроить основательный погром казацкого поста.
Казак на вышке, утомлённый жарой и жаждой, всматривался в несущееся на пост дикое косматое воинство и отдал голосом команду трубачу извещать о тревоге и срочном сборе казаков на посту. Здесь за тыном из брёвен можно было схорониться от стрел и копий и встретить атакующих ответным огнём через вырезанные в стене узкие бойницы. За тыном таилось постоянно несколько казаков и всего-то две пушки-мортиры, наведённые на степь.
Пост разросся за многие годы, и жили казаки у реки в выстроенных домах на своей земле, которую засеивали корнеплодами и рожью. Чтобы собраться на посту нужно было время, но недавние учения показали, что собирались бодро. В противном случае есаул, – командующий над сотней и постом, грозился заставить казаков дневать и ночевать в тесных казармах и отлучить от родных изб, от сердобольных казачек, с которыми службу нести и век коротать было приятнее. Теперь на службе находилось до десятка казаков, а остальные должны были прибыть в спешке. И то дело: скоро двор заполнился возбужденными казаками, многие были верхами и уже готовые вступить в бой. Росло возбуждение, гремели шашки, бряцало оружие, самые нетерпеливые сотрясали копьями, а самые ретивые, засидевшиеся на печи, нервически похохатывали, травили шутки да пошлости, бодря себя и сотоварищей.
Так вот по одной команде атамана мирный человек – казак засидевшийся в избе превращался в жёсткого на решения и дела воина, защитника земли русской.
Лава подошла к посту и загалдела голосами чужими. Серафим – кузнец и главный пушкарь среди казаков, навёл пушки, и когда стали уже видны отчетливо косоглазые диковатые, заросшие редкими бородёнками лица нападавших, есаул скомандовал бить, но так, чтобы вместе, – единым залпом.
– Дружно бьём, вместе – залпом! Так шибче выходит и грохоту поболее будет! – кричал есаул Поскребаев, размахивая для убедительности рукой с зажатой в ней нагайкой. Был он грозен теперь, добродушный отец пятерых ребятишек. При этом было заметно, как возбуждён спокойный сорокалетний есаул, как раскраснелся и зыркал глазищами на казаков. Те уже знали, – когда в таком вот настрое командир, под руку ему не попадайся, – получишь нагайкой вдоль спины.
Пушки рыгнули огнём, – одна как будто басовитее, вторая чуток запоздала, ответила первой шепеляво, и шрапнель понеслась, друг за дружкой вдогонку с воем степного волка. Прыть кыргызская тут же унялась, когда выкосило сразу более десятка наездников в самом центре кыргызской кодлы. Крик сражённых всадников, разнёсся над степью. Закрутились на конях оставшиеся, словно в агонии, оглядывая в панике растерзанные тела соплеменников и опрокинутых, залитых кровью, бьющихся в конвульсиях коней. В отчаянии кинулись конные степняки на крепостицу, стреляя горящими стрелами, забрасывая факела, чтобы сжечь русскую твердыню и взять обгорелых, неприкрытых тыном казаков. Но встретили из ружей казаки атакующих, а собравшиеся внутри поста жены казацкие гасили разгорающийся местами пожар.
Когда стая кыргызов, не добившись своего, стала отходить, теряя воинов под ружейным огнем, снова полыхнуло из пушек вдогонку, и тут же из поста вывалилась группа казаков верхами и с гиканьем полетела по степи, сверкая шашками, ощетинившись длинными пиками. Кыргызы не приняли бой: кинулись во всю прыть наутек. Отставших от основной группы, и тех, кто потерял коней, казаки настигали и выкашивали, словно лозу на войсковых учениях.
Одного кырзыза в богатом защитном уборе настигли трое казаков верхами. Кыргыз потерял коня и крутился на ногах с саблей, отбиваясь от наседавших казаков, крутился волчком, истошно вопил от страха и возбуждения. По одежде было видно, что кыргыз не рядовой, знатный, о чём говорила и шапка богатая и халат, рясно украшенный серебром. Настигнутого бойца можно было прибить пикой или из ружья, но Еремей, казак битый, заслуженный, счёл, что просто убить кыргызского князька будет недостойно. Спустившись с коня, пошёл на степняка с обнажённой шашкой, чтобы сойтись в равную. Рубились кыргыз и Ерёма упорно, каждый показал умение и настырность. Вот Ерёма достал кыргызского воина ударом по руке вскользь, но тот в ответ рубанул казака и зацепил ногу. Стояли друг против друга противники, дышали глубоко, смотрели друг на друга налитыми кровью глазами и истекали кровью. Тут к месту поединка подскочил на своем мерине есаул Поскребаев, и с ходу оценив ситуацию, тяжело выругавшись на казаков, пронзил пикой кыргыза насквозь. Недолго мучился князек кыргызский, скоро затих, перестал сучить ногами в сапожках расшитых цветной кожей.