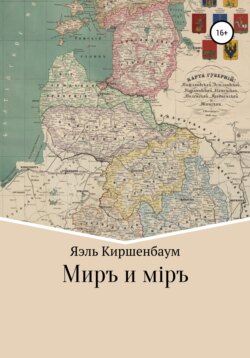Читать книгу Миръ и мiръ - Яэль Киршенбаум - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Мёртвая тишина в отцовской спальне пугала Наташу. Даже само слово мёртвая казалось сейчас пророческим, предвещающим скорую беду, и никак не шло из головы.
Дверь скрипнула, отворилась, выпуская из тёмных недр комнаты доктора. Наташа подняла глаза – заплаканные, покрасневшие, – и взглянула на него.
– Ну, что?
Она переплетала и вновь распрямляла пальцы, кусала пересохшие губы и ждала ответа.
– Готовьтесь, Наталья Кириловна, к худшему, – сказал доктор.
Так говорят о приближающемся дожде или чём-нибудь ещё такого же рода, – сухо и коротко; но ничего подобного он не говорил, а только кивнул на дверь. Дрожащей рукой Наташа протянула ему полуимпериал – харонов обол отдала она Асклепию, – и долго провожала доктора, последнюю её надежду, взглядом.
Дурной сон, начавшийся третьего дня, когда с отцом случился апоплексический удар, уже не рассеется – краски только сгустятся. Как хотела Наташа, чтобы это и вправду было ночным кошмаром… Ей не верилось, что сильный, здоровый Кирила Иванович лежит сейчас недвижимо на кровати, что скоро его тело будут обмывать, обряжать и положат в гроб, что, наконец, она останется совсем одна в этом огромном незнакомом городе.
Вот-вот прокричат в деревне петухи, горничная доложит, что платье готово, и Наташа проснётся не в Смоленске – в Радунишках, откуда ей не нужно будет уезжать.
Она ходила кругами по кабинету, считала шаги и пыталась успокоиться. Два шага – дверь в спальню. Ещё пять – гравюра с кипарисами на стене. Господи, за что такая жестокая шутка? Кто догадался рисовать кипарисы?! Три шага – окно со штофною гардиной. Наташа отвела рукой занавесь: на улице было солнечно и людно, мелькали цветные платья, беззаботные горожане сновали туда-сюда. Снова три – стол с черновиком письма, которому не быть дописанным.
Наташа вновь подошла к окну. Узор на гардине расплывался акварельными пятнами, и она силилась рассмотреть его, – пускай хоть это занятие ненадолго отвлечёт её.
Отворилась дверь – не та, которая всё притягивала Наташин взгляд, а ведущая в просторную гостиную, – и в комнату вошёл мальчик-казачок1.
– Тафты чёрной в лавках нету, – сказал он. – Можа, синяя сгодится?
Чёрной тафты? К чему ей сейчас ткани?.. Наташа непонимающе взглянула на него.
– Захарьич послал, – объяснил мальчик. – Барин, говорит, плох совсем, так купи чем зеркала задёрнуть.
Слёзы обожгли глаза. Как могли они – какие-то казачок и камердинер – вмешиваться в её горе? И так неосторожно трогать, точно грубыми и грязными пальцами, рану на душе?
– Ступай, ступай, – чуть не крикнула Наташа. – Оставь меня!
Не гневным, но жалобным, сквозящим слезами, полным скорбных ноток был её возглас.
Наташа тут же ускорила себя за минутную слабость. Надо держать себя в руках – хотя бы при людях. Они не должны знать, как ей тяжело – всё равно не поймут; а она сама не должна никому показывать этого, ведь слабость постыдна, а уныние греховно.
Казачок Митрашка вышел, пожав плечами. Чуди, мол, – мы-то знаем, что делать! А вот Наташа не знала; она упала в кресло, закрыла лицо руками – что ещё остаётся, когда ничем не поможешь несчастью и когда томительное ожидание конца изнуряет пуще полуденного пекла?
Пожалуй, нужно было смириться со всем. Ведь смогла же она смириться с тем, что пришлось покидать обжитое имение под Гродно, ехать в Оршу, а оттуда – в Смоленск. Правда, ехали все знакомые – кто к родственникам, кто в другое поместье, а кто и в неизвестность, и потому было куда менее страшно: общее несчастье перенести много легче.
Время тянулось медленно. В гостиной часы скорбным колоколом пробили полдень, Наташу приходили звать обедать, – но она лишь отмахнулась. Не заходить в спальню было невыносимо, зайти – боязно: вдруг уже свершилось то самое, неотвратимое, и какая бы то ни было надежда попросту исчезнет, и она то подходила к заветной двери, то убегала прочь.
Дверь в гостиную опять открылась; на этот раз на пороге показался не только казачок, но и отцов камердинер Савелий Захарьич, Наташина горничная и – неужто нужен он здесь? – священник с окладистой бородой.
– Где же преставляющийся? – спросил он, по-южному выговаривая г. Всякую мелкую деталь – вроде заплаты на рукаве казачка – подмечала Наташа.
– Сюда пожалуйте. – Захарьич распахнул дверь в спальню – широко, по старой привычке, появившейся, когда он, молодой лакей, прислуживал на званых обедах.
Хотелось запомнить всё. Зачем? – Наташа не могла ответить, но внимательно следила за тем, как священник вкладывает свечку в ладонь отца, а тот не замечает ничего вокруг. Глядела на изменившееся бледное лицо, на истончившиеся запястья. Вдыхала застоявшийся воздух, в котором уже начинал чувствоваться запах ладана.
Низкий голос священника раздавался гулко, наполнял комнату, и ему, казалось, было тесно. Слов Наташа не разбирала: от духоты и напряжения кружилась голова и в ушах стоял тонкий, точно комариный, звон. Холод поднимался от кончиков пальцев к горлу, пустота волной накрывала Наташу.
Отец дёрнулся, вытянувшись на постели, короткий не то стон, не то вздох слетел с его губ.
– Кончается, – шепнул Захарьич, и тихое слово прозвучало, словно гром.
– Не может быть! – воскликнула Наташа.
Она прекрасно понимала, что Захарьич прав. Только, может, он всё же ошибся? Может, произошло чудо?
– Всё в руце Божией, – бросил священник.
И почему-то это будничное замечание заставило её разрыдаться.
***
Ночью Наташе спалось худо. На сердце было тяжело, и всё не уходил холод – словно глыба льда давила на неё. Наташа лежала в темноте, смотрела в черную бесконечность, и в который раз переживала минувший день. Перед глазами стояло лицо отца – палевое, чуть восковое. Или то была луна, заглядывающая в окно?
«Разве может человек вот так взять – и просто раствориться в небытие? – думала Наташа. – Говорят про иной мир, да кто наверное о нём знает?»
И вдруг ей стало так горько, что слёзы вновь побежали из глаз. Прежней жизни не воротить, а нынешняя… Наташа вздохнула, не докончив мысли. Да и к чему вообще жить, если человека ожидает такой ужасный конец – бездна, о которой не известно решительно ничего?
Сознание путалось: усталость брала своё. Образы перемежались, изменялись, перетекали из одного в другой, пока не стали совсем чудны́ми.
Сначала виделся ей Захарьич, торгующий синей тафтой. Потом он превратился в мальчика-казачка, который служил панихиду по доктору, а потом – в саму Наташу. Большое блюдо – которое странно походило на зеркало – опустилось перед нею, и Наташа увидала грозди сочного винограда. Она ела ягоды, пока снова не превратилась в Захарьича…
Наташа проснулась под утро, когда сероватый свет заполнил комнату. Горячая, мокрая от слёз подушка напоминала о ночных страданиях. Теперь же Наташа была не то что бы спокойна – просто безразлична. Просто лежать, ничего не делать и ни о чём не думать – вот чего ей хотелось.
«Что за сон снился мне? – лениво подумала она. – Какой-то виноград, ещё какие-то глупости…» Возможно, в нём заключалась разгадка, – и Наташа взяла с прикроватного столика книжку Мартына Задеки, старую и зачитанную до дыр.
«Виноград есть – получить руку любимого», – прочла она, найдя наконец нужную страницу.
Ответа она не нашла. Сейчас было не до свадьбы, да и жених остался в Гродненской губернии.
II
– Nathalie, ma chérie2! – говорила Наташе невестка спустя неделю после рокового дня. – Это просто ужасно!
Наташа не отвечала. Она тщилась не думать о смерти отца и вести себя, будто ничего не произошло. Так, верно, будет проще перенести потерю. Только каждый знакомый норовил приехать к ней с визитом – за дюжину дней, что Наташа с отцом провели в Смоленске, знакомств появилось предостаточно, да и многие старые знакомцы тоже приехали сюда, – и сказать какую-нибудь избитую фразу. «Все мы под Богом ходим», «Бог дал – Бог и взял» – все эти слова непрестанно напоминали ей о случившемся.
Тошно было слушать невестку, которая всё не замолкала – как надоедливый надтреснутый колокольчик в ямщицкой повозке.
– Ничто не может быть хуже, вы так не думаете?
– Да-да, конечно, – поспешила согласиться Наташа.
Она смотрела мимо гостьи, на картину, – кажется, изображение Юдифи с головою Олоферна, – и накручивала на палец кончик косы.
– Он не писал к вам?
– Кто?
– Votre frére3, кто же ещё!
Наташа отнюдь не думала о брате, – по меньшей мере, последнее время. Он служил в Ахтырском полку и, должно быть, участвовал в этой войне. Он и прежде редко отправлял им письма, а когда письмо всё же приходило, в конверте обнаруживали даже не осьмушку – одну шестнадцатую бумаги. Теперь же, когда, говорят, почта задерживается, рассчитывать на какие бы то ни было известия и вовсе не приходилось.
Наташа молча качнула головой.
– Ужасно! – повторила невестка, поправляя перья на розовом берете. – Мне он пишет о таких страстях, что я не знаю, что и думать.
Наташа прижала разом похолодевшие ладони к вискам; лицо, и без того бледное, сделалось ещё белее. Ранен? В плену? Убит? Господи, неужели на этом свете никому не суждено прожить долго?
– Что с ним? – Наташа взглянула в лицо свойственнице, и яркий румянец показался ей чересчур уж ярким.
– С ним? – переспросила невестка и улыбнулась. – Да ничего особенного… Слышали вы о русском Сцеволе?
Наташа вздохнула: Сцевола, будь он трижды героем или страдальцем, совершенно не интересовал её. «Притворяться – сущее мучение!» – подумала она, а вслух – должна же хозяйка поддерживать беседу – сказала:
– Как ни странно, нет.
– Помилуйте! Только о нём и говорят!
И она принялась рассказывать о крестьянине, которого взяли в плен французы, заставили присягнуть Бонапарте, а он – «Подумать только!» – отрубил себе руку топором.
Наташу передёрнуло. Действительно, брат писал о невообразимых страстях – а невестка передавала их точно обыкновенный анекдот. Пожалуй, это было похуже отрубленной руки…
– А знаете вы о князьях Новгородских?
– Что-то знакомое.
Наташа впервые слышала эту фамилию, но надеялась избегнуть рассказа о них. Пятнадцать минут, самое меньшее время, отведённое под визит, подходили к концу; и, надеялась Наташа, если гостье будет нечего рассказать, она уедет восвояси.
– Так вот, у них было четыре сына – и всех убили! Право, жалко, что вы не знакомы с ними: приятное семейство, и партия была бы отличная.
В комнату вошёл казачок, прервав слишком затянувшуюся беседу. Не важно, какие принёс он вести – главное, что наконец-то прекратился этот докучливый разговор.
– Вам, барышня, письмо. – Он протянул Наташе поднос с конвертом.
– D’amour4? – спросила невестка, искоса поглядывая на то, как Наташа ломает печать. – Ну, ma bonne amie5, прощайте: не буду вам мешать.
– До встречи, – безучастно ответила Наташа уходящей гостье.
Письмо было от брата, и снова делалось тревожно на душе.
«Июня 10 дня.
Любезные батюшка и сестрица, – писал он. —
Пишу нынче к вам и не знаю, о чём писать. Я мог бы, пожалуй, поведать вам о природе, меня окружающей; она и вправду хороша. Но теперь меня занимают только слухи о происках врагов наших. Недаром, говорят, в прошлом году видали комету, – не к добру! Всё – я говорю о полку – трепещет потревоженным муравейником, и не сегодня-завтра быть походу.
Я не верю, конечно, чтоб он затянулся. Но всё может статься, и потому – прощайте!
Анатоль.
P. S.
Западные рубежи наши – место незащищённое. Уезжайте как можно скорее в Лохматые Горы».
Наташа перечла письмо. Всё в нём было понятно, но каждую строчку – каждую букву – хотелось читать опять и опять. Неровные, пляшущие буквы напоминали ей Анатоля.
Они никогда не были особо дружны с братом, старшим её на шесть лет. Он часто подтрунивал над ней, а она – какой же глупой она была тогда, если не умела ценить спокойного счастья! – обижалась. Но он оставался единственным близким человеком, и только он мог поддержать её – пусть даже не физически, а лишь морально, да и то не самим собою, а образом-воспоминанием.
Смысл письма ускользал от неё. Постскриптум казался ей странным, – вот всё, что поняла Наташа. Лохматые Горы были имением в Московской губернии, и ехать в такую даль она не собиралась: Смоленск довольно защищён, – Наташа видала толстые стены кремля, – с неё хватит путешествий!
Где-то на улице грохнуло.
Наташа подбежала к окну. Ливень, молнии, ветер – разгул стихии ожидала она увидеть, а увидала лазоревое небо, на котором сверкали золочёные маковки собора.
Грохнуло ещё раз – громче и, видимо, ближе. На горизонте взвилась тонкая струйка дыма, показались языки пламени.
Раздался новый удар – совсем рядом; задрожало стекло, в соседней улице занялся огонь. «Бежать», – промелькнуло в голове, но страх сковал тело, и Наташа не могла ступить и шага.
– Барышня, худо дело! – крикнул Захарьич, вбегая в комнату. – Собраться не успеем, француз прёт!
Наташа кивнула.
– Что же вы молчите? Что прикажете делать-то?
– Что делать? – переспросила она, едва осознавая происходящее. Та же пустота – и ужас – что и на прошлой неделе, овладевали ею.
– Да хоть бричку закладывать!
– Можно, наверно, – сказала Наташа, не отворачиваясь от окна.
Захарьич тяжёлыми шагами вышел из комнаты. Куда он пошёл? Не всё ли равно, если ничего уж не сделать?
Улица полнилась народом.
Летели со всех ног горожане – пока немного, но с каждою секундой всё больше становилось их. Мещанки в пёстрых одеждах собрались у крыльца одного из домов и, размахивая руками, обсуждали что-то. Уже показались экипажи – неуклюжий дормез катился по мостовой, и врассыпную разбегались от него люди. Яркая картинка, точно на лаковых шкатулках, разворачивалась театральным действием – трудно было поверить, что всё это происходит наяву.
Дым застилал небо. Оно чернело грозовой тучей, багровые всполохи временами окрашивали его, точно весь город предали геенне. Купола храма отражали языки пламени – ярко-оранжевые, казались они раскалёнными углями.
Наташа схватилась за кромку подоконника – так крепко, что выступали красные прожилки на сгибах пальцев.
Ядро влетело в дом напротив – пробило крышу. Жёлтую краску пронзила молния трещины, облачко пыли смешалось с чадом и пеплом. Наташа охнула, отшатнулась от окна и невольно взглянула на потолок.
Маленькая чёрная муха билась о стекло, и в перерывах между канонадами её жужжание звучало тихо и жалобно.
«Не вылетит, – подумала Наташа. – И я не уеду отсюда». Холодная испарина выступила на лбу: безысходностью и отчаянием веяло от этой догадки. Неужто – конец? И прекратится её жизнь? И ничего больше не будет – только вечная пустота, и холод, и покой?..
«Господи! – взмолилась она. – Ужели не изменить этого?» За что, в самом деле, выпало ей столько несчастий?
Она вдохнула и выдохнула, стараясь рассуждать более здраво, – но только ничего, кроме вопросов и стенаний не шло на ум.
– Бричка готова! – возвестил камердинер, войдя в комнату, и прибавил: – Скорее, кабы не слишком поздно было!
Наташа с трудом оторвала взгляд от окна и последовала за Захарьичем – как во сне, когда надобно скрываться от чудовища, а ноги едва повинуются тебе.
III
Нет ничего хуже езды на своих – на долги́х – лошадях в конце августа, да ещё и в открытом экипаже. Дорогу размывает, холодные капли дождя и брызги из-под колёс летят в лицо, и конца путешествия ждёшь уже не как подарка – как избавления от несправедливо наложенной кары.
Бричка снова увязла в грязи, дёрнулась и остановилась.
Захарьич и кучер кряхтели, ругались сдавленным шёпотом, высвобождали колесо из наполненной вязким месивом ямы. Если б не этот противный мелкий дождь, давно бы они добрались до дому! Если б не он, Наташа бы не продрогла и не простыла, и отяжелевшая голова не ныла бы так сильно.
А если б не треклятые перемены в её жизни – как было бы хорошо!
Роились воспоминания – навсегда ушедшее оживало в сердце, и красочные образы затмевали унылое настоящее.
…Четвёрка почтовых лошадей, мчащих карету в Петербург, туманным видением предстала перед Наташей. Несколько лет назад ехали они с отцом в столицу – благословенное время, беспечное, счастливое, далёкое.
Всё ей было в диковинку. Широкий бульвар с липовой аллеей посередине, по которому они гуляли чуть ли не каждый день, манил своею оживлённостью. Незнакомые лица – увидишь их на секунду и больше не встретишь – совсем не то, что выученные наизусть физиономии дворовых. Наташа смотрела на прохожих, оборачивалась и провожала их глазами; пусть их думают, что хотят о её воспитании – когда-то она ещё увидит эту бурлящую толпу?
…Алый бархат театрального занавеса поднимался, открывая просторную сцену. Музыка, оглушительно-громкая, обволакивала Наташу, унося ту в невиданные дали. Плакали скрипки, ликовали трубы, литавры бились, как сердце в минуту беспокойства. Дидло и Семёнова, Фингал и Федра, балеты, трагедии, водевили между ними – как не удивляться, как не восхищаться – и как позабыть теперь то, что, верно, никогда уж не повторится?
…Мириады янтарных огней, отражаясь в зеркалах, освещали бальную залу. Золотые подсвечники, золотые снурки на доломанах и эполеты, золочёная лепнина на стенах сияли лучами восходящего солнца, а беломраморные колонны устремлялись ввысь, и их капители казались совсем крохотными.
– Почтите меня танцем с вами!
Кавалер кланялся ей, Наташа приседала в глубоком реверансе, и мазурка или котильон начинали кружить их по начищенному паркету. Полонезы Наташа не любила: слишком медленные и чопорные танцы не годятся, когда недели через две придётся покинуть столицу и хочется насладиться кипящей жизнью – не размеренно бегущими водами широкой реки, а бушующими морскими волнами.
Наташа знала, что Нева иногда выходит из берегов, ревёт, мечется, точно живая, – Неман в родных Радунишках ни разу не разливался так сильно. Только тогда лёд сковывал столичную реку, и воды её не лизали гранитных набережных. А как хотелось взглянуть на эдакие перемены! Спокойствие решительно не нравилось Наташе – движение и волнение куда лучше его!
…Когда завершался бал или театральное представление, стояла поздняя ночь. Мотыльки снежных хлопьев поблёскивали в свете масляных фонарей, а затем опускались на воротник отцовской шубы, покрывая его перламутром. Тёмно-синее небо куполом накрывало город, заснувший, но готовый через несколько часов проснуться вновь, чтобы начать новый день – веселее, ярче, счастливее предыдущего.
А теперь?
А теперь мышастое небо давило, – пожалуй, больше пуда весило оно, – опускало облака на макушки деревьев. Вместо галантного кавалера на козлах теснились Захарьич, казачок и кучер. И Наташа не знала, что сулил ей завтрашний день – как не знала, что случится в следующий час.
Случиться могло многое.
– Фельдфебель вчера проезжал, – рассказывала смотрительша на одной из станций, удивлённо поднимая брови, – уж такого наговорил, заснуть страшно! Не токмо французы почту грабят, – крестьяне бунтуют!
Каждую минуту Наташа озиралась по сторонам – не видно ли кого? Положим, ей самой всё одно, но жалко было слуг, которые бы тоже пали от руки разбойников… А может, Лохматые Горы уже разграбили? А может, брата убили? А может?..
Найди она ответы на эти вопросы, легче бы ей не стало. Она была почти уверена в том, что хоть на один из них будет положительным – и что с нею станется?
Но были и вопросы, ответы на которые узнать хотелось.
Зачем в Наташиной жизни был Петербург – да и для чего, в сущности, была вся её прежняя жизнь? Она так разительно отличалась от жизни нынешней, что Наташа, наверно, могла бы поверить, будто всё это прочла в романе.
Не затем ли Фортуна показала Наташе, каково настоящее – или кажущееся таковым Наташе – счастье, чтоб посланное злосчастие оказались совсем непосильными?
Или наоборот – мойра перепутала нить затем, чтоб Наташа оценила то, что казалось ей обыденностью?
Любое из этих предположений, окажись оно правдой, означало бы испытание… Испытание – и очищение. Правда, она не знала, от чего ей надобно очиститься; только всякое очищение ведёт к одному – к концу.
Темнота, что ожидала её там, уже не казалась Наташе такой уж неприятной возможностью. Вечное спокойствие куда лучше непрестанного страха.
– Смотрите, барышня! – обернулся к ней Захарьич. – Вот и Горы!
Наташа выглянула из-под козырька. Бричка, действительно, миновала кованую ограду и въехала в приусадебный парк – стволы берёз колоннами поднимались к небу. Колёса застучали по мощёной аллее,
Проехали беседку возле заросшего пруда. Оранжевые настурции покинули клумбы и пятнами расцвечивали поникшую траву. Вдалеке виднелась кухня – и уже показывался большой дом.
Неведомой тоской защемило сердце; Наташа уезжала отсюда пятилетней девочкой, не знающей хлопот. Почему-то ей казалось, что тогда всегда сияло солнце – зелёные ли широкие листья клёнов освещало оно или переливающиеся сугробы. А больше ничего она и не помнила – только прогулки с нянькой по полям, лесам и парку.
Мелькнуло что-то малиновое – ужели человек, и опасения Наташи оправдались? Наташа увидала ещё одного человека. Ужели их там несколько – и с ними будет не совладать им? Она задрожала не от холода – от тревоги.
Малиновое – с синим!
Наташа обмерла и затаила дыхание… Мысли о конце улетучились, точно не было их; вернее, они остались, но приняли противуположное направление. Конец, приблизившись, перестал казаться желанным, а жизнь, которую Наташа по сю пору считала обузою – сделалась отрадою, потерять которую так не хотелось.
Синие мундиры носили французы. Встреча с ними – верная погибель.
«Назад», – хотела было приказать она, но язык не слушался. Оставалось надеяться на благоразумие слуг.
Ни кучер, ни Захарьич не тревожились – по меньшей мере не выказывали чувств. Бричка неслась, взмыленные разгорячённые лошади храпели и неслись – Демофонт приближался к смерти своей, не подозревая её.
Осталось меньше полуверсты, и всё меньше саженей отделяло Наташу от французов. Она зажмурилась – хоть не видеть их, хоть в воображении избавиться от угрозы, – и даже закрыла лицо ладонями, намокшими не от дождя, но от выступившего пота.
Слова молитвы срывались с похолодевших губ – оставалось только надеяться на милость Господа. Да не покарает длань твоя Наташу, да не окажется гибель мучительной… Господи, сохрани и помилуй – помоги рабе своей!
IV
Бричка замедлила ход, плавно остановилась.
Наташа сидела не шелохнувшись и не решалась отнять руки от лица. Наверно, так чувствует себя попавший в силки зайчонок или воробей, которого вот-вот схватит кошка. Покорность судьбе – «Будь что будет» – и вместе с нею отчаянное нежелание покоряться причудливо смешивались, рождая в душе Наташи чувство, доселе неизвестное ей. Если б не страх, она, пожалуй, даже насладилась им – таким непривычным, похожим на радостное ожидание, когда все члены легонько трепещут, а дыхание чуть замирает.
Звенящую тишину прервало покашливание. Разрывающиеся ядра в Смоленске напомнило оно Наташе – так же несло оно гибель и такое же вызывало смятение.
Наташа открыла глаза и обернулась. Дыхание прерывалось, и слышны были глухие удары сердца.
Подле брички стоял, заглядывая под опущенный кожаный козырёк, мужчина – не то что бы старый, но уже с заметной проседью в усах и тонкими лучиками морщин возле век. Смуглое скуластое лицо его делалось ещё шире от добродушной улыбки.
1
Мальчик-слуга в усадьбе, одетый наподобие казака. Ничем, кроме костюма, с казаками не связан.
2
Наталья, дорогая моя! (фр.)
3
Ваш брат (фр.)
4
Любовное? (фр.)
5
Дружочек (фр.)